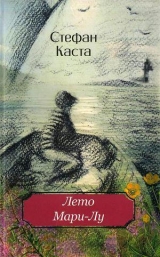
Текст книги "Лето Мари-Лу"
Автор книги: Стефан Каста
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Ради приличия я посвящаю его в детали. Тогда он торопится на птичий двор и охает, глядя на заляпанные подлокотники инвалидного кресла. Вытирает их газетой. Качает головой над черными пятнами на одежде Мари-Лу. Помогает убрать скорлупу из волос Бритт. Разговаривает с обеими успокаивающим тоном.
Я сижу во дворе и наблюдаю на расстоянии. Мимо меня неторопливо прохаживаются Сив и Рут. У них появился шанс провести день на свободе. Они останавливаются и что-то кудахчут, словно торопливо высказывают свою точку зрения по поводу произошедшего.
– Худшее уже позади, – говорю я.
* * *
Бритт быстро успокаивается. На самом деле она не злопамятная. Да, она может пошуметь, потому что по природе импульсивна, и часто ведет себя глупо. Но она быстро раскаивается. Она знает, что может зайти слишком далеко. Скорее всего, жизнь уже преподала ей этот урок.
И вот теперь она просит прощения у Мари-Лу. Сидит на корточках перед ней и держит в руках ее руку. Мне кажется, ей лучше всего вообще уйти. Оставить Мари-Лу в покое.
Мари-Лу очень расстроена. Долгое время она сидит и тихо плачет. Затем вдруг начинает реветь во весь голос, и мы с папой срываемся со своих мест, отправляем Бритт подальше, а сами садимся рядом с Мари-Лу. Я думаю, она проплакала почти час, прежде чем наконец успокоилась.
Тогда папа идет к Бритт, и мне становится интересно, как он собирается улаживать с ней эту проблему.
– Я хочу домой, – говорит Мари-Лу.
Наверное, она права. Нам с Мари-Лу действительно лучше всего вернуться в Стокгольм. Как только эта мысль приходит мне в голову, я чувствую, что и правда соскучился по городской жизни. До начала занятий осталось меньше недели, и многие мои друзья уже наверняка вернулись. Можно было бы вместе сходить на стадион Сёдер и посмотреть на игру клуба «Хаммарбю».
Или сводить Мари-Лу в парк аттракционов? Хотя нет, в этом я не совсем уверен. Лучше всего сходить в Национальный музей. Там есть картины, которые я хочу показать ей.
И все-таки я чувствую, что не хочу уезжать. Не сейчас. И не так. Это лето заслуживает лучшего конца.
– Давай немного подождем с отъездом, – предлагаю я. Папа и Бритт выходят из дома, и я понимаю, что мирные переговоры завершены. Они присаживаются около нас.
– Мы с Бритт возвращаемся в город завтра утром, – говорит папа. – Все равно мне нужно работать в воскресенье. Я приеду за вами в пятницу и отвезу домой.
– Что скажешь, Мари-Лу? – спрашиваю я.
Она задумывается и кивает.
– Прекрасно, пап, – говорю я.
– В выходные будет дождь, – говорит Бритт.
* * *
Когда мы остаемся снова одни, не знаем, чем заняться. Мы долго стоим у калитки и слушаем, как постепенно вдали замирает гул мотора. Папа и Бритт уехали. До нас снова доносится лишь спокойное дыхание леса, и я с облегчением вздыхаю. Все снова как обычно. Мари-Лу и я.
– Что будем делать? – спрашиваю я.
– Не знаю, – отвечает она.
Я понимаю по ее тону, что все не так, как обычно. Но притворяюсь, что не замечаю этого. Мне так хочется, чтобы последние дни каникул запомнились нам чем-нибудь особенным. Чтобы все стало как прежде.
– Может, искупаемся? – предлагаю я. – Давненько я не плавал. А вдруг я разучился? Вдруг у меня здесь не получится?
Но Мари-Лу не смеется. Она разворачивает кресло и едет к дому. Я иду рядом.
– Все-таки хорошо, что она уехала, – говорю я.
– Да, – говорит Мари-Лу.
Сегодня она явно не в духе, на мои вопросы отвечает односложно. Я скачу вокруг нее и предлагаю то одно, то другое. Чувствую себя все больше и больше своим папой. Но ничего не помогает. Мари-Лу ничем не проймешь. Наконец, я сдаюсь. Оставляю ее в покое. Беру свой альбом и иду к мосткам. Сажусь на самом краю, скрестив ноги. Поверхность озера блестит на солнце, глубина кажется бесконечной. Я вижу песчаные бороздки, зеленых окуней, затаившихся в тени широких досок мостков, черные шишечки ольхи, перекатывающиеся по дну, когда дует ветер.
Я медленно вожу графитом по мягкой бумаге. Собираю все давно знакомые линии в общую точку на горизонте. Прищурившись, смотрю в сторону Нордена, где отливают золотом поля спелой пшеницы, на каменистое острие северного мыса и прямоугольный силуэт Фьюка. Миражи заставляют все это парить над водой. Словно весь мир встал на цыпочки.
Я работаю довольно быстро и, когда рисунок готов, пристально вглядываюсь в него. Мне кажется, этот пейзаж немного отличается от других моих работ. Возможно, в нем что-то есть, какой-то вопрос или чувство. Подумать только, неужели я, наконец, научился изображать то, что не видно! Но следом меня одолевают сомнения, и начинает казаться, что это всего лишь очередной полуудачный набросок.
* * *
Мари-Лу спускается к мосткам. Ее коляска подкатывает ко мне. Некоторое время она молча сидит и пишет в тетрадке с коричневой обложкой. Затем заглядывает мне через плечо и смотрит на рисунок. Я ставлю внизу листа подпись: « Адам О. Пятое августа».
– Как красиво! – говорит она.
– Тебе нравится?
Она протягивает руку:
– Можно посмотреть?
Я даю ей альбом, и она долго рассматривает пейзаж. Затем поднимает взгляд и смотрит на озеро, словно сравнивая картину с натурой.
– Ты чудесно рисуешь, Адам, – говорит она. – Все такое реальное, даже лучше.
Она принимается листать альбом, медленно и задумчиво переворачивая страницу за страницей. Надолго задерживает взгляд на каждом рисунке. Я вспоминаю, как однажды в начале лета показывал ей свой альбом. Как быстро и невнимательно она просматривала рисунки. Так листают прочитанную газету.
Я замечаю, что она приближается к той части альбома, в которую ей нельзя заглядывать, и торопливо выхватываю у нее альбом.
– Дальше тебе нельзя смотреть, – говорю я. – Это сюрприз.
– Какой же ты зануда, – говорит Мари-Лу.
– Это не просто глупая прихоть, Мари-Лу. Я должен быть с картиной один на один, пока не закончу. Тогда и посмотришь.
– Долго еще ждать?
– Все зависит от тебя, – отвечаю я. – Если захочешь позировать, тогда это не займет много времени.
– А сейчас ты можешь рисовать?
– Да, если хочешь.
* * *
Мы сидим на нашем обычном месте на берегу под ольхой. Я чувствую вдохновение. Немедленно приступаю к работе. Понимаю, что за это лето я начал кое в чем разбираться: как в рисовании, так и в Мари-Лу.
Сегодня у нее другое лицо. На Фьюке оно было мягким и живым. Гордым и одновременно расслабленным. Как у женщин-туземок. Во всяком случае, так я их себе представляю.
Теперь в ее глазах отражается нечто иное. Какая-то печаль. Я догадываюсь, что она мысленно вернулась к реальности. К сложным серым будням. К тому, что составляет нашу ежедневную жизнь со всем хорошим и со всем плохим.
Я замечаю, что меня совсем не беспокоит ее изменчивое выражение. Я уже знаю ее лицо. Кроме того, я научился узнавать разные стороны личности Мари-Лу, которые выныривают передо мной. Я гляжу сквозь них, наконец-то!
Но одна мысль не дает мне покоя: странно, каким непохожим и разным может бывать один и тот же человек. Как сильно может измениться одно и то же лицо за день или даже за час. Утром мы одни, а вечером – совершенно другие. Может быть, мы – своеобразный коллаж, составленный из разных личностей, уживающихся в нас самих, и других поколений? В Мари-Лу, например, уживаются черты личностей ее мамы и папы, Ирьи и Бьёрна. Их мысли, чувства и мечты. Она – их мечта. Но в ней, конечно же, присутствуют черты бабушек и дедушек и даже несколько капель от прабабушек и прадедушек.
Всегда ли люди были такими сложными? Или с каждым поколением, с каждой личной драмой эти черты слабеют?
Вот о чем я размышляю, пока рисую ее портрет. Я откладываю карандаш и вытягиваю затекшие ноги. Отхожу на несколько метров от стула и рассматриваю Мари-Лу.
Это грустноватое выражение придает ее образу некую ранимость и особую прелесть. Красивее, чем сейчас, я, кажется, никогда ее не видел. В памяти всплывает фраза, услышанная мной на уроке. Как-то раз мы тренировались рисовать друг друга. Гунилла Фаландер сказала: «Совершенные люди абсолютно скучны, именно наши ошибки и недостатки делают нас интересными». И только сейчас я понял, что она имела в виду.
– Ты сегодня прекрасно выглядишь, – говорю я Мари-Лу.
– Спасибо, – лишь говорит она.
– Лучше, чем Мона Лиза.
Она смеется. Ну, наконец-то!
* * *
Через некоторое время мы отправляемся загорать. Чтобы отпраздновать факт, что папа с Бритт сейчас уже на полпути к Стокгольму, мы раздеваемся и оставляем одежду в густой тени зарослей ольхи. Мари-Лу сидит в коляске, а я разбегаюсь, чтобы завезти ее прямо в воду, как вдруг она поднимается и говорит:
– Я хочу пойти сама.
– Хорошо, – соглашаюсь я.
Я помогаю ей встать с кресла и как обычно поддерживаю за талию. Затем мы медленно и обстоятельно, дециметр за дециметром, идем по раскаленному песку. Мне кажется, в этот раз получается хуже, чем раньше. Мари-Лу постоянно останавливается. Мы делаем еще одну попытку, но ее ноги не хотят идти. Я понимаю, сегодня плохой день. Так будет всегда: хорошие дни чередуются с плохими днями.
Я поднимаю ее на руки и захожу в воду, пока она не достигает мне талии. Тогда Мари-Лу высвобождается из моих рук и ныряет. Я следую ее примеру и делаю несколько гребков руками. В этот раз я не задумываюсь, получится у меня или нет, просто плыву и не останавливаюсь. Взмахиваю то правой, то левой рукой, вытягиваю их перед собой, перебираю ногами. Заметив, что проплыл довольно приличный отрезок, я встаю ногами на дно и поднимаю правую руку.
– Я умею плавать! – кричу я.
Мари-Лу смеется, пока не наглатывается воды, и я вынужден поспешить к ней на помощь. Потом мы снова медленно бредем к берегу, и вода кажется совсем теплой.
– Давно не было так жарко, – говорит Мари-Лу.
– Согласен, – отвечаю я. – Подходящее лето, чтобы научиться плавать.
* * *
Несколько лет назад я смотрел передачу, в которой ведущие звонили в дверь какой-нибудь знаменитости, заходили прямиком в кухню, заглядывали в холодильник и готовили разные блюда из того, что там находили. С ними был настоящий повар, но знаменитости об этом не подозревали. Иногда у повара получалось настоящее праздничное блюдо из заплесневелого сыра и нескольких сморщенных морковок.
Я рассказываю об этом Мари-Лу, когда мы стоим у раскрытого холодильника. Она не помнит такой передачи.
– Вот бы нам сейчас такого повара, – говорю я.
В холодильнике есть кое-какие продукты. Три упаковки бекона. Пакет сосисок для хот-догов. Остатки цыпленка гриль, покрытые белой плесенью. В ящике для овощей лежит увядший лук-порей. Я вспоминаю, что купил его, прежде чем мы отправились на Фьюк. Папе с Бритт следовало бы задуматься о том, чем они питаются.
В кладовке все по-прежнему. Я замечаю, что консервы расставлены гораздо аккуратнее, чем раньше. Каждая баночка стоит прямо у края полки. Я понимаю, что это дело рук Бритт. Я нахожу несколько новинок – равиоли и консервированные креветки.
– Давай устроим вечеринку, – предлагает Мари-Лу.
– Неплохая идея, – соглашаюсь я. – По какому поводу?
– Прощальную вечеринку. Лето закончилось. Это нужно отпраздновать.
– Что тут праздновать? Это же так грустно.
– Не все вечеринки обязаны быть веселыми.
Я вспоминаю, что, когда умерла бабушка, на ужин пригласили гостей. Гости были нарядно одеты, ели, пили, болтали и смеялись. Видимо, это были поминки.
– Мы устроим грустную вечеринку, – говорю я.
Мари-Лу приходит в восторг от такой идеи и, смеясь, говорит:
– Мы накроем стол черной скатертью и зажжем свечи, черные свечи.
– А что, такие бывают? – удивляюсь я.
– Ну, Адам! – говорит Мари-Лу усталым тоном и притворяется, что сердится на меня. – Иногда у тебя совсем нет фантазии. Ясное дело, мы их покрасим.
– Умно! – говорю я. – А мы будем есть что-нибудь черное? Например, горелую белую фасоль?
– Нет, фу, какая гадость!
Я исследую полки.
– Я знаю. Мы устроим вечеринку десертов. Здесь полно консервированных фруктов. Ананасы, персики, фруктовый коктейль. Кажется, где-то были груши в коньяке.
Мари-Лу задумывается. Видимо, эта мысль ей нравится.
– Но ведь они не черные, – наконец говорит она.
– Ну что ж, – вздыхаю я. – Придется покрасить банки.
* * *
Естественно, мы оба за то, чтобы устроить вечеринку на мостках. Это место не имеет альтернативы, это наше место. Когда я иду в сарай за черной краской, я чувствую, как мне на лоб падает несколько капель дождя. Я вглядываюсь в небо и вижу, что оно затянуто серыми тучами. Я пожимаю плечами. С трудом верится, что может пойти дождь, когда так долго стояла хорошая погода.
Я роюсь среди банок с краской Бритт и замечаю катушку черных целлофановых пакетов для мусора. Отрываю две штуки. Нахожу маленькую баночку черной быстросохнущей краски. «Два часа», – читаю я. Замечательно. Возвращаюсь из сарая в дом. Несколько дождевых капель падают мне на руку.
– Посмотри, что я нашел, – говорю я и разворачиваю перед Мари-Лу мусорные мешки. – Если их разрезать, получится черная целлофановая скатерть.
– Браво!
– Думаю, нам лучше остаться в доме. Будет дождь.
– Жаль.
– Так уютно сидеть дома, когда идет дождь.
На подготовку к нашей печальной вечеринке уходит немало времени. Я передаю Мари-Лу банки с фруктами, а она красит их, сидя за кухонным столом. Мы раздумываем над тем, что нам делать с тарелками, но затем приходим к общему мнению, что нам вообще не нужны тарелки. Будем есть прямо из черных банок.
– А вино? – спрашиваю я.
Мари-Лу кивает.
– Черное вино, – отвечает она.
Я выбираю бутылку «Мозельблюмхен» и ставлю ее на стол. Несколькими мазками кисти Мари-Лу превращает зеленую бутылку в черную. Фужеров в шкафу оказывается не так много, потому что папа обладает почти магической способностью отбивать им ножки, когда моет посуду. Вместо фужеров я беру две довольно потрепанные кофейные кружки. Когда Мари-Лу красит их в черный цвет, они становятся гораздо красивее.
Наконец стол накрыт и выглядит так фантастично, что я жалею, что у нас нет фотоаппарата.
– Это нужно сфотографировать, – говорю я.
– А ты нарисуй, – предлагает мне Мари-Лу.
– Это не одно и то же. Наш стол нужно именно сфотографировать.
– Выглядит действительно печально.
– Вечеринка начнется через два часа, – говорю я.
* * *
Темнеет рано. Я думаю, из-за дождя. А может, из-за того, что уже осень. Кажется, она наступила именно сегодня.
Начало вечеринки омрачается досадным недоразумением. Покрашенные черной краской свечи не хотят гореть. Они чадят и воняют, и мы вынуждены потушить их и заменить обычными белыми. Две белые свечи на фоне всего черного выглядят еще более стильно.
– Это ты и я, – говорю я Мари-Лу, зажигая свечи.
На Мари-Лу короткое черное платье без рукавов.
Я отыскал черные джинсы и темно-синюю футболку.
Мы садимся за стол. Царит атмосфера торжественности. Дождь усиливается. За окном льет как из ведра.
– Она ошиблась, – говорит Мари-Лу.
– На печальной вечеринке дождь как раз уместен, – говорю я.
– Я думала, она меня убьет.
– Бритт иногда как с цепи срывается. В детстве я ее ненавидел. Но она никому не желает зла. Она такая, какая есть, – придурошная недотепа.
– Все равно я терпеть ее не могу, – говорит Мари-Лу.
– Так приятно было бросить в нее яйцо, – говорю я. – Когда оно разбилось о ее башку, я почувствовал, что отомстил за часть ее гадостей.
Мари-Лу смеется:
– Я глазам своим не верила, глядя, как яйцо стекает по ее шее. Не думала, что ты способен на такое.
– Я тоже.
– Да, человек многое не знает о себе самом, – говорит Мари-Лу.
– За тебя, – говорю я.
Мы едим вилками из банок. Сладкий сок капает на черную скатерть. Мари-Лу безумно нравятся груши в коньяке. Я говорю, что никогда их не любил, и она съедает большую часть сама.
Я украдкой разглядываю Мари-Лу. Сначала ее коляска ввела меня в заблуждение. Потребовалось время, прежде чем я понял, в чем дело. Проблема не в ее физическом увечье. Сейчас дело в другом. Она получила иную травму. Что-то в ее душе сломалось, когда она потеряла веру в тех, кто был всем в ее детском мире: когда король изменил королеве, и принцесса заболела от горя. Вот что высасывает ее силы. Но душевная травма словно уходит на второй план и прячется в тени внушительной инвалидной коляски.
* * *
– О чем ты думаешь? – спрашивает Мари-Лу.
– О тебе.
– Обо мне?
– Да, и о себе.
– Обо мне и о себе?
– Да, о тебе, о себе, о грушах в коньяке и об отшельнике с Фьюка.
– Обо мне, о себе, о грушах в коньяке и об отшельнике с Фьюка? Что же тут общего?
– Много чего. Особенно теперь.
– Вот как.
– Но иногда я вспоминаю и о твоем отце. Ты бы навестила его.
Мари-Лу смотрит в окно. С внешней стороны по нему медленно стекают струйки воды. С внутренней стороны стекло совсем запотело от нашего дыхания. Мы ничего не видим. Нас тоже не видно.
– Я знаю, – наконец говорит она. – Я его обязательно навещу. Но не в этот раз.
– Потому что он не хочет?
– Да. Потому что он не хочет, и потому что я не хочу.
– Я не уверен в том, что ты права. Конечно же, он хочет увидеться с тобой.
– Да, я тоже это понимаю. Но он должен воспользоваться шансом, чтобы сначала изменить свою жизнь. Привести в порядок себя самого. Вот что он имеет в виду.
– Возможно, у него получится, если он увидит тебя.
– Он не думает, что в этом есть смысл, пока он ведет такую жизнь.
– А ты позволяешь ему так думать. Ты ничего не делаешь, чтобы ситуация изменилась.
– Адам, он же пьет!
– В этом нет ничего странного, – говорю я. – Многие люди пьют. Но ведь он – твой отец.
Мари-Лу не отвечает. Мои слова звучат банально. Я чувствую, что должен пояснить, что имел в виду.
– Некоторые взрослые совсем как дети, – говорю я. – Они как маленькие. У них такие же сильные чувства и такие же слабости. Они так же радуются и испытывают смертную тоску. Посмотри на Бритт Бёрьессон, она…
– Давай не будем сейчас о ней говорить!
– Мы говорим не о ней. Мы говорим о тебе и твоем папе.
* * *
Последнее время, что мы проводим вместе, не похоже на наше лето. Идет дождь. Когда днем случается перерыв, я иду в лес Бауэра за грибами. И нахожу их там. А потом снова льет дождь.
Мари-Лу в основном сидит в доме. Двери автофургона и калитка птичьего двора настежь раскрыты, но Сив и Рут тоже не хотят выходить.
Я спускаюсь к мосткам, чтобы вычерпать из лодки дождевую воду. В этот раз я чувствую себя совсем иначе. Раньше это была обычная лодка, одна из множества себе подобных. Теперь же это – «Черная чайка», судно, побывавшее в передряге.
В такую погоду мне трудно работать над портретом Мари-Лу. Мы пробуем в доме. Она сидит в кухне, но искусственное освещение все портит. Честно говоря, я мог бы закончить портрет и без нее. Все уже есть во мне.
Я заканчиваю цветы иван-чая и фон.
Иногда я думаю, что мы могли бы навестить Бьёрна. Но что-то меня останавливает. Все не так просто. Я это понимаю.
– Я хочу домой, – говорит Мари-Лу.
– Папа заедет за нами в пятницу.
– Я хочу уехать раньше. Я хочу сейчас.
Я еду на велосипеде в «Вивохаллен», хочу позвонить маме Мари-Лу. Моросит. Приехав, я обнаруживаю, что забыл телефонную карточку, но Линда, мой верный друг, позволяет мне взять карточку в долг.
– Приедешь сюда и расплатишься как-нибудь в другой раз.
– Спасибо, Линда, – говорю я.
Когда я беру карточку, я впервые смотрю на Линду. Она улыбается мне. Немного стесняется. У нее красивые глаза.
– Спасибо, – еще раз говорю я. – Я обязательно заеду.
Ирьи нет дома, и я несколько секунд раздумываю, что делать, пока автоответчик говорит свое обычное «к сожалению, сейчас никто не может ответить на ваш звонок, поэтому оставьте сообщение». Это голос Мари-Лу, странно слышать его на другом конце провода, зная, что она сама находится здесь. Я набираю побольше воздуха в легкие и выпаливаю:
– Здравствуйте, это Адам. Я хотел бы узнать, не могли бы вы приехать и забрать Мари-Лу, потому что она хочет домой. У нас все здорово и… да, я надеюсь, вы сможете забрать ее. До свидания… нет, кстати, Мари-Лу передает вам огромный привет… До свидания.
Когда я возвращаюсь домой, дождь наконец заканчивается. Зато дует сильный встречный ветер.
* * *
На следующий день в обед приезжает Ирья. Она не на своем «Гольфе» цвета ночного неба, а на желтом «Рено Мегане». Я с трудом узнаю ее. Она выглядит моложе и красивее. Можно сказать, здорово выглядит. На ней красный костюм и черные туфли, в глазах – спокойствие и уверенность.
– Здравствуй, Адам, – говорит она. – Очень приятно снова видеть тебя.
– Спасибо, – отвечаю я. – Мне тоже.
Она обнимает Мари-Лу и долго стоит, склонившись над ней и коляской.
– Хотите перекусить? – спрашиваю я.
– А что, у вас что-то есть?
Я раздумываю несколько секунд.
– Как насчет омлета с креветками?
– С удовольствием.
Пока я готовлю, Ирья ходит по двору рядом с Мари-Лу. В окно я вижу, как Мари-Лу показывает ей разные вещи. Они останавливаются на минутку около Сив и Рут. Выглядывает солнце, я выхожу из дома во двор, насухо вытираю садовую мебель и накрываю на стол. Делаю салат из помидоров и огурцов.
Ирья говорит, что все изумительно вкусно.
– Адам – настоящий повар, – говорит Мари-Лу. – И художник. Он нарисовал мой портрет, но еще не закончил.
– Я помню, у тебя с раннего детства были способности к рисованию, – говорит Ирья.
Я встаю из-за стола и иду в дом. Возвращаюсь назад с портретом Мари-Лу. Я завернул его в газету и обвязал шнуром.
– Теперь все готово, – говорю я. – Я закончил его ночью.
* * *
Вскоре мы расстаемся. Я отношу ее вещи в машину. Мари-Лу крепко прижимает к груди свой сверток. Я говорю, что мы можем увидеться в городе. Однако мы оба догадываемся, что, скорее всего, больше не встретимся. И следующим летом тоже. Нам обоим требовалось навести порядок в своей жизни. Теперь это сделано. Больше мы ничего не можем сделать друг для друга.
Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе. Чтобы у нашего фильма был другой конец. Счастливый, как в настоящих фильмах. Но в жизни не всегда так.








