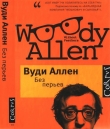Текст книги "Три обезьяны"
Автор книги: Стефан Игаль Мендель-Энк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Окно было приоткрыто. Раввин встал и принялся ходить взад-вперед за своим стулом. Телефонный шнур зацепился за край письменного стола, и раввин сильно потянул трубку. Большой торшер стал заваливаться. Телефон завис над письменным столом, опрокинув коричневую пластмассовую кружку, до краев наполненную кофе. «Fucking проклятье», – шипел раввин, а кофе лился на его письменный стол, на груду бумаг рядом с пишущей машинкой, на раскрытые книги и лежащий рядом блокнот.
Он продолжал ругаться, прижимая трубку плечом и спасая бумаги. Одновременно он прикладывал большие усилия, чтобы заверить собеседника на другом конце провода в том, что его ругательства адресованы не ему или ей. «Это кофе, я залил кофе всю мою контору», – сказал он, вытерев стол грязной футболкой, которую нашел в книжном стеллаже.
Он разложил на подоконнике залитые кофе бумаги. Когда там не осталось места, мы стали класть бумаги на сухие места на полу.
«Не знаю», – сказал раввин и неохотно потянулся к пустой пластмассовой кружке.
«Instant coffee[55]55
Растворимый кофе (англ.).
[Закрыть], – продолжил он. – Из the machine»[56]56
Из автомата (англ.).
[Закрыть].
А потом добавил:
«Черный».
И еще:
«Две-три. Никогда more than four»[57]57
Не больше четырех (англ.).
[Закрыть].
С другого конца последовала длинная тирада, и раввин закричал в ответ, что он двадцать лет пьет черный кофе и что никаких проблем с желудком у него нет, а затем добавил что-то на иврите и швырнул трубку.
* * *
«Но ведь ты все равно придешь в субботу», – сказал папин папа, когда я позвонил и сообщил, что умерла мамина мама.
Другой реакции я от него и не ждал. В свою очередь он, вероятно, тоже не ждал от меня ничего другого. Он знал, что, вздохнув, я отвечу: «Может быть, посмотрим», но все равно выразил удивление, словно мы в первый раз обменивались этими репликами. «Посмотрим? Надеюсь, ты шутишь, Якоб? Посмотрим?»
Я даже не попытался защититься. Как мне было объяснить ему, почему я не хочу идти в синагогу, не затрагивая запретные темы?
В его голосе звучала сдерживаемая злость. Я на самом деле имел в виду то, что сказал. Я не исключал, что пойду, как часто делал раньше, но дедушке этого было недостаточно. «Может быть» его не устраивало, и начав пить из колодца разочарования, он жаждал еще и еще. «Ты хотя бы успеешь навестить мамэ?» – спросил он агрессивно, и мне пришлось отвернуться, чтобы он не услышал, как я опять вздыхаю. Я отставил трубку и держал ее так, пока не собрался с силами, чтобы нанести следующий удар:
«Да, может быть, посмотрю, потому что»… Остальной разговор состоял из одних коротких фраз. Я хотел положить трубку, чтобы начать биться головой о стенку. Он хотел положить трубку, чтобы позвонить Ирен и поделиться с ней своим возмущением. «Даже когда его собственная бабушка… И кто будет читать надо мной в тот день, когда я… Он будет раскаиваться, поверь мне, всю свою оставшуюся жизнь он будет раскаиваться».
* * *
Какой бы большой кусок торта ни запихивал в себя папин папа, этот кусок всегда казался на грани возможностей его рта. Когда дедушка жевал, щеки превращались в шары, а губы – в красно-синий круг, который с упоением вращался под кончиком носа.
В таких обстоятельствах ему было трудно говорить. К тому же его словам приходилось конкурировать со всеми непроизвольными звуками, которые он издавал во время еды. Каждая часть его тела чмокала от наслаждения, все органы хотели выразить свою оценку тому, чем он их наполнял.
Иногда за их кухонным столом, когда дедушка сидел рядом со мной, а мамэ наискосок напротив, мне казалось, что я нахожусь в экспериментальной акустической лаборатории. Дедушка хрюкал, мамэ прихлебывала, и с паузой в несколько секунд через стол перелетали отравленные стрелы. Хрюк, хрюк… чмок, чмок… misshigginer. Хрюк, хрюк… чмок, чмок… misshigginer[58]58
Идиот (идиш).
[Закрыть].
Мамэ всегда выглядела старше своих лет. Как физические, так и психические, как реальные, так и воображаемые недуги одолевали ее сильнее, чем любого из моих бабушек и дедушек. Иногда поздно ночью она звонила папе, кашляла в трубку и просила его побыстрее приехать, поскольку скоро все кончится, она чувствует, что смерть идет за ней, что она может протянуть руку и дотронуться до пальцев своей мамы, вот как близко она к тому свету. Даже если это были явные преувеличения, по негласному прогнозу она должна была уйти первой из четырех. Но словно по Божьей ошибке она все еще сидела у окна своей комнаты на втором этаже еврейского дома престарелых, вытянув нижнюю губу и положив руку на круглый комод. Она пережила мою другую бабушку и наверняка твердо решила пережить двух дедушек.
Впервые я обратил внимание на то, что у нее все больше путается сознание, как-то вечером за несколько недель до рождественских каникул в девятом классе. Мы с Миррой приехали к ним на автобусе и сидели рядом за кухонным столом, а мамэ мешала что-то в кастрюлях. Она стала говорить, что каждый из нас получит по сюрпризу, когда дедушка вернется домой, как вдруг посреди предложения повернулась к нам и, глядя куда-то вовнутрь себя, пробормотала длинную, непонятную фразу. Мамэ простояла так, может быть, одну-две минуты, а когда очнулась, словно забыла то, что произошло в последние часы.
«Надо же, любимые киндлах, вы здесь?»
Она не хотела переезжать в дом престарелых. Сразу после того случая, когда она звала меня вытирать посуду, она перестала обсуждать маму и маминых родителей. Вместо этого она шепталась о дедушке и тете Ирен. Ты должен мне помочь, говорила она. Они хотят от меня избавиться. Послушай только, что они придумали. Я говорил ей, что они не врут, что мы с Миррой тоже наблюдали ее приступы, и она вроде бы верила: что ты говоришь, – произносила она, приложив к нижней губе палец в мыльной пене, похожий на соленый огурец, что ты говоришь, – но спустя всего лишь несколько минут опять все забывала и возвращалась к теориям заговора.
Как-то раз, когда дедушка отвозил нас домой, он остановил машину за два квартала до нашего дома, сильно потер ладонью расцарапанную щеку и сказал, что, пожалуй, с мамэ все образуется и в конце концов она согласится переехать.
* * *
В последний раз, когда я был в доме престарелых, мне удалось дойти до комнаты мамэ и проделать обратный путь, не столкнувшись ни с кем из прошлой жизни. Делая вид, что я полностью занят мобильником, я вышел из вестибюля, а дальше мимо маленькой парковки, вниз под горку в сторону города, и уже было подумал, что опасность миновала, как поднял глаза и через переднее стекло черного «Мерседес SL 500» увидел глаза Берни Фридкина.
Машина проехала мимо меня еще несколько метров и только тогда остановилась. Открылась дверь, и из нее вышел Берни. Выглядел он шикарно. Темно-бежевое пальто немного ниже колен, серебряные перышки в волосах и толстая цепь на руке, которая приглашала меня в машину.
Немного позже Берни пододвинул мне кружку темного пива и сказал, что они с Юнатаном обычно пьют этот сорт. Юнатан жил теперь в Нью-Йорке, и каждый раз, когда Берни его навещал, они пили темное пиво в своем коронном месте рядом с какой-то замечательной бла-бла-бла square. Ага, отозвался я, пытаясь передать интонацией, что якобы знаю, что он имеет в виду.
Ему было что рассказать о Нью-Йорке и Юнатане, и это меня вполне устраивало. Я мог откинуться назад, сквозь стекло смотреть на людей, которые делали покупки в рождественской суете, и забавляться, мысленно передразнивая хвастовство Берни. Когда он пошел в туалет, я не преминул пройтись по карманам его пальто, висевшего на спинке стула. Помимо ключей и ежедневника, который я, к сожалению, не успел пролистать, я нашел блестящую темно-бордовую кипу. На внутренней стороне было написано:
СУСАННА И ЙОРАМ
16 августа
ПАЛАС ОТЕЛЬ
Иерусалим
Надпись вызвала у меня раздражение, но я не понял, почему. Случалось, что я окольными путями узнавал о старых приятелях: кто-то обручился, а кто-то поступил куда-то учиться, но меня это не трогало. У них была своя жизнь, у меня – своя. Я был уверен, что не выдержал бы и десяти секунд ни на одном из их торжеств. Так какой мне смысл сейчас беспокоиться?
Это была не ревность, а нечто другое. В замужестве Санны Грин была какая-то провокация, вот что меня задело.
Мы допили пиво, Берни расплатился и предложил меня куда-нибудь подвезти. Я отказался, и он попросил меня передать привет Мирре и Рафаэлю, опять заметив, как давно мы не виделись. Мы попрощались так, что было ясно, что мы не увидимся еще столько же. Берни пошел к машине, а я в противоположном направлении, мимо витрин, через трамвайные пути, через парк Бруннспаркет к площади Дроттнингторгет, и понял, что оказался не в том городе. У канала не было ни общинного дома, ни синагоги со светло-зелеными куполами. Я находился в каком-то другом месте, о котором только слышал и про который думал, что никогда туда не попаду.
Это был Вестерос.
* * *
Ингемар принес домой свой любимый кефир в белой упаковке с голубым рисунком посередине. Он принялся учить нас с Миррой, как его есть в субботу вечером, когда мамы нет дома. Сначала кефир был рыхлым и жидким, и надо было несколько раз помешать его ложкой. «Медленно, осторожно», – сказал Ингемар, когда ему показалось, что Мирра мешает слишком сильно. Он взял ее за запястье и стал ровными движениями водить его над тарелкой.
Содержимое было липким, а вкус острым, словно на языке взорвалась тысяча крошечных артиллерийских снарядов. Ингемар посоветовал положить как можно больше варенья, и когда мы с Миррой съели первую порцию, оба попросили добавку.
Ночью мне приснилось, что по лесной тропинке ко мне идет папа. Сначала он улыбался, а когда подошел ближе, сомкнул рот и произнес мое имя сдавленным голосом. «Это был ты, Якоб, – сказал он. – Это ты воткнул нож».
Я сел на кровати. В трубах в стене урчала вода, и мне пришлось зажать рот, чтобы не закричать. Мне никак не удавалось снова заснуть, и я осторожно открыл дверь и прокрался на кухню. На дне вазочки рядом с радио было полно монет в пять крон и в одну крону. Я мог бы сесть на ночной автобус, застать папу врасплох. Он бы постелил мне на диване. Утром он дал бы мне стокроновую бумажку, чтобы я купил еду к завтраку. Смотрите, сказала бы кассирша, увидев меня с тележкой, такой молодой, а уже ведет хозяйство. После завтрака каждый со своей чашкой кофе за столом. Спасибо, Якоб, сказал бы он. Именно это мне и было нужно. Теперь все будет по-другому. Я тебе обещаю.
Я взял четыре монеты по пять крон, это было незаметно. Взял еще две монеты. Лестница заскрипела. Голос Ингемара с верхнего этажа, невнятный, но настороженный в такой ранний час: «Алё»?
Тяжелые шаги вниз по лестнице. Я встал за открытой кухонной дверью и забился в угол. Ноги большого размера шли по коричневому полу кухни. Алё? Якоб? Через порог, к стиральной машине, на всякий случай проверил ручку входной двери.
Я стоял, затаив дыхание, пока уже более спокойным шагом он не вернулся на кухню. Над плитой зажглась лампа. Резиновый ободок на дверце холодильника чмокнул, отделившись от пластмассового края. Ингемар достал что-то из шкафа над холодильником и налил в стакан молоко. На зубах хрустнули хлебцы. На стене тикали часы.
Он еще раз наполнил стакан. Когда он смахнул крошки с мойки, поставил стакан в посудомоечную машину и пошел наверх, я стал считать дрожания стрелки, досчитал до трехсот, поднялся к себе и лег.
* * *
В конце ноября после второй в своей карьере победы на турнирах Амос Мансдорф занял восемнадцатое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это была самая высокая позиция Израиля за всю историю, на два места выше самого большого вклада страны в мировой теннис до этих пор, который сумел внести Шломо Гликштейн.
Преимущество израильских спортсменов заключалось в том, что мы могли быть уверены в их еврействе. В отношении спортсменов из других стран имелись сомнения. Имена могли звучать как еврейские, не будучи таковыми. Внешность могла быть обманчива. Одна сплошная неясность. В минуту сомнений папа не мог сказать со стопроцентной уверенностью о религиозной принадлежности даже американского специалиста задней линии Аарона Крикштейна.
Новость о Мансдорфе была одной из немногих хороших, которые в те недели дошли до нас из Израиля. Тревожное настроение той осени достигло пика декабрьским днем, когда израильский водитель автопогрузчика не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, полным палестинских рабочих. Четверо из них умерли, и, подогреваемое слухами о том, что столкновение не было несчастным случаем, в тот же вечер в лагере беженцев «Джабалайя» началось восстание, которое быстро распространилось на Газу и Западный берег. В последующие дни телеэкраны всего мира заполнили девятилетние дети, которые бросали камни в солдат одной из самых хорошо вооруженных армий мира. Нечеткие картинки показывали троих военных, избивающих бунтовщика.
В Гётеборге упала температура. Вода в канале замерзла, выпал первый зимний снег. Наступила Ханука, и для охраны общинного дома прислали подкрепление. В первый вечер праздника собралось около сотни человек, чтобы посмотреть, как раввин залезает на лестницу, зажигает факел, а от него первую свечу большой деревянной ханукии, установленной во дворе.
Утром следующего дня раввин постучал в дверь конторы Заддинского. Он уселся в кресло, руки в боки, и объявил, что ему предложили работу на родине и что он намерен согласиться.
* * *
На Хануку мама с Ингемаром подарили мне светло-коричневую кожаную куртку с нашитыми на рукава кусочками ткани. В первые дни рождественских каникул я проводил много времени перед зеркалом в ванной, примеряя ее.
Однажды мы с папой пошли в кино на фильм с Мелом Бруксом. Папа опять начал работать, пока несколько дней в неделю. После фильма, когда мы сидели в закусочной прямо напротив кинотеатра, он сказал, что, может быть, перед Новым годом поедет с приятелями по работе в Норвегию покататься на лыжах. Я сказал, это прекрасная идея.
Он довез меня до дома и посигналил мне, когда стал отъезжать. После ужина я надел куртку и сказал, что пойду встречусь с товарищем. Было холодно, но безветренно, и я медленно гулял по нашему району, засунув руки в карманы. Мимо футбольного поля, песочниц и ледяной горки. На доске объявлений у въезда в гараж висели записки: одна о потерянных детских сапогах, а другая о празднике двора, который прошел в октябре. На пригорке в лесу горел только один фонарь, поэтому самые темные места я пробежал рысцой. Две девочки сидели каждая на своих качелях на площадке рядом с детским садом. У одной из них была узкая розовая зажигалка, которой она все время щелкала. Она захотела померить мою куртку, а мне дала свою большую красную стеганую куртку с шапочкой на кудрявой подкладке.
Но в основном я лежал в моей комнате и рисовал в блокноте. Иногда входила Мирра с газетой и называла телепередачи, которые бы хотела посмотреть вместе со мной. Однажды я попросил ее помочь переставить кровать из одного конца комнаты в другой. Мы задвинули письменный стол под скат крыши и заклеили стену под окном страницами из старых комиксов.
В гостиной не переводились коробки с шоколадными конфетами, которые Ингемар получил в подарок на рождество от разных фирм и министерств. Самые большие коробки он клал на обеденный стол. Как только пустела одна коробка, на ее месте появлялась другая. В сочельник мама приготовила индейку, которую подала вместе с цветной и брюссельской капустой, а еще желе в маленьких стаканчиках. По словам бабушки, она в жизни не ела ничего вкуснее. Мирра спросила Ингемара, не расстроился ли он из-за отсутствия традиционной рождественской еды, но он заверил ее, что нет.
В рождество заглянула его дочь со своим парнем. Прямо перед их приходом мама с Ингемаром из-за чего-то повздорили на кухне, и у Ингемара еще дрожали руки, когда за ужином он разливал вино.
Когда в тот вечер я ложился спать, мне показалось, что першит в горле и больно глотать. Утром открылся сильный кашель с хрипами. Я позвонил папе, и он попросил меня покашлять в трубку, а потом по буквам продиктовал лекарство, чтобы я попросил маму его купить. На следующий день после обеда он уезжал в Норвегию, и Берни достал ему новый комбинезон. Лыжи с ботинками он возьмет напрокат на месте. Они поедут впятером и будут жить в двух комнатах в апартаментах недалеко от спуска. Его не будет три дня. Еще он сказал, что хочет встретиться, как только вернется.
Но он не сказал, что через несколько часов после нашего разговора купит себе поесть в китайском ресторане на другой стороне улицы. Поужинав, положит полупустые картонки в белый полиэтиленовый пакет, завяжет его тугим узлом и выставит за дверь. Он не сказал, что еще через несколько часов достанет конверт с листами формата A4 из папки на стеллаже и положит его на кухонный стол, а потом сядет за стол и запьет стаканом воды содержимое маленькой желто-коричневой баночки, которая обычно стояла на самой верхней полке шкафчика в его ванной. И что встанет так резко, что опрокинет стул, а затем упадет навзничь, и ударится о мойку, и поставит себе два маленьких синяка прямо над верхней бровью.
Об этом я узнал лишь на следующее утро.
* * *
После завтрака Мирра осталась за столом читать, подперев щеку ладонью. Я убрал свою тарелку, а заодно ее и Ингемара, и смыл крошки от тостов, прилипшие к фарфору. Ингемар с благодарностью посмотрел на меня, оторвавшись от газеты, и сказал, что уберет со стола остальное. Утром выяснилось, что я никогда не ходил на хоккей, и он пообещал до конца рождественских каникул взять меня на матч. Мама поставила свою чашку с кофе на стиральную машину. Когда мы вынули все из сушки, она повернулась к ней спиной, отхлебнула из чашки и закурила сигарету. Горло у меня уже было получше, но ей в любом случае надо было в город по делам, так что мы все равно собирались заглянуть в аптеку.
Она дала мне отнести наверх теплую, хорошо пахнущую гору простыней и полотенец. В большой спальне я ненадолго углубился в номер «Нэшенал джиографик», лежавший раскрытым на ночном столике Ингемара. В моей комнате я взял бумажку, где записал название лекарства, и пошел было вниз, как зазвонил телефон. Мирра ответила только на третий звонок. Когда я спустился в холл у лестницы, она с недоуменным видом передавала трубку маме. Мирра еще была в ночной рубашке в розовую и желтую полоску, рукава были ей длинны, и она иногда брала их в рот и жевала. Я уселся в кресле перед зеркалом и свернул бумажку в моей руке в маленький четырехугольник, твердый как камень, а потом стал его разворачивать. Мирра посмотрела на мои руки и спросила, что я делаю. Еще я запомнил, как мама, пошатываясь, выходит из кухни и заваливается на обеденный стол.
Остаток дня гостиная медленно наполнялась людьми. Некоторые заходили на минутку, другие оставались до вечера. Берни вошел, не снимая куртку. Он прислонился спиной к обеденному столу, и они быстро обменялись с мамой парой слов, не глядя друг другу в глаза. Потом он подошел к нам с Миррой и сел перед нами на корточки. Он ехал в больницу и спросил, не хотим ли мы поехать с ним. Я посмотрел сначала на Мирру, потом на него. Я попытался представить себе, что я там увижу: медсестру, кровать, столик на колесиках, длинные бежевые занавески. Я покачал головой, но пожалел почти сразу же, как только он уехал.
Всю неделю к нам продолжали приходить люди. Звонили дяди и протягивали пакеты с продуктами из кошерного магазина. Тети оставляли противни с выпечкой вместе с целым рядом инструкций: подогреть так-то и так-то до такой-то температуры, не забыть добавить капельку сливок, и ради Бога, не класть в морозилку. Некоторые проходили в дом, садились на кухне и говорили о том, какой я был маленький последний раз, когда они меня видели.
После обеда папа Мойшович проводил в гостиной службы. Из общины он привез маленький шкаф с Торой и груду стульев. Мы с Миррой помогли их внести и расставить у окна в два ряда: слева для мужчин, справа для женщин. За окном было хоть глаз выколи. Сад превратился в бело-серую смесь снега с водой. Поскольку стульев хватало только для пожилых, во время службы я стоял. Когда становилось невыносимо скучно, я строил Мирре гримасы. В один из дней, к концу службы, строя ей рожу, я начал смеяться. Мирра сердито посмотрела на меня, и я услышал, как в комнате стали раздаваться слабые вздохи. Зажав рот обеими руками, я попытался подумать о чем-нибудь грустном, но это не помогло. Я смеялся все сильнее и сильнее, и в конце концов мне пришлось подняться в свою комнату, чтобы успокоиться.
* * *
В квартире папиных родителей зеркала завесили простынями. Убрали все папины фотографии, и я не знал, что это: еще какой-то старый религиозный обычай или они просто пока не хотят видеть его лицо.
Следующий день после похорон мамэ провела в постели. Мы с Миррой сидели каждый на своем стуле у кровати. У мамэ дрожала нижняя губа, речь была отрывистой. Когда я встал, чтобы выйти в туалет, она высунула из-под простыни холодную белую руку и схватила меня за запястье.
Дедушка сидел в кресле, скрестив руки. Его грудная клетка медленно поднималась и опускалась. Одна рука раздраженно барабанила по противоположному плечу. Мирра задала ему несколько вопросов; он коротко ответил, не глядя на нее.
Четыре следующих субботы мы встречались с ним в синагоге, чтобы читать поминальную молитву кадиш. Дедушка читал по своему светло-коричневому сидуру, такому маленькому, что он держал его одной рукой. Во время бегства в Швецию дедушка взял молитвенник с собой, спрятал его в потайном месте, и молитвенник остался без единой царапины. На неделе дедушка хранил его в коробке из твердой пластмассы в верхнем ящике комода в кабинете.
В нашу четвертую и последнюю субботу кроме нас в синагоге было не больше десятка человек. Ни одной женщины, только мужчины, которые стояли поодаль друг от друга, каждый в своем ряду. Солнце взошло, когда служба уже вовсю шла, но оно светило так слабо, что не проникало сквозь узорчатые стекла. Мы подошли к шкафу с Торой, вернулись обратно на свои места, и тут дедушка молча опустил голову на крышку сиденья. Маленький молитвенник выпал из рук прямо на потертый пол. Я поднял молитвенник и сделал что полагалось: поцеловал выгравированную на обложке звезду Давида. После этого несколько дней я ощущал на губах привкус пыли.
Когда мы прощались в ту субботу, дедушка протянул мне пластиковый файл с четырьмя письмами – маме, мне, брату и сестре, написанными на глянцевой бумаге с логотипом лекарства в правом углу.
Я прочел письмо, сидя у себя в комнате на полу. Папа писал быстрым размашистым почерком, буквами с крупными завитками. В самом верху стояло мое имя, мое полное еврейское имя, куда входило его собственное имя и имя дедушки. Читая письмо, я слышал папин голос почти так же ясно, как если бы он стоял на коленях рядом с моей кроватью и гладил меня ладонью по лбу.
В одну из наших последних встреч мы ели кебаб. Острый красный соус сочился через хлеб и бумагу и капал на стол. Мы сидели рядом на барных стульях у окна. Папа улыбнулся, когда почувствовал, что я закинул ногу ему на бедро. Это случалось помимо меня, нога просто попадала туда сама по себе каждый раз, когда мы ели. Он немного покачал ногой, и мы оба посмеялись, когда, прожевав, он изобразил неприятного пациента, который был у него накануне. Мне показалось, что когда папа перестал смеяться, улыбка еще долго не сходила с его лица. Мне также показалось, что кожа у него под глазами уже не такая серая, а волосы снова погустели. Даже его голос, слабый и нерешительный всю осень, звучал с прежней энергией, когда он рассказывал о методах, которые используют его коллеги, чтобы отфутболить назойливого пациента к другому врачу.
Во время его рассказа я видел перед собой их ординаторскую, чувствовал запах кофе и сигаретного дыма. Немного дальше в коридоре стоял автомат со сладостями, где папа обычно покупал мне коробочку с таблетками – маленькими солеными квадратиками. Рядом с автоматом на стене висел телефон, куда кидали монеты. Я представлял себе, что папин коллега позвонил именно оттуда.
С того разговора прошло почти четыре месяца. Засыпая, я по-прежнему часто думал об этом, пытаясь вообразить, что тогда случилось. Утром он поехал на машине на работу как мой папа, а три дня спустя вернулся человеком, которого я не знал и который не знал меня. С тех пор папино прежнее, хорошо знакомое нутро показывалось лишь иногда, и я не осмеливался спросить, что произошло. Я не хотел напоминать ему о том, от чего ему стало бы еще хуже.
Папа сосал пеперони с гримасой восхищения, смешанного с ужасом. Когда я в конце концов задал ему вопрос, папа вынул пеперони изо рта и положил ее в остатки лука и смесь соуса с жиром, образовавшуюся на тонкой бумаге, в которую был завернут кебаб. Он сказал, что чуть было не совершил страшную глупость. Я не совсем понял, что он хотел сказать, но больше вопросов не задавал.
Он положил бумажник на стол перед нами. Поев, я порылся в нем. В отделении для купюр было полно квитанций. У него была карточка Visa и «золотая» American Express, которой, я знал, он гордился. Среди карточек лежала уменьшенная копия старой фотографии, сделанной в ателье. Смеющаяся мама с Миррой на коленях. Рафаэль в затемненных летных очках. Рядом с ним сидит папа, а я стою на переднем плане, широко улыбаясь и тараща глаза.
Как только я положил бумажник на место, я увидел в окне учителя из моей школы, идущего по тротуару. Я быстро присел и поднял воротник куртки, чтобы закрыть лицо.
К парковке мы шли молча. В машине было страшно холодно, но папа не стал заводить двигатель. На резиновом коврике у меня под ногами валялись спички. Таблетка от кашля закатилась под коврик рядом с коробкой передач.
«… ври, Якоб, бей баклуши»…
Папа сложил ладони. Каждый раз, когда он случайно задевал связку ключей в замке, она звенела.
«…прячься, не высовывайся»…
Над подъемными кранами в порту опустилась луна. Небо, земля и море слились в сплошную светло-серую завесу. Папа наклонился вперед, убрал мои ладони с ушей и заставил меня повернуть голову.
«…та же ошибка. Это серьезно, Якоб. Ты понимаешь, что я говорю?»
В письме он повторял свои предостережения, но вопреки обстоятельствам в целом оно было довольно позитивным. Папа рассыпался в комплиментах и похвалах, и думаю, иногда он улыбался про себя, когда писал это. Единственная фраза, в которой затрагивалась его ситуация и то, что он собирался сделать, стояла в самом конце страницы.
Длинная строчка была зачеркнута несколько раз. Прямо рядом с ней, маленькими буквами, почти на полях, было написано: «Без меня вам будет лучше».
* * *
Я взял письмо с собой, когда уехал из дома.
Я не читал его несколько лет. Письмо лежало в том же пластиковом файле. Каждый раз, когда оно попадалось мне на глаза, я думал, что достану его, когда придет время. Мирра, мама и Ингемар проводили меня на вокзал. После трех часов пути я должен был пересесть на другой поезд. В газетном киоске я купил пачку сигарет и сел на скамейке на солнышке. Вынул все из карманов и из внешнего отделения сумки на «молнии», чтобы проверить, со мной ли самое важное: билеты на поезд, подтверждение, что меня приняли на учебу, телефонная карточка, записка с номером человека, чью комнату в общежитии я буду снимать.
Когда пришел поезд, все лежало у меня на коленях. Я побросал вещи в сумку и быстро пошел вдоль перрона. В последнюю секунду меня догнала седая женщина, она размахивала забытым мною бумажником. Беря бумажник, я увидел, что папино письмо лежит на земле, под скамейкой, но не побежал за ним обратно.
В комнате, которую я снял, стояли письменный стол, кресло, кровать и стеллаж с литературой по предметам, которые изучала хозяйка комнаты. На стене висел красно-желтый кусок ткани. Первые семестры по большим праздникам я ездил домой, но потом стал говорить маме и папиному папе, что буду отмечать с еврейской парой, с которой познакомился в университете. Когда я все-таки приезжал в Гётеборг, я все чаще не ставил маму или дедушку в известность, а жил у какого-нибудь приятеля и старался обходить кварталы и улицы, где мог бы их встретить.
* * *
Рафаэль и папа Мойшович сидели за обеденным столом и читали что-то из сидура. Мирра с маминым папой пошли наверх. В ожидании социального такси тетя Бетти обошла стол и собрала оставшееся печенье в салфетку, которую тщательно свернула и положила в сумочку.
Папин папа сел на диван и уставился прямо перед собой, наполовину закрыв глаза, да так и не двинулся с места. Каждый раз, когда я шел в туалет или отнести что-нибудь на кухню, он звал меня вернуться к нему на диван. Мне это нравилось. Несмотря на ситуацию, я почти успокаивался, когда садился рядом с ним и чувствовал тепло его тела. Я посмотрел на его обезьяньи руки, которые перебирали пуговицы на рубашке, и у меня возникло желание сказать ему что-нибудь приятное и ободряющее. Я допил свой стакан и уже почти было положил руку ему на плечо, как он встал. Он стал протискиваться между столом и диваном. Ингемар сразу же подскочил, чтобы помочь ему подняться в ванную на верхнем этаже. Когда дедушка снова спустился, он сказал, что пора домой.
Он не спешил надеть пальто. Застегнув пуговицы, он поблагодарил Ингемара за прием крепким рукопожатием. Обнял моих брата и сестру, вытянул голову и помахал тем, кто оставался в гостиной, а затем последовало несколько невыносимых секунд, пока они с мамой не решились попрощаться.
Я вызвался проводить его домой и стоял в дверях одетый. У меня все чесалось, но я не смел оторвать глаза от пола. Дедушка и мама долго колебались, но в конце концов даже обнялись.
Перед тем, как уйти, дедушка полез в карман и развернул формуляр. Входная дверь была открыта, а дедушка стоял на пороге и, пустив бумагу по кругу, пересказывал содержание в свободной форме. Похоронному обществу надо выяснить, дошла ли до нас информация о новых правилах, осознаем ли мы вызвавшие их обстоятельства и то, какое значение имеет их выполнение для еврейской жизни в Гётеборге.
Мама взглянула на бумагу и поставила подпись.
* * *
Бледное весенне-зимнее солнце почти зашло. По улице одиноко грохотал трамвай. Дедушкина палка царапала влажный грунт. Мы попрощались с Ирен и завернули за угол, мимо табачного магазина, в горку, в продуваемый двор. У входа в их подъезд виднелись остатки наклейки, которую я прилепил давным-давно. Часть наклейки соскребли, о чем напоминали едва заметные следы клея на коричневом металле. Длинные перила как белый тюбик шли до первого этажа. Когда дедушка вставлял ключ в замок, он дышал открытым ртом.
Тепло квартиры резко контрастировало с холодом лестничной площадки. Зажглась лампа в холле и осветила мягким светом палас, покрывавший весь пол, картины мамэ и маленькие статуэтки зверей, которые она расставила на стальной полке на стене.