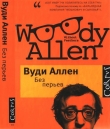Текст книги "Три обезьяны"
Автор книги: Стефан Игаль Мендель-Энк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
В отличие от вопросов, которые он задавал раньше, этот вопрос застиг меня врасплох. Я осторожно пнул под столом клетчатую корзину для бумаг, и она опрокинулась. На края корзины был натянут полиэтиленовый пакет. Среди смятых бумаг торчал огрызок груши.
«Раввин, Джей, – начал он, сцепив пальцы, – это ordinary guy[38]38
Обычный парень (англ.).
[Закрыть], который happens to know[39]39
Случайно знает (англ.).
[Закрыть] кое-что, что написано в Торе». «В нем нет ничего святого, он не властен прощать, как priest[40]40
Священник (англ.).
[Закрыть], у него нет никакого shortcut[41]41
Прямой путь (англ.).
[Закрыть] к Богу, у него есть вот это, – он похлопал по книге на письменном столе, – и ничего другого». Он посмотрел на книгу, словно теперь собирался говорить с ней, и осторожно, почти нежно стер пыль с обложки. «К счастью, ее надолго хватит. Может быть, на дольше, чем полагают многие, но amazing as it may be[42]42
Как бы ни было забавно (англ.).
[Закрыть], даже Писание не может подготовить тебя ко всем трудностям, с которыми ты встретишься в тот день, когда начнешь работать в общине. С того момента, когда ты переступишь врата новой синагоги, и каждый последующий день, с раннего утра до позднего вечера, тебя будут атаковать новыми и со-вер-шен-но неожиданными вопросами».
Он изобразил когти, согнув кончики пальцев, и показал атаку.
«Now», – сказал он, положив книгу на две других и слегка сдвинув всю стопку влево. «Когда в маленькой общине возникает конфликт между людьми, с которыми многие тесно связаны, люди выбирают сторону, ищут козла отпущения, говорят то, что не имеют в виду. Каждый день сюда приходят люди и требуют, чтобы я что-то сделал. Call him, call her[43]43
Позвоните ему, позвоните ей (англ.).
[Закрыть], уговори моего папу пойти на осенний праздник, попроси мою маму остаться дома на Рош а-Шона и Йом-Кипур. Никогда, I tell им, это не мой бизнес, Джей». Он вытянул руки в стороны и наклонился через пишущую машинку так далеко, что я почувствовал тепло его дыхания. «Если бар-мицве нужна помощь – это мой бизнес. Если у него есть вопросы и он не знает, куда обратиться – это мой бизнес. Если он хоть раз волнуется перед тем, как пойти в синагогу – это определенно мой бизнес. Get it?» [44]44
Ясно? (англ.).
[Закрыть]
Я кивнул, не будучи по-настоящему уверенным в том, что знаю, что он имеет в виду. Он сказал свое, по нему это было видно, а теперь настала моя очередь. Что бы я ни хотел сказать или спросить – мне выпал шанс, но я не мог ничего придумать.
Через дверь я слышал, как мои одноклассники выходят в коридор. Раввин в изнеможении откинулся на стуле. Он задумчиво смотрел на меня, пока не вспомнил, что хотел дать мне почитать одну книгу. Он потянулся к стеллажу, бумаги упали на пол, и не успел он достать книгу, которую искал, как опять зазвонил телефон.
* * *
Когда папа возвращался из командировки или приходил с работы позже обычного, он, как правило, ложился на спину на диван, положив голову на подлокотник. Между его согнутыми ногами, бедрами и диванной подушкой образовывался треугольник. Мы с Миррой выходили к нему в пижамах и по очереди сидели у него в ногах. Он качал ногами из стороны в сторону, поднимая их так, что мы изображали самолет, или вытягивал их так, что мы словно с горки скатывались ему на живот. Я лежал у него на животе как можно дольше и трогал большие мягкие вены на руке.
Иногда, когда они ссорились, мама упрекала его в жадности, но я с ней не соглашался. Папино отношение к деньгам было гораздо более сложным. Они его беспокоили. Он плохо себя чувствовал из-за того, что с ними следовало что-то делать. Он придумывал различные системы, которые должны были помочь ему в этом. У него были папки, пластиковые файлы и бумаги с подсчетами. Бумаги он клал в файлы, а файлы – в папки. Так он имел некоторое представление. Так он мог примерно видеть, куда шли деньги, но расставаться с ними ему от этого было не легче. После ужина он листал в кабинете папки, прижав ладонь ко лбу. Судя по звукам, которые он издавал, он с тем же успехом мог бы попытаться удержать голыми руками стадо разъяренных быков. Я сидел под письменным столом и рисовал, глядя на волосатую полоску между его штаниной и носком, которая вибрировала от всех этих выплат, пожизненных страховок, пенсионных страховок, выписанных квитанций, потерянных квитанций и tzorres, tzorres, tzorres[45]45
Беда (идиш).
[Закрыть].
Он не был жадным, просто очень волновался, что созданное им может рухнуть. В любой момент. Именно поэтому он придавал такое значение знаниям. Один раз он объяснил мне это, когда я забыл в школе учебник по истории. Была пятница, а во вторник мы должны были сдавать зачет. Когда папа пришел домой и узнал о забытом учебнике, он впал в ярость. Он рванул на машине в школу, подергал запертую дверь, потом опять кинулся к машине, помчался на бензозаправку, взял там телефонный каталог и отправился домой к вахтеру, который поехал с нами в школу и впустил нас.
Накануне моей бар-мицвы он почти целый год возил меня каждую субботу в синагогу.
Он не допускал никаких исключений. Но не думаю, что только ради меня. Ему нравилось ранним субботним утром взять машину, а потом придирчиво выбирать место для парковки среди всех мест, которые соседние с синагогой кварталы предлагали только в это время суток.
Во время богослужения он показывал мне указательным пальцем, где мы читаем. Водил пальцем по тексту, пока не слышал, что я слежу, и стучал по книге, когда думал, что я потерял нить. А так он по большей части сидел, откинувшись назад, между мной и своим папой, положив молитвенник на колени и накручивая на пальцы тонкие белые нити молитвенной накидки.
Иногда по субботам после службы мы оставались на киддуш. В актовом зале угощали бутербродами с сыром, кофе и виски в крошечных стаканчиках. Заддинский информировал об экономическом положении общины, а старики подходили к папе поговорить о своих недугах. Беспокойные жены тащили своих сопротивляющихся мужей. Смущенные мужчины иносказательно рассказывали о проблемах с простатой. Страдающие запором тети в деталях описывали свои горести, «…весь понедельник желудок совершенно не работал, ни kipper[46]46
Капля (идиш).
[Закрыть], хотя я выпила пол-литра воды, как только встала, затем во вторник утром я выпила семьсот грамм и съела полкочана цветной капусты, и вы только послушайте, что произошло…». Папа слушал, утешал, объяснял и на месте проводил осмотр. За столом, если речь шла о чем-то невинном вроде руки или ладони. Или за вращающимися дверями на кухне.
Знания, Якоб. Именно благодаря им папа ракетой взлетел на врачебный небосклон. В своем отделении он был самым молодым. Ему предложили поехать в Америку с лекциями. У него были благодарные пациенты во всем городе, которые помогали ему переводить немалую часть семейных финансов в неофициальный сектор. Если на горизонте начинала маячить угроза расходов, типа того, что друзья переняли прелестную гойскую привычку ездить в отпуск кататься на лыжах, он проводил в кабинете лишние часы, производя более сложные расчеты и роняя в блокнот лишние крупные капли пота, от которых цифры расплывались. Затем он брал трубку. Через несколько дней к дому подъезжала машина, весь капот который был в спортивных логотипах, и оттуда выходил краснощекий дяденька. Дядя входил в дом и выкладывал на кухонный стол лыжные ботинки, комбинезоны, лыжные варежки и шапки, приговаривая, что дешевле уже не бывает, правда, не бывает.
После ссоры мама с папой обычно мирились на кухне у камина. Они крепко и долго обнимались, а мы с Миррой принимали участие в счастливом воссоединении, путаясь под ногами. И так шло и шло: он благословлял хлеб в шабат, проверял у меня уроки, поздно вечером расслаблялся с единственной за день сигаретой в постели с мамой, когда уже больше не мог терпеть. Пока у него не опустились руки и им не овладели демоны.
* * *
Когда дедушка наклонился вперед, за его спиной осталась теплая вмятина. На нем была обтягивающая рубашка в бледную полоску, заправленная в брюки, где ее с большим трудом удерживал блестящий ремень. Тридцать пять лет он был членом похоронного общества, хевры, и никогда люди не вступали в нее так неохотно, как сейчас.
Хевра выполняла очень почетную миссию. Обмывать мертвых и сидеть с ними в кладбищенской молельне до похорон – одна из самых важных традиций иудаизма. К тому же раз в год для всех членов общества устраивали большой праздник. Этот козырь дедушка – когда он еще обсуждал со мной эту тему – выкладывал последним. Теперь он оставил всякую надежду, я не входил даже в самые отдаленные круги подходящей для этого молодежи, на которую надеялось общество, и дедушка не делал никаких усилий, чтобы скрыть свое огорчение.
Мама Мойшович слушала его с выражением глубокого сострадания на лице. Каждый из них провел анализ того, почему все пошло наперекосяк, и сделали схожие выводы. Почти все на нашем конце стола согласились и стали повторять – каждый раз одно и то же, только разными словами. Сегодня у молодых нет времени, их привлекает другое, не понимают значения, нет, и они не успевают, так много соблазнов, не понимают, что это означает…
Папа по крайней мере соглашался иногда помогать. Я вспомнил, что дедушка затронул этот вопрос на следующий день после того, как папа защитился. Папа сидел, откинувшись в садовом кресле, держа вытянутую руку за маминой спиной. Он еще не пришел в себя после вчерашних празднований и месяцев изнурительного труда. Всю весну он не ложился до глубокой ночи, штудируя книги.
Папа мягко и снисходительно улыбнулся дедушке, с переменным успехом отгонявшего ос, которые упорно возвращались в его тарелку. Только как экстренная помощь, просил дедушка. Только когда это удобно. Им нужно любое содействие, которое им могут оказать. Даже временных сотрудников, – сказал дедушка и хлопнул ладонью по стене дома, – теперь приглашают на праздник.
По словам дедушки, случай с маминой мамой – это прекрасный пример того, что у общества проблема с кадрами. Ее смерть была неправильно организована с начала и до конца. Можно только сожалеть, что с момента ухода до погребения прошло целых пять дней. Что сидеть с ней могли только одну ночь – это, по меньшей мере, катастрофа. Дедушка поджал губы. Он покачал головой, поднял свою пока еще пустую кофейную чашку, изучил что-то с внутренней стороны и опять поставил ее на поднос. Ему больно от того, что многолетние члены общества вынуждены проводить свою последнюю ночь на этой земле в морге в окружении чужих людей. Если бы его попросили, мог бы прийти раввин и прочитать bracha[47]47
Благословение (иврит).
[Закрыть], это хоть какое-то утешение, но, по мнению дедушки, мамы Мойшович и остальных с торца придиванного стола, оно не идет ни в какое сравнение с тем, как к усопшим евреям Гётеборга относились вплоть до недавнего времени.
* * *
Мама сидела в широком кресле с регулируемым подголовником и с выдвижной подставкой для ног из серо-черной пластмассы. Темно-красная обивка несколько диссонировала с цветовой гаммой остального интерьера гостиной. Все, начиная с круглых ламп по углам и розовато-кремовых занавесок и заканчивая золотистыми дверными ручками в форме букв «И» и «Д» на дверях веранды, было выдержано в едином стиле, за что маму обычно хвалили.
Она была очень падка на похвалу. Особенно если речь шла о том, во что она вложила так много труда – как в этот дом. Я стал жить отдельно сразу после того, как мама с Ингемаром его купили. Мирра рассказывала мне, как тщательно они обставляли каждую комнату, и, приходя к ним в гости, я почти каждый раз обнаруживал новые предметы. Вазы на подставках в туалете, забавные безделушки на подоконниках. Куклы в длинных платьях на книжных стеллажах.
Вечерами перед телевизором мама размышляла над тем, что бы еще купить в дом. «Может быть, вот такой ковер, перед комнатой Мирры, или нет, такой не войдет, но поменьше – войдет». Когда ей казалось, что Ингемар отвечает недостаточно быстро, она наклонялась к его креслу и ударяла его по пальцам. Обычно на коленях она держала большую миску с попкорном. Ей нравился попкорн, точно так же, как ей нравилось все, что обозначалось двумя короткими соединенными вместе словами. Тик-так, нон-стоп, зигзаг, сорбит, хот-дог. В детстве, когда мама брала меня с собой в центр города за покупками, в район Хеден, она предлагала завершить наш поход, купив каждому по сосиске с соусом. Но, похоже, этого насилия над кошерными законами ей было недостаточно, и она покупала нам один на двоих шоколадный напиток «Пукко». Мы ели на скамейке, прижавшись друг к другу и пытаясь укрыться от ветра с моря, который гулял по футбольным полям. Потом, сидя в теплой машине и стирая кетчуп с уголков моего рта, она спрашивала меня, что мы ели. Фишбургер, говорили мы хором и терлись друг о друга большими пальцами через коробку передач.
Мама называла пульт на английский лад – ремоут. Иногда с определенным артиклем. Она стала использовать это выражение в первые беспечные годы своего замужества с Ингемаром, когда оба много работали и большей частью использовали дом для того, чтобы забросить туда пакеты из магазинов дьюти-фри и просмотреть пригласительные открытки. Как-то утром, приехав домой с международной конференции, мама сказала, что они прекращают говорить друг с другом по-шведски. In order to improve we shall now on speak English to one another[48]48
Для совершенствования мы теперь будем говорить друг с другом по-английски (англ.).
[Закрыть]. Эта гламурная эпоха достигла апогея, когда оба попали на большое групповое фото в еженедельник Hänt i veckan[49]49
События недели (швед.).
[Закрыть]. На прием по случаю открытия в порту гостиницы пригласили многих представителей экономической, художественной и политической элиты Западной Швеции. Не ведая, что ее ждет, мамина мама листала газету, сидя у парикмахерши. Увидев дочь и новоиспеченного зятя рядом с Йораном Юханссоном, Сивертом Эхольмом и Соней Хеденбратт, от возбуждения она смяла страницу. Бабушка позвонила в редакцию и заказала пять экземпляров, вырезала фото и повесила его на холодильник. Мамин папа, в свою очередь, достал из комода нашу старую семейную фотографию и наклеил лицо Ингемара поверх папиного.
Широкое кресло издало отрывистый звук, когда мама привела его в нормальное положение. Она показала на свою спину. «Мне может кто-нибудь помочь?» Ингемар неохотно покинул свое место на диване рядом с дедушкой и помог ей снять с шеи резиновую подушку оранжевого цвета. Постанывая то ли от неудобства, то ли от удовольствия, мама выпрямилась, сунула ноги во вьетнамки и скрылась на кухне.
* * *
По мнению маминого папы, нет части света хуже Европы.
На самом деле он сравнивал только с США и при таком раскладе считал ту часть света, в которой жил, хуже по каждому важному пункту. Фильмы хуже. Юмор хуже. Еда хуже.
В Европе ему больше всего не нравилась Скандинавия. Скандинавские страны он расставил по порядку: 1) Дания, 2) Норвегия, 3) Швеция.
Финляндия, по его мнению, входила в Советский Союз и поэтому вообще не считалась.
Что касается трех самых больших городов Швеции, то он нашел смягчающие обстоятельства для Стокгольма (большая еврейская община) и Мальмё (рядом с Данией).
Целый вечер на протяжном гётеборгском диалекте он мог рассуждать, до чего убог город, в котором он живет, как безобразно в лесопарке Слоттскуген, каким нелепым огрызком выглядит главная улица Авенюн в международной перспективе и что иностранные туристы смеются над небогатым набором аттракционов в парке Лисеберг.
Не нападал он только на команду «Бловитт».
Из окна кухни в квартире маминых родителей были видны прожекторы стадиона «Нюя Уллеви». Когда играла «Бловитт», дедушка так нервничал, что боялся слушать радио. Он сидел, зажав рот рукой, и ждал ликования арены.
Мои родители и их окружение тоже обычно жаловались на Гётеборг и Швецию. Иногда, когда к нам заглядывали их друзья, уже по тому, как они выдвигали стулья и садились к кухонному столу, становилось ясно, что сейчас начнется. Что скоро они станут говорить о том, какая ошибка, что мы попали сюда, на край света, что вверили нашу судьбу народу, который до такой степени преисполнен чувством собственной нравственной исключительности, что даже не считает, что нуждается в каком-то там Боге. В любом другом месте лучше. Каждый прожитый здесь день – неудача. Вполне возможно, что со времен изгнания из Израиля евреи никогда еще не были так далеко от дома.
Я понимал, что все не так серьезно, как кажется, и что такие вещи ни в коем случае нельзя говорить неевреям.
Когда Рафаэль летом приезжал из Израиля, он начинал жаловаться уже в аэропорту. Тишина в зале прилета, хорошо организованная парковка и скромное движение на шоссе за окном машины вдохновляли его на долгие филиппики в адрес страны, где он вырос.
Первый раз, когда Ингемар поехал с нами встречать его, Рафаэль сначала вел себя тихо. Вежливо поздоровавшись с Ингемаром, он корректно отвечал на его вопросы, а потом молча сидел между мной и Миррой на заднем сиденье.
Только когда мы проезжали большой лесной массив перед въездом в город, он начал: «Чертовы елки, чертовы законы, безвкусная еда и никаких традиций, только налоги, выпивка, похабщина, соцы, лижут задницу ООП и Гартон с Гийю…». Я слышал, как дыхание Ингемара на водительском сиденье становилось все напряженнее, пока он не свернул на обочину и, стиснув зубы, не объявил, что не потерпит рассуждений такого рода в своей машине.
Подобные ссоры периодически случались на протяжении многих лет. Часто они начинались между Рафаэлем и Ингемаром, но через несколько минут вовлекались все. Ссоры никогда по-настоящему не кончались, делались только маленькие передышки, когда все могли прийти в себя, зализать раны и восстановить силы перед следующим столкновением. Несколько раз по инициативе Мирры они приводили к решительным разговорам «начистоту» в гостиной. Ингемар и мама по одну сторону придиванного стола, Рафаэль с Миррой по другую, горящие взоры, скрещенные на груди руки. Иногда с участием чьей-нибудь подруги или друга. Если заходил папа Мойшович, он, как правило, садился на стул у обеденного стола и наблюдал за разборкой. Эти заседания продолжались около часа и в основном заканчивались новыми ссорами, между мамой и Ингемаром, между нами, детьми, а когда кто-то в конце осмеливался упомянуть папу, мама вся в слезах устремлялась в спальню, затыкая руками уши и крича высоким хрипловатым голосом на максимальной громкости: «Давайте, продолжайте. Это я во всем виновата. Я самая плохая мама на свете, давайте все вместе скажем – вот идет самая плохая мама на свете, вот идет самая плохая мама на свете».
* * *
Утром накануне Йом-Кипура, второго большого осеннего праздника, мы с Миррой, нарядно одетые, сидели и завтракали. Я не ел ни хлеба, ни печенья, не пил чай. Это был мой первый Йом-Кипур после бар-мицвы, а это означало, что теперь на меня распространялось предписание поститься целые сутки.
Каждый раз, когда мама вставала, полы ее белого халата трепетали, как крылья летучей мыши. Она взяла пачку сигарет, поправила Мирре волосы и поставила варить еще кофе, когда заметила, что уже выпила чашку. У нее была привычка делать за завтраком всего несколько глотков, а потом таскать за собой чашку по всему дому. Чашка следовала за ней к мойке, к раковине перед зеркалом в ванной и, наконец, ставилась на комод в спальне, с холодными светло-коричневыми капельками на дне и следами розовой помады на кромке.
Через несколько минут после того, как позвонил папа Мойшович и сказал, что едет, мы с Миррой вышли в холл. Я уже положил руку на замок входной двери, когда мама в последний раз спросила, правда ли мы не расстроились из-за того, что она не едет с нами. Мы знали, какой ответ она хочет получить, и каждый постарался сформулировать его наилучшим образом. «Точно?» – закричала она из кухни. Я добавил, что, по словам раввина, многие в общине считают, что будет лучше, если она не придет.
В кухне наступила тишина. Затем я услышал, как мама убирает со стола, громко хлопая дверцами шкафа. Ингемар попробовал осторожно возразить против решения, которое она принимала. Менее получаса спустя мама воткнула его «Вольво» на свободное место у спортивного магазина с задней стороны синагоги.
Мы с Миррой бежали за ней мелкими шажками. Каблуки стучали о землю. Она распахнула коричневые двери, потащила Мирру за собой по лестнице на женский балкон с правой стороны и переступила через множество ног, держа под мышкой свое черное пальто.
Внизу, в мужской половине, обернувшись, зашипел Соловей, приложив палец к большим синим губам. Раввин откашлялся, кое-кто затопал ногами, но бормотание продолжало нарастать и стихло только тогда, когда Заддинский хлопнул в ладоши и прогремел: Schweig[50]50
Тихо (идиш).
[Закрыть].
* * *
На папе был черный костюм. И темный галстук с золотистой булавкой.
Мы стояли почти посередине в левом ряду. Папин папа занял крайнее место у прохода, папа рядом с ним. На откидывающейся крышке перед нами были две маленьких таблички с их именами – белые буквы на сером фоне.
Папа раскрыл толстую книгу с молитвами Йом-Кипура, прислонив корешок к коричневому дереву. Одна страница встала торчком и стала колебаться туда-сюда, словно не могла решить, в какую ей нужно сторону.
В ящике у папиного места хранились наши бархатные сумки с молитвенными накидками, талесами, и молитвенными коробочками, тфилинами. Здесь же оказались грязная варежка и новогоднее поздравление от Мирры, написанное на уроке иврита.
Папа стоял, обхватив себя руками, и грыз ноготь большого пальца. Я сам надел на себя талес, прислонился к скамье и подпер голову руками.
Время шло медленно.
Из шкафа для Торы вынули свитки, и всем пришлось встать. Стариков позвали читать. Кантор держал указку над свитком. Когда старики дочитали до конца, свитки с Торой обнесли вокруг зала. Затем разрешили сесть на двадцать минут, а потом все повторилось снова.
Я считал звезды Давида на обоях с внешней стороны балкона. Ненадолго выходил попить воды. Вернувшись, я почувствовал нешуточный schtunken[51]51
Смрад (идиш).
[Закрыть].
Schtunken возникает, когда сотни постящихся людей целый день находятся в одном помещении. Запах этот напоминает смесь ацетона со старыми помоями. С каждым часом становилось все хуже. Из-за этого опоздавшие поворачивались в дверях, а беременные женщины ковыляли к выходу, зажав рот руками. Смрад шел из стариковских ртов, просачиваясь сквозь остатки пищи у них на зубах, примешиваясь к запаху предвкушения, исходящего от сплетников в заднем ряду, и к кислому дыханию охранников, которые на них шикали. Он впитывал в себя содержимое тяжелых пеленок младенцев и сопливого нытья их старших братьев и сестер, смешиваясь с трудно промываемыми частями бороды раввина, и поднимался вверх на все восемь метров к потолку, где, собравшись с силами, разворачивался и пикировал вниз, на балконы и скамьи.
У меня замерзли ноги. Мимо нас прошел Юнатан Фридкин и спросил, не хочу ли я пойти вместе с ним в общинный дом присмотреть за детьми. Я отказался.
* * *
Кровь прилила к кончику пальца, и он стал лилово-красно-синим. Я покрепче обвязал нитку вокруг верхней фаланги указательного пальца, а когда застучало, ослабил нитку и увидел, как отливает кровь и палец бледнеет. Какое-то время еще продолжало стучать, все слабее и слабее, пока не осталось только щекочущее жужжание в самом кончике пальца.
Если поставить руку под нужным углом, вены на внешней стороне ладони становятся такими же толстыми, как у папы. На моей левой ладони они напоминали букву «У» с длинными жилистыми ответвлениями вверх, к пальцам. Вот такие ладони я хотел бы иметь. Ладони, которые могут отбивать ритм о колени, ладони, которыми можно хлопнуть кого-то по спине в знак одобрения. Реальный хлопок по спине, крепкое рукопожатие, skoyach[52]52
Сокр. от yasher koach, «сил тебе» (иврит), здесь: «Молодец», «Поздравляю».
[Закрыть], мой друг, по-настоящему skoyach.
На мою бар-мицву, как только я дочитал до конца свой отрывок из Торы, в ту же секунду все встали со своих мест, чтобы подойти ко мне и поздравить. С балкона мне на голову посыпался арахис, одни мужчины как следует хлопали меня по спине, другие крепко брали за плечи. Женщины принялись горячо обнимать, а старики пожимали мне руку своими холодными ладонями и целовали влажными губами.
Только Моше Даян был недоволен. Ему не нравилась традиция осыпать подростков на бар-мицву и бат-мицву арахисом. Ведь это ему потом приходилось убирать синагогу, оттирать жирные пятна с красного ковра, вытаскивать крупинки соли, застрявшие между рейками, которые прижимали ковер к лестнице перед шкафом с Торой, подметать следы растоптанной ореховой массы, которая собиралась под каждой из трех ступенек. Не он один убирал синагогу, однако он относился к уборке со всей серьезностью, он отвечал за чистоту в первую очередь и воспринимал каждое ненужное загрязнение интерьера как личное оскорбление. «Леденцы на палочке», – обычно говорил он, выходя во двор и оборачиваясь, чтобы (скорее всего, из мазохизма) еще раз посмотреть на разрушение. «Почему нельзя было оставить леденцы?»
В течение нескольких лет девочки с балкона забрасывали новоиспеченного конфирманта твердыми леденцами на палочке Dumle. Задним числом Моше Даян тепло отзывался о леденцах, но и они ему не нравились, это факт. Ведь леденцы тоже означали мусор: везде бумага, везде палочки, какой-нибудь юнец съел только половину, бросив недоеденное на ковер, и леденец втоптали, и он прилип. Вдобавок многие пожилые посетители страшно боялись, что леденец попадет в них. «Когда они летят с такой высоты, мало не покажется», – говорил Даян в то время, когда боролся с леденцами. «И кому мешали маленькие машинки?»
Раввин Вейцман принял решение: арахис. Когда Даян стал жаловаться, раввин предложил вариант без соли. No соли, no жирных пятен, no издевательских крупинок, которые прячутся под рейками лестницы. Но вахтер был не готов зайти так далеко. Что за вкус без соли? Уберите соль с арахиса, и что тогда останется – бугристый кусок дерева? Сухой и безвкусный. Так не подобает приветствовать еврейских подростков в день, когда он или она вступают во взрослую жизнь, уж лучше пусть ему будет страшно тяжело. Но – и пусть раввин это уяснит – делать он это будет без радости.
Всякий раз, когда у нас менялся раввин, решался вопрос, каким продуктам быть в общине. Раз в год от главного раввина в Стокгольме приходил список с разрешенными предметами. Этим списком должны были руководствоваться все шведские общины, но наши раввины никогда не принимали его в расчет. Каждый новый раввин по-своему истолковывал кошерные законы и тщательно анализировал все продукты: сыр в холодильнике наверху, на кухне актового зала, кофе, сухое молоко, концентрированный сок, киддушное вино, печенье без сахара «Марие», которое ел Заддинский, пахнущий мясом корм «Фролик» для Зельды – и писал новые законы.
Особенно строгой проверке подвергались сладости. Это считалось чрезвычайно важным, поскольку они входили в круг интересов молодежи. Мы же подрастающее поколение, будущее, и крайне важно, чтобы мы не ели ничего такого, что могло бы сбить нас с пути истинного. С леденцами всегда было непросто. При одном раввине их разрешали, при другом – запрещали. То же самое с машинками Ablgren. Как правило, их принимали европейские раввины и запрещали американские.
Никто не мог толком объяснить, почему наша община так часто меняла раввинов. Приводимых объяснений – плохой климат, маленькая община, далекая страна – было недостаточно. Другие скандинавские общины жили в тех же условиях, но им же удавалось удерживать своих раввинов. В Копенгагене один и тот же раввин служил пятнадцать лет.
Насчет того, сколько раввинов сменилось у нас за тот же период, была небольшая неясность. Смотря как считать. Например, брать только тех, кто действительно были раввинами, или включать в число раввинов и тех, кто называли себя таковыми? Считать ли тех, с кем община договаривалась, подписывала контракт – и которых потом никто никогда не видел? И тех, кто доезжал до места (их представляли под заголовком «НАКОНЕЦ-ТО» на фотографии в полный рост на первой странице общинной газеты с широкой улыбкой и гордо вытянутой рукой Заддинского, обнимающего их за плечи), но потом бесследно исчезал до выхода следующего номера – а с ними-то как быть?
Помню бельгийца с рыжей бородой, немного рассеянного израильтянина, того, кто сидел в советском лагере и у кого плохо пахло изо рта, и того, кто знал только немецкий и любил высоко подбрасывать меня в вестибюле. Мои родители часто вспоминали раввина по фамилии Росен. Он явился в общину одним весенним вечером в середине 70-х годов. В доме был один Заддинский, он сидел в своей конторе в просиженном кресле бежевого цвета и клеил адреса на платежных напоминаниях, как вдруг здание пронзил настойчивый звонок в домофон. На черно-белом экране камеры у входа он увидел молодого человека с пышной прической в плотном вельветовом пиджаке. В одной руке незнакомец держал рюкзак. Другой поднес к камере наблюдения свое удостоверение раввина.
Незнакомец, приехавший на пароме, сказал, что он из Бостона, но по-английски он говорил с легким испанским акцентом. В последующие месяцы он превратил обычно довольно спокойные службы в синагоге в яркие представления. Пятничную службу он вел дольше трех часов. Он ходил между рядами, звал женщин с балконов вниз, прерывал молитву, чтобы задать вопрос, требовал ответа и не успокаивался, пока не чувствовал присутствие Бога в помещении.
В один прекрасный день исчез и он. Ни единой зацепки, куда бы он мог деться. Ни одной общине в Бостоне не был известен человек с таким именем. В той раввинской семинарии, которая выдала ему диплом, подтвердили, что он там учился, но никто не знал ни его семьи, ни друзей. Единственный след возник тогда, когда кузина Кацмана увидела похожего на него гида, который вел туристов по переулку где-то в Индии. В тесном переулке было полно людей, и у нее не было ни малейшего шанса подойти поближе и как следует рассмотреть его.
Некоторые утверждали, что над нами тяготеет проклятие. Когда-то у нас было, как в других общинах, – раввины оставались до старости, болезни или смерти. Очень давно, задолго до войны, у нас был старик, который не хотел уходить, хотя ему перевалило за девяносто. Он был так слаб, что двум мужчинам приходилось помогать ему подниматься на помост. У него был настолько тонкий голос, что его могли услышать только те, кто стоял рядом. И тем не менее он настаивал на проведении каждой службы. Даже то, что он, вынимая из шкафа свиток Торы, все чаще ронял его, старика не смущало, хотя в наказание за такой проступок надо целых сорок дней поститься. Эти сорок дней, поскольку для одного человека это слишком много, делятся между всеми, кто присутствовал при падении свитков.
Старый раввин с каждым годом становился дряхлее и упрямее. После одной особо суровой зимы от него почти ничего не осталось, кроме прозрачного скелета. Каждый раз, когда он приближался к шкафу с Торой, чтобы достать свиток, прихожане задерживали дыхание. Через какое-то время его стали захлопывать. Ничего не помогало. Каждый раз он ронял свитки. По большим праздникам и по малым, в шабат и в будни, на утренней службе, по вечерам и в воскресенье, когда их вынимали, только чтобы стереть с них пыль. Он ронял их на деревянные половицы синагоги, на красный ковер, на лестницу, ведущую с помоста, а как-то раз один свиток упал прямо на другие свитки в шкафу с Торой, что вызывало цепную реакцию – все свитки выпали, скатились вниз и приземлились перед первым рядом.