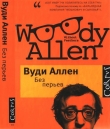Текст книги "Три обезьяны"
Автор книги: Стефан Игаль Мендель-Энк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Пока она говорила, ее лицо темнело. Она всегда знала, что мама папе не пара. Она его отговаривала, а он не слушал. И никто не слушал. Они думают, что могут обращаться с ней как угодно. Мамина мама, которой она доверяла. Мамин папа, о котором она была такого высокого мнения. Они предали ее, оба. Они должны были образумить свою дочь, говорила она мне, а не потворствовать ее mishigaz[16]16
Глупостям (идиш).
[Закрыть].
Мамэ с такой силой опустила щетку в воду, что пена перелилась через край мойки. Схватив меня за футболку, сказала, что она никогда не сможет снова посмотреть в глаза моей бабушке или маме. Она не говорила, а шипела, пристально глядя на меня. Мне хотелось отвести глаза, но я не решался. «Он должен был меня послушать. С самого начала я знала, чем это кончится. Слышишь меня, Койбеле[17]17
Уменьшительное от «Якоб» (идиш).
[Закрыть]. С самого начала!»
* * *
«В качестве председателя», – начал было папин папа и сразу же был вынужден повторить, поскольку Бетти сказала, что не слышит.
«В качестве председателя дисциплинарной комиссии хевра кадиша, погребального общества при еврейской общине в Гётеборге, мне поручили проинформировать членов общины о правилах пребывания на том участке и на тех объектах недвижимости, которыми община владеет на Восточном кладбище 12:3, впредь именуемыми еврейским кладбищем».
Он опустил руку с бумажкой. Смотря куда-то поверх нас, слушателей, сказал, что ему странно. Мы живем в новом тысячелетии, общаемся с помощью компьютеров и беспроводных телефонов, но погребальное общество диаспоры сталкивается сегодня с теми же проблемами, что и две тысячи лет назад. А именно:
Антисемитский вандализм.
Просроченные платежи.
Нехватка места.
Все больше тревожит последнее, сказал он, опять заглянув в бумажку. Надгробия и так стоят теснее некуда. В общине много пожилых людей, а из-за неспокойной ситуации в Израиле они не репатриируются туда в том масштабе, который с этой точки зрения был бы желателен.
Стремлению общины получить больше земли противостоит страх окружающих кладбищ, что антисемитские граффити распространятся и на их могилы. Они к тому же недовольны неподобающим шумом, который обычно доносится с парковки рядом с еврейским кладбищем, что, по их мнению, только усилится с расширением участка.
Дедушка повысил голос. Коммуна дала понять, что расширение: 1) обойдется очень дорого и 2) потребует от нас всех более сдержанного поведения на похоронах.
Все это вынудило погребальное общество принять строгие меры по ряду пунктов. Это относится к халатности при оплате и к нескромному поведению на кладбище и рядом с ним.
«Иными словами это относится, – произнес дедушка и сделал маленькую паузу, – к инцидентам такого рода, который произошел сегодня утром в молельне».
* * *
Обычно я соскакивал на площади Дроттнингторгет и шел вдоль канала. От других остановок было ближе, но я любил ходить так сам по себе, подбирать маленькие камушки и бросать их в воду. На другой стороне между изогнутыми деревьями сидели влюбленные парочки. Компании панков с магнитофонами и пивными банками резвились у самого берега.
На поперечной улице находился порномагазин с зашторенными окнами. Дверь всегда была нараспашку, а над входом весело реял большой шведский флаг. За стеной был магазин грампластинок, пахнущий мокрой одеждой.
У тети в киоске я покупал «Сникерс» или «Рейдер» и несколько жвачек. Продавщица носила затемненные очки с едва заметной черточкой на стеклах. Она считала, что мы очень хорошо воспитаны, и никогда не волновалась, когда мы приходили. С другими детьми она не могла расслабиться ни на секунду. Стоило ей наклониться за пакетом с чипсами, как вазочка с конфетами на палочке сразу же оказывалась пустой. Мы так никогда не делали. Это обусловлено генетически, полагала она.
Напротив входа в общину находилась многоэтажная парковка со шлагбаумом в красную и белую полоску, который медленно опускался и поднимался. С парковки плыло мутное облако выхлопных газов. Прямо перед входом в общинный дом оно смешивалось с вязким чадом китайских ресторанов по обе стороны улицы. Лучше всего пахло сразу же после дождя, когда от асфальта поднимался влажный пар.
Корзина Зельды стояла в проходе прямо за турникетом. Она подпрыгивала, когда я входил, и виляла хвостом, высунув толстый язык. От этого упражнения ей так хотелось есть, что она тотчас протискивалась через широкие белые жалюзи, висевшие перед конторой Заддинского, и клянчила несладкое печенье из пакета на его письменном столе. Я слышал, как они препирались. Заддинский старался говорить строго, но не мог скрыть благодарности за перерыв в работе. Когда я проходил мимо, он просовывал свою круглую как шар голову сквозь жалюзи и комментировал мою одежду, прическу или мой большой рюкзак: «Хе-хе… Это ты несешь сумку или сумка несет тебя?»
Наши занятия проходили в помещении на втором этаже. Третья дверь слева по коридору с желто-зелеными стенами. В комнате были расставлены работы учеников прежних выпусков. Плохо выполненные копии фотографий. Линованные страницы с записями, сделанные аккуратным почерком. Бен-Гурион потерял свою мать в возрасте одиннадцати лет… Моше Даян потерял свой глаз во время Второй мировой войны… Несмотря на все уловки, Голде Меир не удалось донести смысл своего обращения до иорданского принца…
Той осенью у нас началось израильское страноведение. В группе было двенадцать человек. Мы собирались каждый четверг вечером и занимались два часа. То же самое время, тот же день недели и те же двенадцать учеников, которые в течение семи предыдущих лет изучали иудаизм и иврит.
Точно так же, как и раньше, нам преподавала фрёкен Юдит. У нее были длинные темные волосы, которые она перехватывала большой заколкой на уровне лопаток. Почти всегда она носила обтягивающие брюки из блестящей материи, застегивая их высоко над талией. Создавалось впечатление, что у нее два живота, один над тонким поясом, а один под ним. В предвкушении сигареты во время перерыва она вертела ручку или мелок.
В течение года Юдит должна была знакомить нас с современным Израилем – его историей, географией, политической системой, важнейшими статьями экспорта – и помогать нам собирать деньги, необходимые на поездку в Израиль на пять недель летом.
Я сидел почти в самом конце ряда, у двери, вместе с Юнатаном Фридкиным. В начальных и средних классах мы ходили вместе и в обычную школу. Несколько раз в неделю после уроков шли к нему домой. Под кроватью он держал целый ящик с американскими комиксами и музыкальными журналами, которые получил от родственника. Как-то теплым весенним вечером мы играли в саду в футбол с его младшим братом, и тут домой пришла его мама – Тереза. Она достала почту из ящика и стала ее просматривать по дороге в дом. Остановившись на маленькой каменной лестнице перед входом, она прочла вслух из одного письма о том, что Юнатана приняли в школу в городе.
Юнатан продолжал играть, не говоря ни слова. Тереза подошла к нам и повторила новость. Сначала в ее голосе звучал энтузиазм, затем вопрос, а потом раздражение. Через какое-то время она тоже замолчала. А потом велела нам идти вместе с ней в дом. Из груды бумаг на разделочном столе она достала маленькую бело-голубую тетрадку, присланную молодежным объединением, и показала нам все лагеря и мероприятия, в которых мы теперь, став подростками, можем участвовать.
Летом мы вместе поехали на четыре недели в еврейский лагерь в Дании. На рождественские каникулы мы, может быть, поедем в лагерь в Сконе. На спортивные каникулы мы узнаем, не устраивает ли община в Стокгольме какую-нибудь поездку на лыжах.
Но Юнатан еще не решил, переедет ли он со мной в Израиль после гимназии. Я поеду сразу, примерно через месяц после окончания гимназии, как сделал Рафаэль. Папин папа похвалил это решение в своей речи на моей бар-мицве. «Мне не хватает слов, чтобы выразить ту радость, какую ты нам доставил, уже сейчас высказав четкое желание выбрать еврейское будущее». Говорил он долго, и я не мог сосредоточиться. Папа одобрительно кивнул, когда официант остановился рядом со мной с бутылкой вина, и я поднимал свой бокал за лехаим всякий раз, когда встречался глазами с кем-нибудь из присутствовавших.
Утром в день бар-мицвы я проснулся в прекрасном настроении. В синагоге, когда я собирался читать свой отрывок, раввин поинтересовался, не волнуюсь ли я. Я не понял, что он имел в виду. А что мне нервничать? Мы же полгода тренировались. Я знал мой отрывок из Торы, будто он впечатался мне в позвоночник. Заметив, что я не понял вопроса, раввин рассмеялся.
Специально для этого дня мы с мамой купили мне одежду. Рубашка с короткими рукавами, светлые брюки и красный галстук. Клетчатые ботинки с двумя кисточками у выреза. Довольно дорогие ботинки, но мама сказала, что потом я могу ходить в них в школу. Они хорошо смотрятся с джинсами.
Почти на всех праздниках бар-мицвы и бат-мицвы[18]18
Обряд вступления в совершеннолетие еврейских девочек, достигших двенадцати лет.
[Закрыть], на которых я присутствовал, спустя какое-то время после начала ужина наступал момент, когда один из членов семьи вставал и произносил что-нибудь экспромтом. Это был не спич в традиционном смысле слова, а скорее стремление высказаться, и немедленно, возникавшее во время приема пищи. Такие речи начинались вполне обычно. Конфирманта хвалили за сегодняшнее выдающееся достижение и выражали свою благодарность за то, что их пригласили на праздник и дали насладиться фантастической едой. Когда с этой частью было покончено, выступающие обычно сжимали ладони перед подбородком, смотрели в стол и произносили: «Но».
Именно тогда, после произнесения этого короткого слова, у них в горле вставал комок, и им приходилось брать маленькую паузу, чтобы восстановить дыхание. Когда они были в состоянии снова говорить, то называли имя какого-нибудь старого умершего родственника, и тут прорывало все плотины. Все остальное, что накопилось у них на душе, произносилось с рыданиями. Как жаль, что именно покойный не может присутствовать на этом торжестве. Именно покойный по-настоящему оценил бы это. Именно у покойного было особое и близкое отношению к объекту празднования.
На моей бар-мицве никто ничего такого не говорил. На ней были все – мамина мама и мамин папа, папин папа и мамэ, тетя Ирен и тетя Лаура, мама и папа, Рафаэль и Мирра, – они все сидели рядом с торца длинного стола в банкетном зале. Папа поправил мой локоть, который все время норовил соскользнуть с подлокотника. Мама похлопала меня по щеке. Закончив говорить, папин папа наклонился через маму. Он дал мне текст своей речи и сказал, что дома я смогу прочесть ее снова.
Я решил, что первый год в Израиле буду работать в кибуце. Как следует выучу иврит. Буду ухаживать за скотом или помогать на кухне. Я представлял себе листок на выцветшей от солнца доске объявлений у входа в столовую. Я запишусь на нем, и в один из вечеров меня позовут на лужайку на встречу с полковником в шрамах, который все видел и во всем участвовал. Он скажет нам, что не хочет лгать, не хочет делать вид, что нас ждут одни только подвиги и слава – есть и другое. Ужасная сторона, опасная сторона, и он расскажет, чтобы быть уверенным, что мы знаем, что делаем и во что ввязываемся, и подойдет к каждому для отдельной беседы и остановится передо мной, присев на корточки в мягкой вечерней траве. А я посмотрю в сторону бараков поодаль, где мы с друзьями обычно проводим вечера, – курим, разговариваем и поем в свете мерцания стеариновой свечи, вокруг нас стрекочут кузнечики, а над нами тысячелетнее израильское небо в звездах. Я скажу полковнику, что понимаю, что играм пришел конец, что меня ждут серьезные дела и что это моя судьба, нельзя уйти от того, что ты должен сделать. «Мазаль тов», – скажет полковник и обнимет меня. «Добро пожаловать в нашу команду».
Я стремился к этому. Сильнее всего я предвкушал поездки домой на лето. Пройдя паспортный контроль в аэропорту «Ландветтер», я пойду по проходу к эскалатору, ведущему вниз к транспортеру, в зеленой рубашке с желтыми ивритскими буквами на груди. Все остальные будут ждать меня по другую сторону прозрачной стены. Посмотри, вот он, как же он вырос, как стильно одет. В машине по дороге домой я раздам подарки и пущу по кругу маленькую фотографию моей новой девушки.
Единственное, что беспокоило меня в армии, был огонь. Рафаэль рассказывал об учении, когда всем надо было бежать сквозь горящий напалм. Я пытался представить это, засыпая в кровати. Один за другим в пламени исчезали мои товарищи, пока не пришел мой черед; Давай же, Якоб, думал я. Ведь все справляются. Может быть, это даже не настоящий огонь, а что-то вроде водопада в Сказочном замке в парке аттракционов Лисеберг, сквозь который ты проезжаешь, оставаясь сухим. Но даже в моих фантазиях ничего не получалось. Я стоял как вкопанный и смотрел на пламя.
«С результатом шесть – четыре победила линия Бен-Гуриона», – объявила Санна Грин и записала на доске: 6:4.
Она стояла у доски в кофте, крепко завязанной за плечами, с пачкой светлой бумаги в руках. Она рассказывала о том, что двести пятьдесят гостей ждали Бен-Гуриона в том музее Тель-Авива, где он должен был провозгласить рождение нового государства. Их призывали хранить церемонию в секрете. Иначе существовал риск, что британцы положат всему конец. Они считали, что слишком рано провозглашать независимость. США тоже так считали. Они предупреждали, что заморозят выплаты, если евреи так сделают. Никакого оружия не поставят, если начнется война.
Бен-Гурион не собирался ждать ни одной секунды. Хватит двух тысяч лет ожидания. Теперь или никогда.
Ровно в четыре он прочтет речь, последние фразы которой дописывал человек по имени Шареф в доме на другом конце города. Около половины четвертого Шареф понял, что забыл заказать такси в музей.
Он выбежал на улицу и остановил машину. После долгих уговоров водитель посадил его. По дороге их остановили за превышение скорости. Водитель запаниковал. Машину, которой он управлял, он взял напрокат, и к тому же у него не было водительских прав. Шареф размахивал своими документами и объяснял полиции, что рискует нарушить ход истории.
Без одной минуты четыре они приехали в музей. По бумажке Санна прочла, что пройдет двадцать лет, прежде чем Шареф получит важный пост в израильском правительстве.
Юнатан Фридкин пихнул меня в бок. У него была такая же кожа, как у его папы Берни, светлая с маленькими коричневыми точками – как кожура перезревшего банана. Я знал, что он недоволен своей кожей, особенно много точек было на пальцах, и когда он разговаривал с девушками, он всегда держал руки за спиной или в карманах.
«Смотри», – сказал он, разжав левую ладонь.
В ладони лежала абсолютно черная кассета. Даже колесики в дырочках были черными. Юнатан утверждал, что получил кассету от своего родственника из Америки. У родственника был бассейн в доме и во дворе и совершенно особые связи в музыкальном мире, благодаря чему он раздобыл эксклюзивные оригинальные записи, которые Юнатан держал в руке. Я не верил ни одному слову.
«Дай мне три, и я дам тебе послушать».
«Две», – ответил я. К моему удивлению, Юнатан не стал протестовать. Он с благодарностью взял две клубничные жвачки, которые я втихаря сунул ему под партой. Его джинсовая куртка висела на спинке стула у него за спиной, и, не поворачиваясь, он засунул жвачки в нагрудный карман. Через какое-то время он снова пихнул меня. «А начальник твоей мамы уже к вам переехал?»
Вопрос меня ошарашил. К счастью, я быстро нашелся и потом гордился собой. Слышала бы мама, что спросил Юнатан, но она была бы довольна тем, что я все отрицал, и сказала бы: я знала, что ты умеешь хранить секреты.
«Так говорит мой папа».
Он открыл пустую страницу в своем блокноте и в верхней строчке несколько раз написал свое имя. При письме он плотно прижимал карандаш к бумаге. Буквы были прямые, ни одна не больше и не меньше другой, и они соединялись диагональными черточками совершенно одинаковой длины. Его подпись выглядела так, словно ее поставил ребенок семи лет, влюбленный в свою учительницу.
«Он спит на диване в гостиной», – сказал я. Я не был уверен, что и это ложь. Мама постелила Ингемару на диване, и оба сказали, что пока лучше всего ему спать там. Как-то ночью Мирра видела его в маминой постели, когда проснулась и испугалась, но ведь это не обязательно означало, что он приходит туда каждую ночь.
Больше Юнатан не успел ничего сказать, поскольку фрёкен Юдит встала за кафедрой и направила в нашу сторону свое хриплое дыхание. Спокойным голосом она сказала, что если мы не перестанем мешать, она отправит нас к раввину. Затем снова села. Санна Грин поправила кофту на плечах и обернулась. Большими буквами она написала на доске имена всех министров первого израильского правительства.
* * *
Вместо того чтобы постучать сервировочной ложкой о край тарелки, мамина мама подобрала остатки еды большим пальцем. После чего поднесла ложку к лампе, подышала на черпак и протерла его.
«Качество», – произнесла она.
Мы ели тощую курицу с толстой кожей. На задней стороне грудки застыли комки жира. Я взглянул на свой кусок, и он умоляющее посмотрел в ответ, словно чувствовал, что никто не хочет иметь с ним дело. Возьми меня, говорил он, я сделаю все, что угодно.
У Ингемара есть вкус, констатировала бабушка. Он способен отличить класс от дрека[19]19
Дрянь (идиш).
[Закрыть]. Где он достал эти фантастические приборы? Может быть, купил в какой-нибудь командировке? Или получил в подарок от солидного коллеги? Так принято в мире бизнеса, объяснила она. Люди беспрерывно делают друг другу дорогие подарки в знак уважения.
Быстро съев мясо, я принялся за хрящи. Самые лакомые кусочки были ближе к кости. У маминого цыпленка они были такие вкусные, что приходилось есть даже белые, твердые части. По понедельникам в холодильнике обычно водились остатки шабесной курицы, а в остальные дни, когда я приходил домой, найти что-нибудь по-настоящему съедобное было трудно. В морозилке лежал хлеб, но на него можно было положить только сыр. Иногда у нас водились сосиски, но они в любом случае были кошерными. Кроме формы, у них было очень мало общего с тем, что обычно подразумевают под сосисками. Только потому, что кошерные сосиски не должны быть из свинины, производители считали, что их нельзя делать по обычному рецепту. Они считали, что могут класть туда все, что пожелают. Что угодно, что нельзя использовать в каком-нибудь другом блюде. Дайте это еврейским детям, они думают, что у сосисок должен быть такой вкус. Кладите туда все, что только можно. Когда на детских праздниках нам давали сосиски, они всегда воспринимались не как еда, а как эксперимент. Как будто взрослые хотели посмотреть, действительно ли можно заставить маленьких детей радоваться блюду, главным образом состоящему из уксуса и порошка репчатого лука.
Может быть, в этом и заключается разница между нашим Богом и христианским. У их Бога были дети, и он понимал, что детей надо чем-то угощать. Поэтому им давали и рождественские подарки, и пасхальные яйца, и сосиски с какой-нибудь приправой.
Единственным нашим соответствием были кульки со сладостями, которые мы получали в подарок раз в год. Содержимое этих кульков всегда было странным. Маленький пакетик изюма, пакетик с арахисом и мандарин. Ну что мандарину делать в кульке со сладостями?
Я подозревал, что неудачные кульки со сладостями – часть нашего восточноевропейского наследия. Точно так же, как запотевшие бутерброды с сыром, которые давали в субботний киддуш. Только люди из Восточной Европы могли изобрести бутерброд, который покрывается капельками пота. Все старики в общине были из Восточной Европы. Остатки их культуры погибли в войнах и гонениях. Спаслась только еда. Чтобы приспособиться, они давали своим детям шведские имена и до неузнаваемости коверкали свои фамилии. Но еду они сохранили. Они могли поступиться своей идентичностью, но не своими высохшими курицами и заплесневелыми овощами. То, что после всех трагедий в конце XX века существовала живая восточно-еврейская кухня, было историческим подвигом. Вместе с тем это был жестокий удар по теории эволюции.
Я размышлял над тем, есть ли какая-то связь между качеством еврейской еды и таким обилием религиозных запретов. Не ешь свинину, не ешь морепродукты, не запивай мясо молоком, употребляй слова «молоко» и «мясо» в самом широком смысле. Я заметил, что религиозным людям было важно показать, что они могут побороть свою потребность в еде. Особенно отцам семейств с амбициями раввинов. Как папа Мойшович. На Пейсах, когда после четырех часов в ожидании еды ему оставалось только прочесть последнюю, маленькую молитву, он с удовольствием пользовался случаем, чтобы продемонстрировать, какая обывательская чушь, по его мнению, голод. Его ничуть не беспокоили такие не имеющие значения вещи, как недоедание. Он совершенно никуда не спешил и мог позволить себе длинное отступление, наполовину продуманное размышление, подробное педагогическое разъяснение какому-нибудь юноше, который считал, что призыв задавать вопросы (спрашивайте, дети, спрашивайте, иудаизм основан на сомнении, не бывает глупых вопросов) надо воспринимать буквально.
Мирра доела первой. Спросив, можно ли выйти из-за стола, она быстро сунула тарелку в посудомоечную машину и пошла за книгой, которую оставила в саду. Ее выбор литературы для чтения служил неиссякаемым источником гордости в кругу наших старших родственников: исключительно книги о Холокосте, свидетельства маленьких девочек, подлинные или вымышленные. Девочек или прятали, или им удавалось бежать. В их сердца западал стильный парень-гой, который на следующий день и знать их не хотел, и любимый котенок, с которым их хладнокровно разлучали наци.
Бабушка убрала мою тарелку и велела сидеть, пока она не принесет свою сумочку. Когда она открыла сумочку, запахло помадой и кожаными перчатками. Она достала оттуда футляр для очков, проездной на трамвай и последний номер газеты «ТВ-экспресс». Я не понимал, почему ей так обязательно брать эту газету с собой. Телеприложения печатают для тех, кто выбирает, что смотреть. Бабушка же смотрела все подряд. У нее и в мыслях не было, что по телевизору могут показывать что-то плохое. Она считала всех мужчин из телевизора красивыми, даже политиков и дикторов из программы новостей «Вестнютт». Ее телевечера заканчивались только тогда, когда отказывала шея. Голова опрокидывалась на спинку стула, звучало легкое похрапывание, а шея, казалось, вот-вот переломится. Ее щеки можно было тянуть вниз, пока они не смыкались под подбородком, а она все равно не просыпалась.
С дедушкой было совсем по-другому. Все, что показывали по телевизору, он делил на две категории: евреи и антисемиты. Ингмар Бергман – еврей. Грета Гарбо – антисемитка. Передача «Раппорт» чуть-чуть больше антисемитская, чем «Актуельт». Евреями были пианисты, а также владельцы бутиков. Итальянцы и датчане – тоже евреи, равно как и певицы с шапками курчавых волос. Гленн Хюсен был евреем, когда играл в команде «Бловитт», и антисемитом, когда в сборной. Спортивные репортеры – антисемиты. Актеры в европейских фильмах – антисемиты. Актеры в сериалах гётеборского производства – фанатично убежденные антисемиты.
Утро у дедушки начиналась всегда одинаково. Он вставал в четыре часа, шел на кухню, приставлял стул к окну, клал руки на колени и начинал вращать глазами: влево, вправо, вверх, вниз. Он говорил, что от этого лучше видит. Как-то утром, когда они у нас ночевали, я пошел с ним на кухню и сел рядом. Я взял с собой одеяло и сильно кусал себя за пальцы, чтобы не заснуть. Закончив упражнение, он закрыл глаза.
«А теперь что ты делаешь?» – спросил я.
«Разговариваю с моей мамой», – ответил он.
Я спросил, о чем они разговаривают, и он ответил, что о самых обычных вещах. Что он ел на ужин. Что смотрел по телевизору. Дедушке было пять лет, когда его семья в 20-х годах приехала в Гётеборг. Они бежали из своей деревни через Чехословакию в Прибалтику. В Риге они сели на корабль, думая, что приплывут в Америку. Их поселили в Гётеборге, в районе Хага, в одной квартире с другой еврейской семьей. Каждый год в начале октября они шли в полицию по делам иностранцев на улице Спаннмольсгатан и подавали прошение о виде на жительство.
Иногда они наталкивались на добросовестных чиновников, которые с безликим усердием просматривали их дело. Иногда – на разговорчивых шутников, которые превращали их визит в маленький спектакль, созывали своих коллег в качестве публики и сидели с зажатыми носами, пока просители не уходили из конторы.
Дедушкин папа продавал двери. Как-то раз полиция сообщила, что у него не сходится бухгалтерия и поэтому его вышлют вместе с женой. Дедушкины родители умоляли принять во внимание, что к тому моменту они прожили в Швеции уже пятнадцать лет, что их сыновья призваны на военную службу этой страны, а также то, что из-за немецкой аннексии положение евреев в Чехословакии стало еще менее безопасно.
Дедушка служил в 16-м пехотном полку в Хальмстаде и не смог приехать в Гётеборг проститься. Его папу застрелили всего лишь спустя неделю после приезда в Прагу. Мама попала в Терезин, но выжила и после войны воссоединилась со своими детьми в Гётеборге. Через несколько месяцев после этого, когда она собирала цветы в Дальшё, ее переехал пятый трамвай.
Бабушка выудила из сумки двойную шоколадку «Дайм». «Дайм» – один из лучших в мире сортов шоколада, сказала она. Сравнить хотя бы с «Плоппом». Такая scheiss[20]20
Гадость (идиш).
[Закрыть]. Два раза куснул, и шоколадки нет. Оболочка тонкая как бумага. А дешевая начинка вызывает изжогу. От отвращения бабушка вся скривилась и закашляла, словно от одного упоминания «Плоппа» у нее жгло в горле.
Сначала я съел шоколад, а затем перешел к твердой части. Бабушка считала, что «Дайм» надо сосать как карамель. И не только потому, что так вкуснее. Так на дольше хватит. Я пытался объяснить, что это трудно, зубы не всегда слушаются: уж если они решили что-нибудь уничтожить, с этим ничего нельзя поделать. Она говорила, что понимает, но когда у меня во рту начинало хрустеть, смотрела на меня с недовольством. Но в этот раз она просто молча сидела напротив, нетерпеливо стуча ногтями о стол. Она спросила, как папа, и я ответил, что когда мы виделись в последний раз, у него было довольно хорошее настроение. «God zei dank»[21]21
Слава Богу (идиш).
[Закрыть], – сказала бабушка, по-прежнему отбивая зажигательный ритм острыми ногтями о деревянную столешницу. Через какое-то время она встала и начала вытирать стол. Сложив одну ладонь горсткой, другой она стряхивала туда крошки с края стола. Она поинтересовалась, что мы делали с папой и были ли дома у мамэ и папиного папы, и, когда я ответил утвердительно, зажала крошки в ладони и вскинула голову: «Ну и что она сказала?»
Мне показалось, что на бабушкиных губах в красной помаде появилось подобие улыбки. Я прислонился стулом к стене за моей спиной. Мой ответ не играл никакой роли. Бабушка знала, что обычно говорила мамэ, когда я помогал ей вытирать посуду. За недели, что прошли с тех пор, как папа выехал, а Ингемар въехал, мамэ успела поделиться своими подозрениями с большей частью общины. Мамэ была уверена в том, что бабушка с дедушкой давно знали, что мама завела роман со своим начальником. Что они помогали маме держать это в секрете. Что она никогда не простит бабушку с дедушкой за то, что они сидели с ней за одним столом на моей бар-мицве, пели и веселились, зная, что произойдет.
«То же, что обычно», – сказал я, вернув стул в первоначальное положение. Бабушка немного постояла передо мной, а потом пошла к мойке и выбросила мусор. Открыв воду, она ополоснула руку, глядя в сад. Намочив тряпку, резкими движениями протерла мойку и пробормотала, что у мамэ в родне все сумасшедшие.
До этого момента дедушка молчал. Он сидел на стуле и ел десерт собственного изобретения – большой кусок апельсинового мармелада в чайной чашке – в спокойном и ровном темпе, словно мы с бабушкой говорили о вещах, совершенно его не касающихся. Теперь он с усердием скреб дно чашки чайной ложкой и рассказывал о брате мамэ, который писал стихи и не выходил из своей квартиры на площади Редбергсплатсен с конца 60-х годов. Он вспомнил об одном из ее двоюродных братьев, который сидел в тюрьме, и о какой-то родственнице, вышедшей замуж за собственного дядю.
Бабушка медленно водила тряпкой по плите. Во время дедушкиного рассказа она кивала и вставляла подробности. Оба смеялись, когда кто-нибудь из них называл имя, которое они давно не слышали.
На улице стемнело. Бабушка хлопнула ладонью по рту, увидев, что уже почти половина девятого, а она еще не включала телевизор. Она поспешила в гостиную, а мы с дедушкой поставили чай.
* * *
Тем временем в Израиле разгорались дебаты вокруг «Шир хабатланим»[22]22
«Песня хулигана» (иврит).
[Закрыть], песни, которая в начале года представляла страну на «Евровидении». В тексте песни говорилось о безработном лентяе, который вставал с постели ближе ко второй половине дня. Религиозные силы выступили против паразитического содержания. Министр культуры пригрозил отставкой.
Швеция выразила свою позицию по этому вопросу весьма неожиданным образом: директор фирмы грамзаписи Берт Карлссон записал летом собственную версию мелодии. Успехи от продажи «Хоппа Хуле», как назвали песню по-шведски, были очень скромными, но все равно запись посчитали шагом к желаемой разрядке в шведско-израильских отношениях. По крайней мере среди еврейского контингента Гётеборга.
В этой среде к шведскому шлягерному истеблишменту относились с недоверием с конкурса 1978 года, когда Швеция оказалась единственной страной, которая поставила ноль баллов чарующей композиции Израиля и Изхара Кохена «А-ба-ни-би». Конечно, дело обстояло не так, как утверждали некоторые – то есть мамин папа и иже с ним, – что якобы все остальные страны поставили Израилю высший балл, но ничего не дать такой жемчужине диско никуда не годится, и в этом сразу же усмотрели связь с антиизраильскими настроениями, которыми, как считалось, было пронизано все шведское общество.
Когда год спустя Израиль сам стал страной-хозяйкой фестиваля, чувства у всех были на взводе. Для моих родителей и их друзей это было все равно, что в первый раз отпустить своего ребенка одного в город. Они впадали то в гордыню, то в отчаяние. Он еще не созрел. Он не справится. Ему, может быть, еще какое-то время лучше бы заниматься чем-нибудь попроще. Выигрывать войну в пустыне. Косить египтян, пока они с помощью брошюр с инструкциями осваивают новые советские самолеты. Надежными вещами. Такими, к которым он привык. А развлекают пусть пока другие.
Трансляция началась с чересчур затянутого показа видов пустынного Иерусалима. На заднем плане печально играла флейта. Мимо проезжали редкие автобусы. Следующей проблемой оказалось оформление сцены: три переплетающихся кольца. Возможно, это интересно с точки зрения геометрии, но лучше бы смотрелось в вестибюле научного центра, чем на самом крупном европейском развлекательном событии года.