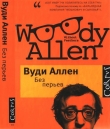Текст книги "Три обезьяны"
Автор книги: Стефан Игаль Мендель-Энк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Тогдашнее правление общины вычислило, что если сложить все дни и поделить их между всеми взрослыми членами общины, а также мальчиками, которые станут бар-мицвами в течение года, то каждому надо поститься почти месяц. Правление сочло, что не имеет смысла вынуждать членов общины идти на такие жертвы, когда все равно количество дней вскоре придется увеличить. Правление решило подвести под случившимся черту и перестать считать.
Только когда мы искупим это преступление, с нас снимут проклятие.
* * *
Папа свернул талес и положил его в ящик.
Одолжил зажигалку у мужчины со шкиперской бородкой с переднего ряда.
Я прижал руки к бокам и посмотрел на пол. Когда я раскачивался на ногах, кисточки на мокасинах словно танцевали друг с другом. Я обнаружил это вместе с Санной Грин на праздновании моей бар-мицвы. Ее семья пришла одной из первых. После того как я открыл их сверток, мы встали рядом спиной к столу для подарков. Мы почти не разговаривали, просто стояли нарядно одетые и смотрели на красиво украшенные столы. Я начал играть кисточками и говорить на разные голоса. Санна досмеялась до икоты, а потом вообще зашлась в смехе. Она не перестала смеяться, даже когда вскоре подошли папины родители и тетя Ирен. Мамэ вручила от них подарок, причем ее голос и руки дрожали от серьезности момента. Мне пришлось сделать вид, что я не знаю, что лежит в свертке, хотя мамэ рассказала мне об этом еще за несколько месяцев. «Я не хочу, чтобы ты говорил это маме с папой, но на твою бар-мицву, Якоб, я хочу подарить тебе нечто важное. На память. Не новый свитер, не сотню в конверте. Я хочу подарить тебе, – она посмотрела по сторонам, словно чтобы удостовериться, что никто не подслушивает, – бокал для киддуша, которым ты будешь пользоваться всю жизнь. Хочешь взглянуть прямо сейчас?»
У меня глухо урчало в животе, болели ноги, жгло спину.
Скамья была покрыта толстым слоем коричневой краски со сливочным оттенком, как будто ее покрасили шоколадным пудингом. К ней было приятно прижаться щекой. Я стал засекать время, сколько смогу держать рот открытым, не пуская слюни. 1, 2, 3. Я считал про себя. 34, 35, 36. Закрыл глаза. 71, 72, 73. Йом-Кипур. 1973. В два часа дня раздался сигнал воздушной тревоги. Сразу после этого новость дошла до информационных агентств. Раввин прервал службу, и все бросились в общинный дом. Из-за воротничков с длинными уголками и густых бакенбард в конторе Заддинского стало особенно тесно. Мама была беременна мною. Рафаэль выглядел как Маугли, а папа был без усов.
Жаль, что в тот день меня не было вместе со всеми. Вся община собралась перед хрипящим радио, некоторые бегали звонить родственникам в Израиль, на полу играли дети в теплых свитерах. Я мог быть одним из них, и папа мог бы подозвать меня и Рафаэля к себе, посадить нас на колени и объяснить, что случилось. Рассказать о шоковых атаках с севера и с юга, о наших войсках, которые отступали, спина к спине, о штабе в Иерусалиме, где наши самые острые умы и мужественные сердца делали все, что могли, чтобы предотвратить невозможное поражение.
89, 90, 91. Темная комната. 102, 103, 104. Нервные политики. 117, 118, 119. Жалкие новости с фронта. Голда прикуривала одну сигарету от другой и обзывала своих министров идиотами. Они не сумели учуять в воздухе запах войны, а теперь им не удалось быстро получить план от США. Еще несколько часов, и страну уничтожат, а ничего радикального не происходит. Голда предвидела кровавую баню. Может быть, наши враги проявят больше милосердия, если мы сдадимся прямо сейчас. Да, решила она, пусть будет так. Она стояла с трубкой в руке, когда я ворвался в комнату и закричал: «Подождите». Полковник засмеялся надо мной. Голда велела ему замолчать, пусть мальчик скажет. Между тем висящая на стене карта у нас за спиной сменяется черно-белыми фотографиями пионеров, которые пробираются по негостеприимной пустыне, мимо проносятся военные составы, нацисты с автоматами толкают перед собой пленных, и Бен-Гурион в музее Тель-Авива, и солдаты у Стены плача, и дедушка с мамэ на отдыхе в Нетании, и светлые, темные, европейские и восточные дети вместе в детском саду, и все встают в ряд и поют гимн Израиля «Атиква».
Я вытер лицо тыльной стороной ладони. На откидной крышке под моим подбородком образовалось лужа слюны величиной в пятикроновую монету. Сердце быстро билось. Я посмотрел прямо вперед поверх рядов и попытался найти такую позу, чтобы почувствовать себя уверенно и независимо, а не скованно, но у меня ничего не получилось. Сунув руки в карманы, я вышел.
* * *
Я выглянул в вестибюль и посмотрел в сторону входа, где была контора Заддинского. Зайдя в туалет, увидел, что все кабинки заняты.
Мирра с подружками играла на лестнице в салки. Когда я спросил, не видела ли она папу, она покачала головой.
Я поднялся по лестнице, держась за черные пластмассовые перила. Двери в банкетный зал были заперты. В деревянных креслах у входа никого не было.
В одной из классных комнат на третьем этаже несколько столов составили в два ряда и поставили их торцом к кафедре. Маленькие дети собирали мозаику и пазлы с текстом на иврите и английском. На стуле рядом с доской лежала кипа специальных летних выпусков «Иллюстрированных классиков» 1977 года.
Номер был посвящен исходу из Египта, и община закупила сотню экземпляров. Они валялись под диваном внизу, в пабе, в углах за сценой в актовом зале, и были единственным периодическим изданием, которое выдавали в библиотеке дальше по коридору. Когда я был младше, я мог одолеть только первую половину. Все шло хорошо, пока Моисей был маленьким и жил как принц. Но потом, когда он узнавал, кто он на самом деле, убивал жестокого тирана, прятался в пустыне, беседовал с Богом и возвращался, чтобы освободить свой народ, мне приходилось прекращать чтение. На картинке фараон был совершенно лысым и с пронзительными глазами, которые становились все злее по мере того, как его раздражали упрямые израильтяне. Я знал, что не смогу заснуть, если буду слишком много смотреть на него. Иногда я держал журнал перед собой, открывал страницу в конце, смотрел в ужасные глаза фараона и захлопывал журнал.
Через открытое окно доносился сильный запах фритюра из китайских ресторанов. Юнатан Фридкин сидел с Санной Грин и Александрой в дальнем углу класса. Он помахал мне: в руках у него была колода карт. На столе лежали блокнот, наполовину съеденный двойной бутерброд и опрокинувшийся пластмассовый стаканчик из-под апельсинового сока. На его ребрышках и дне остались несколько капель.
Юнатан разделил колоду на две половины и прижал их друг к другу краями. Санна зачеркнула большим крестом три колонки, которые нарисовала в лежащем перед ней блокноте в клетку. Провела черту посреди страницы и нарисовала под ней четыре новых столбца, написав под каждым большими буквами наши имена.
Александра выиграла первую партию. Только мы дошли до середины второй, как со двора услышали голоса. Все в комнате подбежали к окнам и стали смотреть на драму, разворачивающуюся тремя этажами ниже. Мы увидели, как от черного хода бежит охранник. Из синагоги выходили женщины без пальто и мужчины, одной рукой придерживавшие кипы на головах. Перед входом в общинный дом они образовали круг, в центре которого стоял мой папа, схватив маму за руки. Кто-то пытался ее освободить.
Я спрятался за одну из длинных белых занавесок и наблюдал через щелку.
Под конец празднования моей бар-мицвы, когда почти все ушли домой, мама с папой стали танцевать. Они кружились под люстрой банкетного зала, прижавшись друг к другу. Стоя у стерео, я подумал, что они загнали себя перед праздником, вот почему они так часто ссорятся в последнее время. На следующее утро я сидел на полу в своей комнате, зажав уши руками. А когда наконец открыл дверь, то увидел порванную и скомканную подарочную бумагу, разбросанную по паласу, покрывавшему холл. Книгу я нашел под диваном, а фотоаппарат – у двери в туалет. Бокал скатился по ступенькам на нижний этаж.
Через несколько дней позвонил папин коллега и сообщил, что у папы переутомление и что папа проведет выходные у него на даче. Когда папа вернулся в воскресенье поздно вечером, его вел коллега. Он не дал папе упасть, когда тот, пошатываясь, переступил порог кухни. Коллега объяснил папе, что они уже пришли, и предложил сказать нам что-нибудь. Папа дрожал как в лихорадке.
Два охранника разогнали собравшихся во дворе. Я отщипнул несколько листочков от темно-зеленого цветка на подоконнике. За спиной я услышал, как Александра предложила продолжить игру.
Мирра взяла мою ладонь в свою маленькую теплую ладошку. Я вытер ей щеки и завернул ее в занавеску, плотно, так что она стала похожа на маленькую матрешку, и затем быстро развернул. Она засмеялась и попросила сделать так еще раз.
* * *
Папин папа был похож на обезьяну.
У него была низко посаженная голова и высоко поднятые плечи, и когда ему хотелось почесать левое ухо, он делал это правой рукой, и наоборот. Точно как обезьяна. По вечерам, вставая с кресла, он издавал обезьяньи звуки. Пока он шел в ванную и открывал кран над раковиной, он бурчал. Его руки не были по-настоящему пригодны к мелкой моторике, которая при этом требовалась. Он держал щетку, словно это была лыжная палка, и слишком сильно давил на тюбик с зубной пастой. Почистив зубы, он туалетной бумагой оттирал раковину от белых полос длиной десять сантиметров.
Дедушка ничуть не удивился, когда я сказал ему, что скорее отношу его к обезьянам, чем к людям. Его реакция говорила о том, что я все понимаю довольно правильно. Возможно, ему даже понравилось, что уже в такие молодые годы я начал догадываться об его истинной природе.
В их с мамэ квартире обезьяны были повсюду. На подоконнике стояла красно-бурая фарфоровая горилла, на стеллаже – книга с шимпанзе на обложке, а в спальне висел сделанный мной рисунок орангутанга Луи.
Книга о шимпанзе была одним из четырнадцати томов серии с коричневыми корешками, в которой описывался животный мир разных частей света. Когда мы приходили к дедушке с бабушкой, я брал на кухне стул, залезал на него, доставал № 4 – «Африка» – и давал книгу дедушке. На развороте была та же фотография, что и на обложке. Снятый в профиль детеныш висел между двумя ветками, губы сложены так, будто он свистит. Дедушка быстро показывал то разворот, то обложку, словно обезьяна перепрыгивала с одного места на другое. Проделав это несколько раз, он принимался чередовать переднюю и заднюю стороны суперобложки, где были изображены две маленькие черно-белые обезьянки с прямым пробором на шерстяной макушке.
Дедушка носил обтрепанный халат, который доставал ему до колен. Когда мы с Миррой ночевали у них, я обычно просыпался от его шарканья в туалет.
Когда он выходил из туалета, мы вместе готовили завтрак. Я накрывал на стол, а дедушка резал хлеб толстыми ломтями. Маковые зерна и крошки на разделочной доске. Сыр под пластмассовой крышкой. С дедушкой я ел бутерброды, а когда выходила Мирра и мамэ, ел с ними хлопья. Они покупали хлопья ради нас и разрешали класть сколько угодно сахара. После завтрака я ложился в кухне на пол с кипой старых номеров местной гётеборгской газеты. Я читал спорт и комиксы. «Посмотри-ка, – дедушка и мамэ говорили друг другу, – вылитый Юсеф в детстве».
Дедушка велел мне подойти. Он посадил меня на колени. Его улыбка была полна ожидания. Якоб, начал он. Кто возглавляет серию в… (он положил палец на подбородок) Голландии?
Легко. «Аякс».
Он посмотрел на мамэ. Они засмеялись. Какой мальчик, все-то он знает. Фантастика.
Италия? «Ювентус».
Англия? «Ливерпуль».
Испания? «Реал Мадрид».
Польша? «Реал Варшава».
Я мог сказать что угодно. Все равно они и понятия не имели.
В молодости дедушка играл в ручной мяч. В семье было трое детей младше его. За несколько месяцев до того, как Гитлер вошел в Польшу, с дедушкой связалась одна организация, которая за небольшое вознаграждение помогала евреям перебираться в кибуцы в Палестине. Он откладывал часть своей зарплаты ученика портного и записал себя и своих братьев и сестер. По плану родители должны были сразу же приехать следом.
Когда дедушке и его братьям и сестрам после нескольких дней пути велели выходить, они заметили, что приехали отнюдь не в Иерусалим, Хайфу или какое-нибудь другое легендарное место, которое представлял себе дедушка, склоняясь лицом к вагонному окну.
Конечный пункт назывался Силькеборгом.
На маленькой ферме в датской провинции группа евреев из Восточной Европы должна была тренироваться и готовиться к физической работе, которая требовалась для построения еврейского государства. Организаторы обещали, что тренировка продлится четыре месяца. Переселенцы пробыли там три года.
Когда немцы захватили Данию, бараки, в которых они жили, превратились в забаррикадированное убежище, где дедушка и его родня выжили благодаря подачкам крестьянина с одного из соседних хуторов. Однажды утром, когда крестьянин отдавал корзину с едой, он велел дедушке следовать за ним. Поздно вечером дедушка вернулся с запиской, где стояли дата и время. Им пришлось ждать двое суток в рыбачьей лодке в порту. Пятеро детей лежали под брезентом, тесно прижавшись друг к другу. Они слышали, как на набережной переговаривались немцы.
Когда они добрались до Гётеборга, в городе шел снег. В общине дедушку свели с мужчиной, который оценивающе посмотрел на него и сказал, что в его квартире всем хватит места. Мужчина жил в двухкомнатной квартире в районе Майурна, и у него было три дочери, одна из которых, двадцати шести лет, была не замужем. Свадьбу дедушки с мамэ сыграли через три недели после того, как они впервые увидели друг друга.
Дедушкины братья и сестры после войны переехали в Израиль. Один раз в два года, летом, мамэ и дедушка ездили их навестить. Мамэ с удовольствием поехала бы куда-нибудь в другое место. Она написала массу картин с парижскими мотивами, хотя никогда не была в Париже. Свернутые и перевязанные резинкой, картины лежали на самом верху в шкафу в холле. Чтобы достать их, мамэ становилась на стул. Чтобы разгладить картины, она ставила на края пепельницы и чашки. Женщины в коротких юбках. Женщины в небрежно надетых шляпках. Одетые по-весеннему женщины, идущие каждая в свою сторону. Контуры Эйфелевой башни у них за спиной.
Это не обязательно мог быть Париж. Подошло бы любое место в Южной Европе. Югославия, Италия, Португалия или Испания. В Испании есть нечто под названием гаспаччо. Ледяной красный суп, который она как-то пробовала. И в давние времена там было множество евреев. Это по-прежнему чувствовалось, когда мамэ слушала по радио испанские песни. Она узнавала еврейские ритмы и мелодии. «В крови, киндлах[53]53
Дети (идиш).
[Закрыть], это у меня в крови, всю свою жизнь я мечтала об Испании», – говорила она. Но они все равно отправлялись в Израиль.
Мы с Миррой, как правило, ехали вместе с папой провожать их в Ландветтер. Мамэ сидела между нами на заднем сиденье. Дедушка – на пассажирском сиденье с паспортами в руке. После регистрации они отдавали нам верхнюю одежду и ехали на эскалаторе наверх. Папа покупал три мороженых в кафе под большим глобусом.
Через четыре недели они возвращались, каждый с футболкой для меня и Мирры, большим пакетом израильского печенья и бутылкой спиртного, которую дедушка ставил на самый верх стеллажа над письменным столом и никогда не открывал.
Не то чтобы он избегал спиртного. Оно его просто не интересовало. Ему не надо было мне это рассказывать: это было понятно по тому, как он исключительно из чувства долга пригубливал киддушное вино в шабат, но все-таки он это сделал. На их балконе, единственный раз, когда мы там сидели. Он был серьезен и сосредоточен, говорил медленнее и четче обычного, однако это не помогло ему справиться со шведскими поговорками.
«Я всегда был дураком не выпить, чтоб ты знал», – сказал он, посмотрев на меня долгим взглядом. «Шведы не дураки выпить. Многие мои конкуренты исчезли, потому что слишком много любили выпить. Я на самом деле надеюсь, Якоб, что ты дурак не выпить. Обещай мне».
Пока мы сидели на балконе – почти сорок минут, – мамэ ни разу к нам не вышла. Разговор состоялся через несколько лет после случившегося, и возможно, они хотели, чтобы дедушка поговорил со мной на тяжелые темы, но у него не хватило мужества, и весь серьезный разговор свелся к предостережениям не пить спиртное. В основном он говорил даже не об этом. Он озвучивал внутренний монолог, в котором пытался договориться сам с собой насчет шведских законов о легальной продаже спиртных напитков в 60-е годы. Я смотрел вниз, на улицу, и пытался представить, что наклоняюсь через перила и разговариваю с идущими мимо приятелями о только что вышедшем сингле «Битлз». Я по-настоящему прислушался, только когда дедушка стал рассказывать о том, как однажды застал папу с поличным перед полкой со спиртным. Папе было лет четырнадцать-пятнадцать. Он стоял на письменном столе, зажав между ног две миниатюрные бутылки и собираясь правой рукой схватить бутылку с ликером, как тут в комнату вошел дедушка. Дедушка заорал так громко, что папа чуть не свалился. Потом папа заплакал, сказал дедушка и скрестил руки на груди.
Тем самым тему закрыли. Я задал несколько осторожных вопросов, сделал несколько тонких намеков, но все было как всегда. Что бы я ни делал, к этому больше не возвращались.
* * *
Перестрелка в лагере беженцев и четыре поселенца, стрелявшие в толпу. Погибла семнадцатилетняя девушка, двое четырнадцатилетних подростков ранены. Бомба в мусорном контейнере и боевик на парашюте. Шестеро убитых. Семеро раненых. Провокационные ходы Шамира, угрожающие высказывания Арафата, и холодным, дождливым вечером в пятницу папа приехал, чтобы провести с нами выходные.
Я не слышал, как открылась входная дверь. Я был дома один, стерео работало на полную громкость, и последние полчаса я копался в глубинах бара Ингемара. Результатом моих усилий явилась бутылка из-под кока-колы, наполненная алкогольной смесью цвета светлой мочи. Только я заткнул бутылку зеленой пластмассовой пробкой, как в холл вошел папа.
Я засунул бутылку за диванную подушку и вышел обнять папу. Запах одеколона от его шеи смешался с запахом бензина и уличного холода. Он заметил, что я постригся, и сказал, что мне идет. Он принес полиэтиленовый пакет из магазина со всем тем, что мы с Миррой просили его купить. Картошка, тонкие куски говядины, помидоры, хлеб в коричневом бумажном пакете, большая плитка шоколада и пакетик с солеными лакричными конфетами в виде веревок.
Мы положили продукты в холодильник, и папа рассказал о квартире, где поселился. Она находилась в районе Мастхуггет, к северу от площади. С балкона видно море. Папа сказал, что у нас с Миррой там будет своя комната и он купит туда двухъярусную кровать. Он принес свои вещи в красно-белой спортивной сумке, которую положил на диван-кровать в кабинете. Я спросил, не взял ли он с собой рубашку в синюю полоску, и если взял, можно ли ее одолжить. На его вопрос, что я буду делать, я ответил, что пойду с девчонками из восьмого класса на дискотеку (это было правдой) и что Юнатан тоже пойдет (это была ложь).
Он расстегнул «молнию» сумки и положил свои вещи на диван. Пустая сумка сдулась, и круглый символ на боку стал широким, как скейтборд.
Папа немного расстроился из-за того, что вечером меня не будет. Вместе с тем ему было любопытно и хотелось побольше узнать об этих восьмиклассницах. Он расспрашивал о девчонках, доставая рубашку: есть ли среди них, на мой взгляд, хорошенькая, и не влюблен ли в меня кто-нибудь?
Я поднялся на верхний этаж и принял душ. Дверь была открыта, и, вытираясь, я увидел, что папа собрал одежду, которую я разбросал, и положил ее на диван. Он медленно ходил по холлу и осматривался. Он ничего не сказал ни о светлом пятне на обоях, где раньше висела овальная рамка со свадебным фото, ни о темно-фиолетовом халате, который висел рядом с маминым на двери туалета с внутренней стороны.
Когда мы встречались, он, как правило, хотел услышать все домашние новости. Перед тем, как выпустить меня из машины, он обычно делал еще один круг, чтобы расспросить, как проходит день с Ингемаром, заходит ли он к нам вечером, чтобы пожелать спокойной ночи, утешает ли Мирру, если она чем-то огорчена. В промежутках между вопросами он долго сидел молча, потирая усы средним и указательным пальцами левой руки. Я старался смягчить правду, но он видел меня насквозь и через какое-то время начинал ругаться и шипеть, и тут я говорил, ну, тогда не спрашивай, а он откликался: «Я знаю, знаю».
Иногда, в порыве взаимного раздражения, я говорил вещи, о которых потом сожалел, типа того, что лучше уж им было разойтись, чем ссориться, или что маме, похоже, сейчас гораздо лучше. Сначала он отмахивался, говоря: «Это ее аргументы, слышу», но позже, когда я продолжал в том же духе, он выходил из себя и повышал голос. После чего сидел молча, сжав губы, а один раз ему пришлось припарковать машину на обочине. Он сидел, подавшись вперед и крепко сжав руль. Тело его вздрагивало, и я похлопал его по шее и спине и извинился, но он покачал головой и сказал, что извиняться должен он.
Я застегнул рубашку перед зеркалом. Сделал тише магнитофон у входа в ванную, чтобы слышать папины шаги этажом ниже. Когда я спустился, он стоял перед картиной в гостиной. На картине две фигуры темно-красного цвета с бледными лицами парили над городом. Мне она всегда нравилась. Я знал, что это еврейский мотив, но не знал, в чем именно он выражается. На картине не было известных мне символов, ивритских букв или других обычных признаков. Папа смотрел на белое поле по краю картины, где стояли какие-то даты и имя художника, написанное буквами, которые мне никак не удавалось разобрать.
Я сел на диван и осторожно завел руку за спину, чтобы поглубже спрятать бутылку. Папа спросил, есть ли у меня планы на выходные. Он обещал Мирре съездить как-нибудь в город и походить по магазинам. В субботу вечером нас пригласили на ужин Берни и Тереза. Увидев между диванами новый стеклянный стол, папа одобрительно поднял брови и пощупал столешницу. Когда он въезжал в свою квартиру, он забрал старый деревянный стол, который стоял на этом месте. Стол выносили мы с Ингемаром. Мы поставили его на парковке с несколькими мешками книг, четырьмя столовыми стульями и двумя картонными ящиками с тарелками и стеклом, помеченными желтыми бумажками. Когда папа с Берни приехали на грузовой машине, Ингемар помог папе погрузить вещи. Они обменивались короткими репликами, и со стороны казалось, что им довольно приятно, что оба действительно стараются не причинить друг другу никакого беспокойства.
«Папа, это тебе». Мирра прошла в дом, не снимая ботинок и куртки. Рюкзак висел на левом плече. Она попыталась одним движением сбросить рюкзак и открыть его. Папа помог ей вынуть коллаж из журнальных вырезок, который она сделала в школе. Когда Мирра сняла верхнюю одежду, она попросила папу подняться с ней в ее комнату. Воспользовавшись моментом, я взял бутылку с дивана, вышел на улицу и положил ее в почтовый ящик.
Через какое-то время папа спустился вниз с кучей рисунков и прихваткой, которую положил рядом с радио. Мирра открыла холодильник, высыпала в мойку пакет картошки, достала из ящика два самых острых ножа, большую разделочную доску и положила все это на кухонный стол. Они с папой резали картошку на маленькие кусочки и клали ее на противень, заправляя порошком паприки. Мирра пробовала сырые кусочки и изображала недовольную учительницу танцев. Помогая мне накрывать на стол, она показывала, как учительница ходит – отклячив зад, с напряженным выражением лица. Мы с папой смеялись, отчего Мирра смеялась еще сильнее. Когда папа жарил мясо, она хотела стоять рядом и совсем не расстроилась, когда капли оливкового масла брызнули со сковородки и обожгли ее.
Я принес кипы и сидур. Мы с Миррой вместе прочли благословение над свечами, а папа – над вином и хлебом. Он отщипнул от хлеба маленькие кусочки, приложил их к дырочкам в солонке и передал по кругу. Еще он прочел специальные благословения надо мной и Миррой, как часто делал, когда мы были маленькими. Он читал, стоя между нами и положив руку сначала на ее голову, а потом на мою.
Мы ели, пока ни картошки, ни мяса, ни салата из помидоров с красным луком не осталось. Я быстро подобрал остатки соуса хлебом и сказал, что спешу. Мирра не знала, что я ухожу, и растерянно посмотрела сначала на меня, а потом на папу. Я побежал в ванную, почистил зубы и еще брызнул на себя одеколоном. Когда я спустился, Мирра спросила меня, как быть с конфетами. Ей стало меня жалко, ведь мне ничего не достанется, и она предложила съесть сразу все до моего ухода. Я сказал, что не надо, но она заупрямилась. Тогда я сказал, что мне плевать на конфеты, но тут она расстроилась и закричала: почему он все время решает? И только когда папа предложил оставить мне несколько конфет, Мирра успокоилась, хотя, выходя из дома, по ее напряжению я чувствовал, что она все еще встревожена.
По почтовому ящику барабанил дождь. Бутылка практически целиком уместилась во внутреннем кармане куртки, и я застегнул «молнию» почти до горла. Сквозь окно я увидел, как колеблется пламя шабатных свечей на кухонном столе. Крышка посудомоечной машины была опущена, верхнее отделение выдвинуто. Папа посадил Мирру на мойку и сказал ей что-то такое, от чего она опять рассмеялась.
Я вернулся домой раньше одиннадцати. Папин свитер упал со стула в холле. На кухне и в гостиной горел свет. Из стерео звучала музыка, работал телевизор, но никто его не смотрел. Утром меня разбудила Мирра и потащила к лестнице. Мы прижались лицом к деревянным рейкам и заглянули в кухню – там сидел папа, держа телефонную трубку дрожащей рукой. Через полчаса приехал дедушка и забрал его. Когда они уехали, я набрал номер, записанный на бумажке, которую мама прикрепила к холодильнику.
* * *
Когда до конца урока оставалось двадцать минут, фрёкен Юдит сказала, что теперь моя очередь делать доклад. Будто бы я должен был подготовить сообщение о Ливанской войне 1982 года. Хотя я помнил об этом весьма смутно, я решил не протестовать и вышел к доске.
Пока я рылся в своих бумагах, в классе стояла полная тишина. Ливан, 1982 год. Никакой затяжной войны там не было, это я знал. В остальном я был как чистый лист. Кое-какие знания у меня, конечно, были, но они таились где-то в глубине, и их заслонили другие картины. Израиль вошел в Ливан летом 1982 года, но почему и что было потом? Мы ведь вроде победили? Об остальном я понятия не имел.
У меня перед глазами было только радио, которое перенесли с кухни и повесили снаружи через окно веранды на даче Мойшовича. Антенну вытянули на всю длину, и наши папы возились с красной кнопкой переключения каналов. Розовая садовая мебель на веранде. Незакрепленная половица, с которой надо было быть осторожнее. Мощный венгерский шоколадный торт на шатком столе в тени.
Радио включали раз в час, и мы через веранду обменивались тревожными комментариями. Санна Грин нарядила Мирру в старую одежду, которую нашла в сундуке. На Юнатане была аргентинская футбольная майка. Мы с Рафаэлем скормили Зельде, тогда еще щенку, остатки торта, и потом ее рвало в клумбе.
У входа на веранду был продолговатый газон. Две березы с одной стороны образовали естественные ворота, с другой кто-то вбил две тонкие деревянные палки.
До пляжа надо было идти, наверное, минут десять через лес. Папа построил для меня замок из песка. Я взял с собой красную машинку, и он проложил улицу вокруг замка, а потом так увлекся, что возвел целый город с домами, мостами, башнями и дорогами. Я не захотел возить по ним машинку и стал медленно ползать вокруг города, представляя живущих в нем маленьких человечков. Не успел я закончить круг, как подбежала Мирра и все растоптала. Она ржала как лошадь, и я загнал ее в воду, чтобы отомстить. Но тут подоспел папа, схватил нас обоих, подбросил в воздух и поймал, не дав нам удариться о воду.
Размахивая руками, к нам бежала мама. Вообще-то она не любила купаться. Иногда она мочила руки и немного поливала плечи, но в этот раз бросилась в воду и, пообвыкнув, стала плавать, издавая звуки восхищения. Когда мы вышли из воды, на пляже никого не было. Солнце почти село.
Я поднял глаза и увидел моих одноклассников, одиннадцать пар мерцающих зрачков, направленных на меня. Я двинулся к двери, дотронулся до ручки, обошел стоящую рядом парту и отправился на свое место.
* * *
Раввин сидел боком к письменному столу, прислонившись спиной к стене и небрежно приложив трубку к левому уху. Казалось, его больше занимал скрученный в клубок шнур, чем собеседник. Не переставая трогать провод, он бормотал в трубку. Thatʼs невозможно. Never. Not in a million years[54]54
Никогда. Ни за что на свете (англ.).
[Закрыть].
Я был благодарен, что его отвлек телефон. Хотя я и начал привыкать к ситуации, она мне не нравилась. Даже в четверг вечером, когда в общинном доме почти никого не было, меня останавливали и задавали вопросы, пока я поднимался на третий этаж.
Иногда со мной хотели поговорить старые друзья моих родителей. Иногда это были люди, которых я видел в синагоге много лет и с которыми ни полсловом не перемолвился. Сначала они спрашивали о вполне обыденных вещах, о школе или об израильском курсе, а затем переходили к тому, о чем на самом деле хотели спросить. Мамин новый муж. Папина ситуация.
Каждая встреча была для меня испытанием. Чтобы его выдержать, я разработал стратегию: никогда не смотреть в пол, никогда не давать голосу дрогнуть, а глазам – увлажниться. Вести себя иначе – значит признавать себя побежденным. Вместо этого я внимательно слушал, пока они говорили, пытался притвориться, что по-настоящему вникаю в их слова, а затем делал что-нибудь неподобающее. Например, широко улыбался. Это сбивало их с толку, и, не дав им прийти в себя, я говорил, что спешу на занятия. Каждый раз это срабатывало. Поднявшись на несколько ступенек, я обычно оборачивался. Они всегда стояли на том месте, где я их оставил, и когда я видел, что они совершенно не подозревают, что за ними наблюдают, у меня возникало ощущение победы.
С раввином так не получалось. Он проявлял большее упорство, и в его тесной конторе не было места, чтобы даже на секунду отвести взгляд. Если бы не зазвонил телефон, не знаю, кто бы из нас сдался первым.
«Iʼт sure, у тебя есть some соображения», – сказал раввин, и я долго держал паузу, словно мне действительно надо было порыться в памяти, чтобы ответить. Я не задавал тот единственный вопрос, который меня действительно занимал. Если можно понять любую реакцию, то почему мою надо так много обсуждать? Если можно чувствовать и думать все что угодно, почему так опасно не думать и не чувствовать что-то особенное?