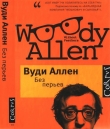Текст книги "Три обезьяны"
Автор книги: Стефан Игаль Мендель-Энк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Стефан Мендель-Энк
Три обезьяны
Спасибо Малин
Двое суток бабушка пролежала в холодильной камере, а никто и не подумал попросить раввина благословить место.
Об этом вспомнила тетя Лаура. На светофоре рядом с Сальгренской больницей только-только зажегся зеленый свет. Мама опустила стекло и прикурила тонкую белую сигарету от зажигалки с золотым кантом. Она не собиралась брать на себя вину. Она оповестила родственников и приготовила все для поминок. Тем более что в машине, сказала она, сидит человек, который не работает и которому нечем заняться. Может быть, она могла бы взять на себя труд позвонить раввину, если уж вдруг стала такой благочестивой.
Тетя Лаура перегнулась через нас с Миррой и ударила маму кулаком в бедро. Мамин папа велел им успокоиться. Рафаэль нажал на газ, и мы помчались в гору к Гульдхедену, через весь город, мимо конечной остановки третьего трамвая, на покрытую гравием парковку.
Мягкий ветер дул над каменными плитами могил еврейского кладбища Гётеборга. В воздухе висели редкие капли дождя.
Моше Даян прислонил метлу к стене молельни. Скорбно подмигнув единственным глазом, он смотрел на нас долгим понимающим взглядом. Ему было больше восьмидесяти, он был весь седой и согбенный, с длинными когтеобразными пальцами. Общего с настоящим Моше Даяном у него была только пиратская повязка.
Можете побыть там одни десять минут, – разрешил он. – Никаких фото, никаких сигарет, fierstein?[1]1
Понятно (идиш.). – Здесь и далее – примечания переводчика.
[Закрыть]
Он нажал на ржавую ручку, и темно-коричневые двери молельни распахнулись. Все выглядело меньше, чем тогда, но в целом точно так, как я запомнил. Запах сырого дерева, большая звезда Давида на дальней стене, желтое сияние за ней.
Последний раз здесь было битком набито, вдоль стен группками стояли люди, а от тяжелого воздуха запотели окна. Сейчас в молельне было пусто. Перед звездой Давида в гробу с открытой крышкой лежала бабушка, мамина мама. Сухая кожа обтягивала скулы. Мама и тетя Лаура сели с обеих сторон у изголовья гроба, соприкоснувшись лбами. Они обняли друг друга за плечи и стали омывать тонкую кожу бабушки своими слезами. Каждая взяла ее за дряблую руку, хваля ухоженные ногти и обнимая ладони, которые гладили землю в порту Треллеборга и выписывали рецепты из еженедельника «Хеммет».
«Я хочу ее поцеловать, мне можно поцеловать ее, Рафаэль, что говорит Тора?»
Лаура так низко наклонила голову, что от бабушкиного лица ее отделяли каких-нибудь десять сантиметров. Не получив вразумительного ответа, она решила, что можно. Держа бабушкино лицо в своих ладонях, она принялась покрывать ее щеки пятнами губной помады, которые стирала большим пальцем.
Из внутреннего кармана она достала серый карманный фотоаппарат. Несколько раз нажала на кнопку: ничего не произошло. Она встала на стул, потрясла фотоаппарат, но тот по-прежнему не работал. Лаура вытерла линзу рукавом пиджака и сказала, что надо было взять полароид.
Мама порылась в сумочке в поисках своего фотоаппарата и заметила, что правильно говорить так: «Поль – э – ройд».
«‘Пола – ро – ид’, – Деббелочка».
«Поль – э – ройд», – повторила мама. Это же американская марка, и надо произносить на американский лад.
Тетя Лаура проинформировала маму, что она тридцать лет прожила в Нью-Йорке и что если бы там действительно выражались таким mishiggine[2]2
Идиотским (идиш).
[Закрыть] образом, она бы это усекла. Не поднимая глаз от сумки, мама сказала, что так бы наверняка и было, если бы она регулярно общалась с другими людьми. На работе, например.
Судя по моим часам, уже перевалило за четверть одиннадцатого. Десять минут, обещанные нам Моше Даяном, истекли. Тетя Лаура опустилась на стуле на корточки и попросила меня и моих брата с сестрой встать за гробом. «До чего же ваша мама способный человек, – заметила она, расстегнувшись. – Подумать только, жить в Гётеборге и так хорошо знать английский». Она изобразила мамин шведско-английский акцент и не смогла удержаться от смеха.
У мамы стали медленно раздуваться ноздри и распахиваться глаза. Выдвинув челюсть, она в конце концов замахнулась на Лауру кулаком, и та быстро попятилась. Поскользнувшись, Лаура потянулась рукой к спинке стула, и на секунду показалось, что ей удастся удержаться. Но в следующее мгновение она ничком упала в гроб.
Спустя каких-то полчаса началась церемония, и все было приведено в порядок. Пришли бабушкины сестры со своими семьями. Дяди в кепках стояли, широко расставив ноги и опираясь на палки, а тети, от которых пахло сладкими духами, раздавали бумажные носовые платки. У задней стены, на приличном расстоянии от мамы, сидели люди, которых я не видел больше десяти лет.
Прочитав молитвы, раввин похвалил бабушку за ее выпечку, которая часто украшала субботний киддуш[3]3
Трапеза после службы (идиш).
[Закрыть] в общине, и за ее вклад в еврейскую карточную игру. Использованные платки упали на пол, коробки с новыми пошли по кругу.
Я был одним из семи мужчин, которые несли гроб по кладбищу. Мы поднялись в гору и остановились у ямы к северу от парковки. Когда настала моя очередь бросить горсть песка на гроб, я изо всех сил старался представить себе бабушку, но у меня перед глазами все время были картины предыдущей церемонии, в которой я участвовал. Когда в тот раз я поднимал лопату, за мной вилась длинная очередь. Дымка, которая заволокла зимнее небо, объятия взрослых. Звони. Заходи. Приходи с сестрой.
Я передал лопату. Ветер шумел в голых ветках, которые отделяли наше кладбище от соседних.
* * *
Остатки еды на тарелках подобрали булочками с маком. Лосось скоро кончился, как и салат с яйцом и большая часть gehackten[4]4
Рубленая печень (идиш).
[Закрыть], которую принесла тетя Бетти. Стол с серебряными подсвечниками посередине покрывала блестящая скатерть.
Новые солонка и перечница все застолье простояли без дела рядом с бокалом папы Мойшовича. Перед Рафаэлем лежал раскрытый молитвенник – сидур. Закатав рукава рубашки, одной рукой он облокотился о соседний стул. В руке он держал булочку, от которой иногда отламывал кусочки и клал их в рот.
На маме был черный, слегка блестящий костюм. Когда она тянулась через стол, на ее руках позвякивали большие браслеты.
К темно-синим брюкам Ингемар надел галстук в косую полоску. Время от времени он обходил стол и проверял, все ли в порядке. Всякий раз, проходя мимо меня, он поправлял ногой ковер под столом.
Группка в углу украдкой принялась поедать кокосовое печенье мамы Мойшович, которое стояло на голубом баре. Тетя Лаура открыла бар и достала оттуда несколько бутылок, а также мой поцарапанный бокал для киддуша, который там нашла. Она спросила, что с ним случилось, но ответа не получила.
Из салфетницы достали розовые салфетки, которые смяли и бросили на лежащие крест-накрест приборы. Из кухни принесли поднос с молоком, сахаром и низкими чашками.
В большой спальне на верхнем этаже после обеда дремал дедушка, мамин папа. Миррина комната была рядом, и дверь в нее была открыта. Тугие подушки абрикосового цвета горкой лежали на цветастом покрывале. Письменный стол стоял у окна. Ее дневники лежали в нижнем ящике.
Я достал стопку и положил ее на пол. Почти все дневники выглядели одинаково. На обложке – девочки-блондинки в соломенных шляпках, внутри округлые буквы, на полях – принцессы в локонах.
Светло-голубой дневник, целые куски которого я знал наизусть, лежал в середине. Он был полон детских наблюдений, которые наполнились новым смыслом после случившегося. «На репетиции Якоба мама и папа держались за руки». «Сегодня у нас ужинал мамин начальник». «Папа сказал, что, может быть, в декабре после Хануки поедем к Рафаэлю, может, даже на все рождественские каникулы!»
Хотя прошли годы, мама по-прежнему не особенно распространялась о прошлом и по-прежнему переходила на другую сторону улицы, завидев кого-нибудь из старых друзей по общине. А в еврейском доме престарелых сидела мамэ, сбитая с толку и сверх всякой меры одурманенная лекарствами.
Я сидел на полу, обложенный дневниками, пока не услышал, что меня зовут с нижнего этажа.
* * *
Я стал бар-мицвой[5]5
Обряд, знаменующий вступление еврейского мальчика в совершеннолетие. Совершается по достижении тринадцатилетнего возраста.
[Закрыть] через две недели после того, как мне исполнилось тринадцать. Было это в начале августа. В саду сильно пахло розами. Мы ехали в синагогу, опустив стекла.
Мы жили в светло-желтом таунхаусе в каких-нибудь десяти километрах от города. Два этажа с коричневой мебелью, мягкими диванами, итальянскими пластинками, маминым куриным супом, разделенным на порции, которые хранились в морозилке, книгами, фотоальбомами, каталогами заказов по почте и комиксами, как попало лежащими на книжных полках, мезузами на дверных косяках, картинами с бородатыми скрипачами и позолоченными лампами, которые выступали из рам.
Мама и папа купили дом за несколько месяцев до рождения Мирры. Рафаэль получил отдельную комнату, а меня поселили в соседнюю, где стояла кроватка для ожидаемого братика – или сестрички. Помню, что первое время после переезда папин ящик с инструментами часто стоял наготове и что мы играли в снежки, когда в саду первый раз выпал снег. Однажды ночью, когда я проснулся и быстрыми шагами прошел через маленький холл, чтобы лечь между мамой и папой, их кровать оказалась пустой. Я звал их до тех пор, пока не услышал, как Рафаэль крикнул, чтобы я лег рядом с ним. Рано утром мы проснулись оттого, что над нами склонился папа в верхней одежде и сказал, что у нас появилась младшая сестренка.
Сразу после нашего переезда район стали заселять евреи. Семья Грин купила дом по другую сторону маленького леса, Крейцы и Мойшовичи поселились в квартале к северу от детской площадки, а наши ближайшие друзья, Берни и Тереза Фридкин, приобрели низкий кирпичный дом меньше чем в четверти часа ходьбы от нас.
Мама работала на полставки в офисе рядом с Авенюн[6]6
Главная улица Гётеборга.
[Закрыть], а по вечерам училась в гимназии. Во втором классе гимназии она бросила учебу и отправилась автостопом в Рим. Всего лишь через несколько месяцев она устроилась официанткой и встретила Гиги – длинноволосого актера, который ездил на мотоцикле. Еще через несколько месяцев она забеременела, и они поженились в ратуше на Пьяцца Нуова, причем свидетелями у них была вся театральная труппа Гиги.
После рождения Рафаэля бабушка просила маму писать ей каждую неделю. Мама писала об его первой улыбке, первом зубе, о том, что ночью он почти не просыпается и не кричит, о том, что он может часами тихо сидеть и играть кошельком или связкой ключей, пока она гладит и сортирует белье. Она не упоминала о том, какими однообразными, по ее мнению, стали дни. Что она целыми днями только и делает, что готовит завтрак, стирает, покупает еду, готовит обед и катит коляску по пустынным улицам, чтобы Гиги мог спокойно поспать в сиесту. Или о том, что иногда, стеля по вечерам постель, находит на простынях следы туши.
Бабушка с дедушкой приехали к ней в гости за несколько дней до того, как Рафаэлю исполнилось три года. Они поужинали в ресторане в том же квартале. Когда дедушка поел, бабушка велела ему отвести Рафаэля к фонтану на площади перед рестораном. Она села рядом с мамой, так что они обе оказались лицом к площади и могли смотреть на детей, гоняющих голубей по старому булыжнику. Дедушка с Рафаэлем купили маленький бумажный кулек с зерном, чтобы кормить птиц. Бабушка спросила маму, как дела, и, не поверив маминому ответу, приподняла ее солнечные очки.
Когда они вернулись домой, Гиги был на работе. Бабушка и дедушка помогли маме снести сумки вниз.
В Гётеборге мама и Рафаэль поселились в квартире ее родителей на площади Одинплатсен. А через год с небольшим в доме на улице Тредье Лонггатан, принадлежащем общине, освободилась однокомнатная квартира.
В то время папа учился на врача. Однажды по дороге домой из окна трамвая он увидел маму, которая шла по улице. Он знал ее по общине, она училась на курсах иврита, только в группе постарше, но они никогда не разговаривали друг с другом. Папа спрыгнул с трамвая, догнал ее и спросил, не хочет ли она помочь с еврейским молодежным фестивалем, который он тогда устраивал со своими друзьями.
В последний день фестиваля они стали парой. Большая фотография, на которой они сидят, обнявшись, загорелые и улыбающиеся в окружении других участников фестиваля, долго висела на стене над стиральной машиной. На одной из кнопок, держащих фотографию, висела еще серия снимков, сделанных в фотоавтомате: я, Рафаэль и Мирра показываем язык.
Мама и папа продолжали участвовать в делах общины. Вечерами гостиная часто заполнялась полулежащими на диване друзьями. Они организовывали семейные лагеря, футбольные турниры и большие шабатные ужины. Иногда к ним приходил какой-нибудь русский невозвращенец или приглашенный американский профессор в вельветовом пиджаке – и оставался на ночь.
Моя дверь всегда была чуть-чуть приоткрыта, и я лежал лицом к полоске света, прислушиваясь к голосам с нижнего этажа, к английскому, шведскому, отдельным словам на идише и иврите, которые вместе с сигаретным дымом поднимались по лестнице и сливались со звуком телевизора и глубоким дыханием Мирры.
Минимум раз в неделю, когда папа работал в ночную смену, а мама училась вечером, мы оставались на попечении маминых родителей. Они приезжали на машине, нагруженной лекарствами от боли в животе, таблетками сахарина, еженедельниками, тапочками, пластмассовыми контейнерами и плитками шоколада. После ужина они заваривали чай в кофейнике и садились к телевизору.
Иногда вместо них приезжали мамэ и папин папа, а иногда и все вместе. Мы с Миррой наряжались и устраивали для них представления в гостиной, а они нам аплодировали.
Летом, окончив гимназию, Рафаэль уехал в Израиль. Собравшись за кухонным столом, мы читали его аэрограммы, а его фотографию в солдатской форме повесили на холодильник. Я писал ему на его собственной старой почтовой бумаге с изображением персонажей из серии комиксов «Пинатс», рассказывал, как идут дела у клуба «Бловитт»[7]7
«Бловитт» (швед. Blåvitt) – «Бело-голубые», прозвище гётеборгского футбольного клуба, цвета которого совпадают с цветами израильского флага.
[Закрыть] и кто вошел в десятку музыкальной радиопрограммы Tracks. Во втором классе Мирра стала заниматься танцами. В третьем ее взяли в маленькую детскую группу. Репетиции проходили в Большом театре[8]8
Название Театра оперы и балета в Гётеборге.
[Закрыть]. Мама закончила учебу и, переменив несколько занятий, получила должность помощника начальника в Западно-шведской торговой палате – ее выбрали из сотен соискателей. Про папу написали в газете. Он защитился по терапии и получил свою докторскую шляпу на торжественной церемонии в ратуше.
В тот день, когда позвонил его коллега, я сидел за письменным столом в своей комнате. Я был дома один и пытался вставить пленку в фотоаппарат, который получил на бар-мицву. На третий сигнал я встал и пробежал примерно десять шагов до телефона в холле. Телефон стоял на выкрашенной в белый цвет деревянной подставке возле зеленого дивана с вельветовыми пуговицами. Я взял трубку, одновременно сев на подлокотник дивана. Голос на другом конце провода спросил, дома ли мама, а потом представился.
Только когда коллега назвал свой номер во второй раз, я взял одну из ручек, лежавших рядом с телефоном. С нижней полки подставки вытащил телефонный каталог. Почти вся обложка была исписана номерами и разрисована человечками. В правом верхнем углу я записал шесть цифр. Положив трубку, оторвал клочок, спустился по лестнице и оставил бумажку в кухне на разделочном столе перед радио.
* * *
Я встал с пола и сбежал вниз по лестнице.
Меня звала Мирра. Она стояла у окна гостиной и стучала по стеклу указательным пальцем. Дедушкина машина, повторяла она. Вот там, на улице. Она видела, как проехала машина.
Я встал рядом с ней, не сомневаясь, что она обозналась. Другие тоже не сомневались. В комнате раздались вздохи и смешки – разве ей можно верить? Затем прошло, наверное, полминуты, и за изгородью со стороны парадного крыльца показался дедушка, папин папа, с палкой и в пальто. Опираясь на тетю Ирен, он шел к дому.
Ирен помогла ему стянуть пальто. Сжав губы, он повел себя, как Ицхак Рабин, когда тому пришлось пожать руку Арафату у Белого дома. Он подозвал к себе меня и Мирру, крепко нас обнял, глубоко вздохнул и проковылял в гостиную.
Встав посреди комнаты, он протер рубашкой свои очки в черной оправе и сказал, что не начнет, пока все не соберутся. Это было явно адресовано маме, но тот факт, что он находился в ее доме, похоже, не влиял на его решение больше никогда не произносить ее имени. Он долго стоял на одном месте, слегка покачивая кривым боком.
Мама спустилась из туалета с новым слоем губной помады на губах. Ее лицо освещала улыбка, которая и на тысячную долю не казалось такой напряженной, какой наверняка была. Пока мама усаживалась в кресло, дедушка смотрел в пол. Ингемар стоял сзади, крепко держа спинку кресла.
«Ну», – тихо произнес дедушка.
Из внутреннего кармана пиджака он вынул сложенный листок, который не спеша развернул. Затем откашлялся и принялся читать.
* * *
Магазин Берни Фридкина располагался в длинном узком помещении с широкими полками вдоль стен и крутящимися витринами на полу. В глубине, за кассой, была маленькая комнатка с плиткой и холодильником. На столе стояли вазочка с развесными конфетами и большая пепельница абрикосового цвета с логотипами фирменной одежды. Берни держал бокал за ножку, глядя на него искоса и снизу, и вертел его в руке.
Берни – самый старый папин приятель. Они выросли в нескольких кварталах друг от друга и вместе снимали квартиру, когда папа учился на врача. В те годы Берни подрабатывал на фирме, которая реставрировала мебель, и с тех пор члены общины приходили к нему, когда им было нужно что-то починить. Он часто ходил по маленькой комнатке за кассой, изображая их шаткую походку и ломаный шведский. Берни, помоги с бабушкиными подсвечниками. Берни, взгляни на бабушкино седерное[9]9
От «седер» (иврит, букв. «порядок») – церемониал торжественной трапезы и молитв праздника Пейсах.
[Закрыть] блюдо. Как будто ему больше делать нечего. Как будто магазин одежды всего лишь прикрытие для того, чтобы он мог возиться с их старьем. Иногда он вставал на стул, доставал с верхней полки картонный ящик и швырял его на стол с такой силой, что поднимались тонкие облачка пыли. Ящик был набит старыми менорами и ханукиями[10]10
Менора – семисвечник. Ханукия – восьмисвечник, зажигаемый в Хануку.
[Закрыть], в которых не хватало чашечек, и ожерельями со сломанными застежками. Берни обычно показывал на короткую стенку ящика с надписью «община», сделанной зеленым фломастером, и говорил, что в один прекрасный день зачеркнет это слово и напишет «мусорный бак».
Бокал мерцал под лампой. Берни хмурил брови, и на переносице собирались маленькие морщины. Надев очки, он достал из прозрачного пластикового несессера желтый тюбик и маленькую черную щеточку. Держа щетку между большим и указательным пальцем, он втирал густую жидкость в царапину на одной стороне бокала.
Папа наблюдал за всем этим, положив локти на стол и сложив ладони у подбородка. Люди часто говорили, что мы похожи, и иногда я сам это видел. У обоих были каре-зеленые глаза, и мы одинаково сводили брови, когда хотели сосредоточиться. Лицо у папы было длиннее, чем у меня, но я унаследовал его широкий нос и, что меня раздражало, густые кудрявые волосы, из которых было невозможно сделать ни одну из причесок, какие мне нравились.
Когда кофе сварился, Берни налил себе и папе и достал из холодильника пакет сока. Я поспешил его остановить. Я тоже хотел кофе и постарался сказать это тоном, свидетельствовавшим о том, что в этом нет ничего особенного. Прежде чем налить, Берни долго смотрел на папу.
Из кучи газет под столом я вытащил недавний номер «Экспрессен» и пролистал газету до спортивного раздела.
Берни и папа тихо разговаривали. О квартирах, которые, наверное, можно снять, о ценах на те, которые можно купить, и о том, когда папа опять выйдет на работу. До большого праздника оставалось лишь несколько недель, и папа извинился за то, что не может сказать, в какой вечер мы будем праздновать вместе с семьей Берни – ему надо переговорить об этом с мамой. Берни заметил, что Тереза опять звонила, но мама швырнула трубку. Они говорили очень тихо, почти шепотом. Когда он упомянули имя Ингемара, я почувствовал, как папа посмотрел в мою сторону.
Берни скреб чайной ложкой по дну чашки. Немного помолчав, он стал рассказывать о женщине, которая заходила в магазин. Ее имя я уже слышал: это была папина старая знакомая или медсестра, с которой он работал, и я изо всех сил стал делать вид, что целиком поглощен чтением газеты. Я внимательно изучил все матчи в таблице результатов. Англия, Первый дивизион. Швеция, Второй дивизион. Средняя группа. Бундеслига. «Вердер» (Бремен) – «ФФБ Штутгарт» 5:0. Кёльн – Леверкузен 0:0. «Нюрнберг» – «Вальдхоф» (Мангейм) 1:1.
«И как она?» – спросил папа.
1 – Андерсен (27), 1:1 – Нойн (28). Зрители: 22 000.
«Я сказал, что она может позвонить».
Папа промолчал. Когда я краешком глаза посмотрел вверх, то увидел, что Берни сидит, держа средний палец поперек под нижней губой, а указательный – на переносице. Голова повернута к входу в магазин. Сильный свет проникал сквозь ажурные дверные стекла, и было слышно, как продавец развешивает в зале одежду. Стальные плечики звякали друг о друга на низких вешалках.
Когда Берни заметил, что я за ним наблюдаю, он покачал головой, словно пробудился от глубокого сна, и постучал рукой о стол. «Что мы будем делать с твоим папой?» – спросил он меня. Твой папа такой с самого детства. Одним приходилось из кожи вон лезть, чтобы девочки хотя бы заметили, что они существуют, а ему – Берни показал указательным пальцем на папу – стоило только махнуть ресницами, как девчонки слетались, словно мухи на варенье. Еврейские девушки, шиксы[11]11
Шикса (шиксэ) – на идише незамужняя нееврейская девушка.
[Закрыть], всякие-разные, но он всегда был очень привередлив. «Иногда мне кажется, что он немного…» Берни помахал левой рукой из стороны в сторону. «Ну, ты знаешь». Прищурив глаз, он криво улыбнулся: «A fejgele[12]12
Птичка (идиш); гомосексуал.
[Закрыть], может быть, ему больше подходят мальчики, может быть, вот что мы ему подыщем».
Папа поднял свою чашку с кофе, улыбнулся и всем видом показал, что всерьез рассмотрит эту альтернативу.
* * *
Мамэ и дедушка ужинали в семь. В половине восьмого они смотрели передачу новостей «Раппорт», чтобы проверить, нет ли чего-нибудь об Израиле. Дедушка смотрел, сведя брови, готовый сжать руки в кулак на случай плохих новостей, в наличии которых он и другие взрослые никогда не сомневались.
Время сейчас тревожное, объясняли они. Опасное время. Неопределенное. Не припоминаю, чтобы они когда-нибудь говорили что-то другое. Всегда было крайне небезопасно, крайне напряженно и крайне уязвимо. Ситуация в Кнессете всегда была крайне нестабильной, а страну всегда возглавлял крайне неподходящий премьер-министр. Ицхак Шамир был истеричным гномом, а Шимон Перес со своими nebashdicke[13]13
Несчастными (идиш).
[Закрыть] собачьими глазами не мог внушить уважение даже левому скандинавскому волонтеру.
В гостиной рядом с диваном стояло пианино. Противоположную стену закрывал коричневый стеллаж с сотнями книг. Цветные фотоальбомы, посвященные 20, 25, 30 и 35-летию Израиля. Целый ряд с названиями типа The Arab-Israeli Conflict и The Arab-Israeli Wars. Книги по израильскому искусству и израильской кухне. Тонкие брошюры о флоре и животном мире Израиля, втиснутые между романами о первых сионистах. «Моя жизнь» Бен-Гуриона, «Моя жизнь» Голды Мейер, «История моей жизни» Моше Даяна, юбилейное издание, посвященное израильскому государственному телевидению — 15 years of High Quality Entertainment.
Мамэ ходила взад-вперед позади дедушкиного стула, бормоча зловещие пророчества. Скоро все кончится. Она уверена. Она умеет читать между строк и видеть признаки в газете. Израиль будет уничтожен. В любой момент враждебные соседи приведут в исполнение свои угрозы, сровняют Израиль с землей, и в ту же секунду от спячки пробудятся нацисты и как разъяренный осиный рой набросятся на Европу. По автобану и Балтийскому морю они промчатся по холмам лесопарка Слоттскуген, завернут за табачный магазин на углу, разнесут подъезд, ворвутся в квартиру, опрокинут стеллаж с книгами, сорвут с холодильника бережно вырезанные колонки шведского журналиста Пера Альмарка и поставят кровавую точку в нашем смятенном бегстве в свободу.
В квартире было три комнаты. Дедушка с мамэ спали в длинной и узкой спальне с голубым ковром и черно-белыми фотографиями на круглом комоде. На одном снимке папе было три года, а Ирен – шесть. У нее были курчавые волосы и ни одного переднего зуба. Папа сидел рядом на столе в бабочке и с прилизанными волосами. По другую сторону гостиной находилась комната, в которой папа жил вместе с Ирен, когда был маленьким. Теперь он снова в нее вселился. Там же находились письменный стол, за ним дедушка писал статьи в общинную газету, и единственный в квартире телефон. После «Раппорта» папа уходил туда звонить, а мамэ шла на кухню мыть посуду.
У них было кабельное телевидение, и я перескакивал с Эм-ти-ви на «Евроспорт» и обратно. Массивный пульт был обернут в полиэтилен. Дедушка с тревогой смотрел на меня, пока я изо всех сил пытался через полиэтилен нажать на нужную кнопку. Он немного наклонился вперед, как будто хотел что-то сказать, но бедро его не послушалось, и он повалился обратно на стул.
Бедро вывела из строя работа. Тридцать лет он сидел за рулем, пять или шесть дней в неделю, и развозил по всей Скандинавии пуговицы, лежавшие на заднем сиденье. В 50-х годах дело процветало, но потом появилась эта verkackte[14]14
Проклятая (идиш).
[Закрыть] «молния» и все испортила. «Молния» – самое большое мошенничество, с которым когда-либо сталкивались западные домохозяйки, говорил дедушка. Достаточно сломаться одному маленькому зубчику, и приходится выбрасывать целые брюки. Сравните с пуговицей, которую можно пришить сколько угодно раз. И каких только пуговиц не бывает: с двумя дырочками, с четырьмя, металлические, деревянные, треугольные, прямоугольные или длинные и узкие, как на коротких пальто с капюшоном.
Вся мебель в квартире была куплена в лучшие, «пуговичные» времена. С тех пор ничего не менялось, и передвинуть вещи было нелегко. У них был балкон, на который не выходили, и проигрыватель, который никогда не заводили. Как-то на Хануку мама с папой подарили им долгоиграющую пластинку, но они поставили ее за проигрывателем, словно картину. Мне нравилась одна мелодия на пластинке, и я обычно посылал Мирру попросить мамэ дать нам послушать хоть разок. Так же сильно, как я хотел услышать мелодию, я хотел увидеть, как зажигаются кнопки стерео и крутится диск проигрывателя, стоявшего в стеллаже. «Спроси ее, когда ей будет удобно», – сказал я Мирре первый раз, когда она вернулась с ответом мамэ. В следующий раз я сказал: «Скажи, что мы заберем пластинку обратно, если они не собираются ее слушать». Эта попытка стала последней: мамэ так разозлилась, что пришла с кухни, вырвала пластинку у меня из рук и засунула ее обратно за проигрыватель.
Когда они с дедушкой злились, то оба переходили на идиш. Мне идиш не нравился. В этом языке есть что-то стыдное. Например, пук называется fortsck. Не понимаю, какой смысл в слове, которое звучит так же отвратительно, как и явление, которое оно обозначает. Каждый раз, когда его произносят, как будто производят само действие.
Дедушка вырвал у меня пульт. От резкого движения он аж хрюкнул и какое-то время сидел молча, приходя в себя после того, как выключился телевизор и погас экран.
Он повернулся ко мне и своими ладонями, похожими на большие кожаные подушки, выпрямил мои руки. Когда я был помладше, он твердой рукой брал меня за плечи и сажал к себе на колени. У него были большие мягкие губы, которые так и гуляли по моему лицу. После этого от меня пахло мокрой тряпкой. Дедушка давал своим губам волю. И его совсем не смущало то, что я все время пытался высвободиться. Он не считал взаимную привлекательность необходимой основой для физических проявлений любви.
Иногда он рассказывал поучительные истории. Часто они начинались осмысленно, с соблюдением хронологии, но скоро он терял нить, делая отступления и рассказывая о людях, которых знал давно, или анекдоты, конец которых забыл, или вспоминая невыясненные конфликты с жадными оптовиками, и мамэ качала головой, говоря, что все было совсем не так, кончай врать мальчику, и он шипел, что ты знаешь, это было задолго до нашей встречи, и они переходили на идиш.
Теперь дедушка хотел услышать последние новости о связи моей мамы с ее начальником, о которой всем стало известно. В первую очередь он хотел узнать, собираются ли они покупать елку. До рождества оставалось несколько месяцев, но дедушка волновался, поскольку знал, сколь быстро можно стать вестеросцем[15]15
Житель шведского города Вестерос.
[Закрыть], если не быть начеку.
Такие люди приходили на мою бар-мицву. Они появлялись на таких мероприятиях, как пятидесятилетие, свадьбы, похороны. У каждой семьи были такие люди. Дальние родственники, которые полностью ассимилировались и жили в каком-нибудь странном месте в шведской провинции. У них были сухие рукопожатия и имена типа Бьёрн и Ульрика, и они либо вообще не пили, либо были конченными алкоголиками.
Сама по себе елка вроде бы невинное дело, но она может стать первой костяшкой домино в ряду, который при падении потянет за собой в пропасть одиночества и долину пустоты, в холод молчания и тьму отчуждения, и однажды утром ты проснешься с пустым взором и с центром Вестероса за окном.
От дедушкиного серьезного взгляда и судьбоносного тона я тоже начинал нервничать, но не собирался в этом признаваться. «Пусть будет елка, если он хочет», – только и сказал я. Дедушка молча посмотрел на меня, а через какое-то время вспомнил байку об одном еврее, чей сын надумал креститься. Дедушка очень хотел рассказать байку, но запутался еще в начале, будучи не в состоянии решить, кто с кем говорил: сын с отцом, или отец с Богом, и он прижал ладонь ко лбу и попросил меня подождать.
Мамэ приоткрыла дверь на кухню и позвала меня вытирать посуду.
Она терла тарелку щеткой для мытья посуды. Раз за разом одно и то же место. Рот извергал проклятия.
Ее короткие и толстые пальцы напоминали соленые огурцы. Ногти, покрытые густым слоем темно-красного лака, не доходили до кончиков пальцев. Она перенесла какую-то болезнь, от которой у нее дрожали руки. Дрожали так, что она больше не могла играть на пианино. Она считала это трагедией. Без музыки она получеловек.
Но, несмотря на дрожь в руках, мамэ не перестала рисовать. По утрам она садилась за кухонный стол и рисовала яблоки, вид в сад или свои фантазии. Я никогда не говорил ей о том, что тоже рисую. Я не хотел быть похожим на мамэ, она была с легкой чудинкой. Ее поведение за столом было просто катастрофой. Во время еды она издавала звуки, похожие на собачий лай, и охотно говорила с набитым ртом. Было трудно понять, что она собирается делать: глотать или выплевывать. Вытаскивая изо рта куриные кости, мамэ наклоняла голову к самой тарелке и выплевывала их. Но и тогда она не переставала говорить. Всегда об ужасных вещах, о серьезных вещах, о принципах, которых действительно придерживалась, о людях, которых действительно видела насквозь.