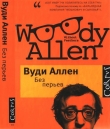Текст книги "Три обезьяны"
Автор книги: Стефан Игаль Мендель-Энк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Нервной обстановке перед телевизором способствовали неутешительные прогнозы относительно израильского выступления. По слухам, израильтяне отошли от своей завораживающей темповой манеры прошлого года и стряхнули пыль с какой-то скрыто религиозной пасторали, которая раньше считалась совершенно неподходящей для международного конкурса. В фавориты вышла Франция, как обычно с сильной балладой, а также Австрия со льстивым номером Heute In Jerusalem[23]23
«Сегодня в Иерусалиме» (нем.).
[Закрыть]. Среди аутсайдеров оказалась Германия. Их «Чингисхан», хореографическое зрелищное представление о неоднозначном монгольском властителе, которое шло девятым номером, вызвало шквал аплодисментов.
Затем наступила очередь Израиля.
Я подсел как можно ближе к экрану, о чем меня не просили, и почувствовал в животе мистическую тягу при виде женщины, которая спела первый куплет под аккомпанемент только пианино и гитары. У нее было цветастое платье, подвернутая челка и три бой-френда. Так, по крайней мере, я истолковал ее отношение к улыбающимся, но, по счастью, не слишком привлекательным мужчинам в подтяжках, галстуках-бабочках и бежевых брюках, которые вскоре составили ей компанию на сцене.
Моя любовь усиливалась в процессе выступления. К каждому куплету на простую и напевную мелодию добавлялся инструмент, и после третьего припева песня зазвучала во всю мощь. Напряжение возрастало, казалось, до невозможного, но тут они продолжили с еще большей страстью, и запели все четверо под неистовые взмахи дирижера, под конец грянув потрясающим крещендо.
Не могли сдержаться даже ослепленные повседневной политикой шведы. «Аллилуйя» получила двенадцать баллов от Стокгольма, и еще пять, среди прочих, от Великобритании и Португалии. В последнем туре голосования Израиль на десять очков обошел испанку Бетти Миссиего с ее сидящим детским хором. Чудо повторилось. В испанских барах отпускались недовольные комментарии о всемирном еврейском заговоре, а на верхнем этаже папа, танцуя, так налетел на дверь туалета, что образовалась трещина, которую так и не заделали.
* * *
Когда папин папа дочитал свое письмо, Ингемар повел его на кухню, откуда дедушка вышел с полной тарелкой и смятением на лице. Он сел рядом со мной. Мне захотелось взять его руку, положить себе на плечо и прижаться к его животу.
«Долго она не протянет». Дедушка кидал еду в рот. Было так приятно смотреть, как он ест. Он считал, что ты не доел, если на тарелке осталась хотя бы крошка. В детстве мне, как правило, разрешали садиться к нему на колени в конце трапезы. Мы держали в руке по куску хлеба и вытирали им соус с фарфоровой тарелки.
«Достаточно десяти минут, – сказал он. – Ведь это совсем немного. Она же не сделала тебе ничего плохого».
Он так работал челюстями, что у него за ушами образовались глубокие впадины. По-моему, он несправедлив. Я обычно навещал мамэ, когда бывал в городе. Может быть, не каждый раз, но ведь навещал. Каждый раз я спешил пройти через вестибюль, глядя в пол, а там вверх по лестнице и по коридору. Комната мамэ находилась на втором этаже. Из дома она взяла круглый комод и все фотографии, которые никому не разрешалось смотреть. Однажды, когда я пришел к ней, она сидя спала в своем голубом кресле. Нижняя губа выдвинулась вперед, волосы у корней блестели от пота. Когда она проснулась и увидела меня, на какую-то долю секунды, пока не включилась вся система, ее глаза наполнились светом счастья. «Юсеф?» Осознав свою ошибку, она покраснела и молча выразила свое разочарование, продолжавшееся до тех пор, пока она снова не заснула.
* * *
В первый раз папа поехал без родителей в Израиль в июле 1967 года. После ошеломляюще искусной победы в Шестидневной войне в начале лета страна пребывала в состоянии военной и религиозной эйфории. Между ней и ее злейшим врагом, Египтом, теперь была буферная зона в шестьдесят тысяч квадратных километров. Впервые за две тысячи с лишним лет евреи получили доступ к единственной оставшейся части Храма.
Папа работал на фабрике пластмасс в кибуце. У кого-то был микроавтобус, и однажды ночью они поехали в пустыню. В темноте забрались на руины крепости Масада, увидели восход солнца над дюнами и спустились вниз до того, как горячие лучи в разгар лета сделали бы дальнейшие физические усилия невозможными. Только окунувшись в находившееся рядом Мертвое море, они решили позавтракать.
Автобус остановился у халупы на пригорке. За прилавком на вертеле крутились переливающиеся куски баранины. Папа не мог отвести глаз. В мисках на столе лежали овощи. Можно было брать сколько угодно. Папа набил свою питу до отказа и только потом передал ее продавцу, который засунул мясо в готовый треснуть хлеб.
Это был самый вкусный сэндвич в его жизни. Он рассказал мне это как-то вечером, зайдя в мою комнату, только чтобы пожелать спокойной ночи, но остался лежать на кровати, в брюках от костюма, рубашке и ботинках, положив руку мне под голову. Я сказал ему, что не считаю кебаб сэндвичем. Кебаб – это еда, а сэндвич – не настоящая еда. Это что-то среднее между булочкой и полноценной пищей.
Папа ответил: «Якоб, если один из основных ингредиентов – хлеб, то это сэндвич. Особенно в этом случае, когда хлеб окружает остальную еду».
Посмотрев в потолок, он скороговоркой перечислил другие сэндвичи, которые, по его мнению, заслуживали упоминания. С лососем и майонезом, – их делала мамэ. Сэндвичи с рубленой печенью, с яйцами или без них. Затем он вспомнил о соленом огурце: сэндвич с соленым огурцом автоматически относился к его любимым, то же самое с тунцом и «Рувимом», боже мой, «Рувим». Подумать только, он чуть было не забыл «Рувим».
Это американская классика, сказал папа. Может быть, самый известный в мире сэндвич. По меньшей мере три народа ставят его изобретение себе в заслугу. Швейцарцы считали, что такое право им дает сыр. Русские указывали на черный хлеб. Мы, иудеи, полагали, что доказательством вполне может служить ветхозаветное имя, которым назван сэндвич. Главный аргумент против наших притязаний на авторство был такой: бутерброд делали с сыром и мясом одновременно, и поэтому он не был кошерным. Папа считал этот довод не слишком убедительным. Может быть, «Рувим» нарушает кашрут. Израиль построили светские евреи, и, возможно, они были способны придумать и вкусный сэндвич. В той закусочной, где папа с мамой за несколько лет до этого попробовали свой первый «Рувим», конфликт разрешили лозунгом, который мог примирить всех. «Откуда взялся ‘Рувим’?» – вопрошал вырезанный из газеты заголовок, который хозяин скотчем прикрепил над кассой, приписав: Straight from heaven, that’s where[24]24
Прямо с небес, вот откуда (англ.).
[Закрыть].
Свой лучший на тот момент сэндвич я съел всего лишь неделей раньше, и, возможно, поэтому мы вообще заговорили на эту тему. Я должен был ехать в общину на урок бар-мицвы и не успел на автобус, который только что отошел от остановки рядом со школой. Шел дождь, и я уже было собрался перейти на другую сторону, чтобы поехать по кругу, как на повороте увидел фары папиной машины.
В машине было тепло и хорошо пахло папиным новым одеколоном. Он бросал многозначительные взгляды на толстый сверток из фольги, лежавший на бардачке. Серебристая обертка скрывала два двойных сэндвича из мягких треугольных хлебцев. Хлебцы были переложены острым сыром и кусочками соленого огурца. Я съел мой сэндвич, когда мы даже не успели выехать на шоссе, и помню, что мы говорили об особом феномене: как сэндвич, на который дома и внимания не обратишь, вне дома может стать чем-то незабываемым.
* * *
В кладовке стояли два картонных ящика с его вещами. Старая зимняя одежда, маленькая ханукия, потертая кожаная папка со школьными тетрадками и дневниками.
Хорошо сохранившийся букварь. Собственноручно сделанная футбольная афиша. Большой постер SAY IT LOUD[25]25
Скажи громко (англ.). Название сингла Джеймса Брауна 1968 года Say It Loud – I’m Black and I’m Proud («Скажи громко: ‘Я чернокожий и горжусь этим’»).
[Закрыть], висевший в пабе общины, с маленькими дырочками от кнопок.
Паспорт, выданный в 1981 году, рост 176, цвет глаз – карий. Толстая курительная трубка, остановившиеся часы. Потертый кожаный шнурок на шею с гигантской звездой Давида.
Черно-белые фотографии и фотографии с выцветшими красками. В порту в профиль и с бакенбардами, в замшевом пиджаке и в шерстяном свитере. Со счастливым выражением лица на водительском сиденье машины. В шапке поселенца и джинсовых шортах на танке при заходе солнца.
Газетные вырезки в пластиковой папке. Бегин и Садат договорились сегодня ночью… новые протесты перед зданием советского торгпредства… группа врачей Сальгренской больницы нашла совершенно новый метод… помолвки, свадьбы, рождения.
Его диссертация в светло-красном переплете. Пачка поздравительных открыток с подписью.
Темно-синий карманный календарь за прошлый год. Запланированные встречи. Дни рождения. Заметки на полях. Планы целых дней, решительно перечеркнутые чернилами. Никаких записей с той пятницы, когда позвонил коллега.
* * *
Мамэ не закрывала рта всю дорогу до общины. Говорила о своем папе, которого называла гением, о своей маме, у которой были длинные ноги, о своих феноменальных способностях к языкам, и, можешь представить себе, Койбеле, я все еще говорю по-русски, после стольких-то лет, и какая трагедия, Койбеле, что я больше никогда не стану пользоваться своим немецким, знаешь, один раз меня приняли за австрийку, так чисто и красиво я говорила, но я больше никогда не произнесу эти слова, ты ведь это понимаешь, русские еще хуже, не доверяю Горбачеву, фальшивая улыбка, погромы, антисемиты, Гулаг, Освенцим, и bist вы sicher nicht in Österreich (meine Fräulein, fantastich, imklaublich)[26]26
Вы, правда, не родились в Австрии… Моя фрейлейн, фантастично, невероятно (нем.).
[Закрыть].
Папа рассказывал, что семья мамэ приехала с Украины. Ее отец был глубоко религиозным человеком, который тяготился своей работой коробейника. Из-за конкуренции он подался на север. В поезде между Кенигсбергом и Щециным он ехал в одном купе с группой шведских торговцев. Когда они вышли, он подобрал длинный список поставщиков и клиентов, который они забыли. Читая такие фамилии, как Исакссон, Абрахамссон и Юсефссон, он решил, что страна этих людей кишит благочестивыми евреями.
Когда мы поднялись в банкетный зал, дебаты уже были в разгаре. Мамэ поставила два стула в заднем ряду. Она сняла обе шали и положила их на колени, приветствуя знакомых долгим скорбным подмигиванием.
Дебаты вела кузина Кацмана. Она сидела с Заддинским за маленьким столом перед рядами стульев. На столе лежал блокнот, в который она иногда заглядывала. Соловей сидел в первом ряду и возражал почти против всего, что та говорила.
За квадратными окнами банкетного зала сновали машины, подыскивающие место между бетонными столбиками парковки на другой стороне улицы. В простенках висели портреты старых раввинов. У одного на голове была большая четырехугольная шляпа, и он выглядел как католический епископ.
Соловей встал перед своим стулом в первом ряду. Его круглые щеки свисали вниз. Как его звали на самом деле, я не знал. В синагоге он пел громче всех: авангардные мелодии, которые долго звучали после того, как все заканчивали петь. Иногда мне казалось, что я видел в его глазах легкое разочарование из-за того, что больше никто не может последовать за ним на просторы звука. Может быть, из-за своего вокального превосходства он чувствовал себя одиноким. Может быть, в молодости у него был соперник почти с таким же красивым голосом, подтолкнувший его к пределу возможностей, а потом началась война, и теперь нет ничего, теперь его окружают идиоты без слуха, и закрывают идишский хор, а тут еще и эта выставка.
Есть, – сказал он, засучив рукава рубашки, – только одно название тому, что совет по культуре пустил в фойе. Только одно название. Кусок унижения. Вот как это надо было назвать. Не произведение искусства, не позитивная выработка самосознания. Кусок унижения. Он сам был вынужден носить это пять лет, продолжил Соловей и показал то место на груди, на котором он это носил. Он обещал своей маме никогда больше не идти на это. А теперь ему придется видеть это по дороге в свою собственную shul[27]27
Синагога (идиш).
[Закрыть], на стене собственной общины!
Я не знал, чью сторону занять. Соловей звучал убедительно, но в то же время мне было жаль кузину Кацмана. Я видел выставку мельком, поднимаясь по лестнице. Только мельком, поскольку мамэ держала одну руку перед глазами, а другой тащила меня, приговаривая, что я должен помочь ей подняться, она не может смотреть на это безобразие, просто отказывается. Картины по большей части представляли собой лозунги, написанные яркими красками. U R jew-nique! U R b-jew-tiful! No more h-jew-miliation![28]28
Вы уникальны! Вы красивы! Нет унижению (искаж., англ.).
[Закрыть] Стариков возмущал флаг, висевший над кофейным автоматом. Обычный шведский флаг, только вместо креста – звезда Давида. Художники не подумали о неприятных ассоциациях, которые звезда Давида из желтой ткани вызывала у многих членов общины.
Во время своей речи Соловей ходил взад-вперед перед собравшимися. Он рассказывал о больших успехах, достигнутых человечеством со времен его детства. Он выделил высадку на Луну и образование ООН. На удивление долго задержался на технологическом развитии. Затем поднял указательный палец и сказал, что для нас все это не играет особо большой роли. Для нас самое важное – государство Израиль. Израиль сделал нас сильными, гремел он. Израиль сделал нас свободными. Сегодня наша жизнь застрахована. Сегодня мы говорим: «Нет». Поэтому, друзья, я говорю: если в фойе должен висеть флаг – пусть это будет флаг Израиля.
Банкетный зал взорвался овациями. О пол застучали палки. Мамэ встала и захлопала. Она обычно делала так перед телевизором, и в детстве меня это ужасно раздражало. Они же тебя не видят, говорил я. Сядь. Нет, по-моему, они фантастически играют. Она простояла весь финал открытого чемпионата Франции 85-го года, когда Виландер играл против Лендла. И все равно Виландера она не любила. Она считала, что он слишком много плюется. Бьерн Борг лучше, он никогда не плюется, а сглатывает, «как джентльмен». В тот раз не только я, но и все хотели, чтобы она села, но мамэ только сделала громче, назвав идиотизмом то, что каждый раз, дойдя до шести, они начинают снова. Могли бы играть хотя бы до десяти. «Или взять часы, поиграть час, и тот, у кого будет больше мячей, и станет чемпионом. Безумие какое-то. Посмотрите, он опять плюется».
Соловей положил руку на плечо кузины Кацмана. Он сказал, что был очень близким другом ее матери. Ему известно, что и она прошла через ужасы Холокоста. Это была удивительная женщина, и он может только сожалеть, что ее больше нет среди нас. Если бы сегодня она была жива, может быть, она сумела бы образумить своего ребенка. Может быть, она бы сказала, моя любимая доченька, нельзя смеяться над страданиями других людей. Именно здесь-то и кроется большая опасность. Свидетели исчезают, и скоро не останется никого, кто мог бы рассказать, как это было. У народа, который не извлек уроки из истории, будут развязаны руки. Вот какое будущее мы оставляем нашим внукам, вот что его беспокоит. Он продолжал говорить, пока кузина Кацмана не встала и громко не сказала, что ее мама вовсе не умерла. Она видела выставку, и ей понравилось.
Среди собравшихся на какое-то время наступила тишина. Соловей потер кончики ушей и пожал плечами. Если ее мама жива, почему она не дает о себе знать? Разве так ведут себя со старыми друзьями, поинтересовался он перед тем, как Заддинский в углу попросил Этель Зафт сказать несколько слов об осенних встречах старейшин.
* * *
«Meine руки, посмотри на meine [29]29
Мои (идиш).
[Закрыть] руки, Якоб. Посмотри, как они дрожат, ты только посмотри».
Мы сидели на втором этаже в кондитерской Брэутигама. Тети, закутанные в пледы, ели вилками пирожные. Булькала минеральная вода.
Мне принесли кока-колу, и я стал мешать соломинкой кусочки льда на дне стакана. В дальнем конце зала парень играл на пианино. Мамэ время от времени оборачивалась и смотрела на него угрожающе. Как они могли подпустить этого поца к клавишам. Его игра причиняла ей боль. Теперь, когда она не может играть сама, ей вообще тяжело слушать музыку. Ее пальцы больше никогда не извлекут звуки. Этот способ получать удовольствие для нее больше не существует. Ночью она не может спать, лежит без сна в голубой спальне, и свет уличного фонаря, проникающий сквозь жалюзи, режет глаза, а скрежет первого трамвая на рассвете царапает слух. Она сама виновата, ведь она же мать. Еще в детстве он был чувствительным. Ему был нужен человек, который бы его понимал.
Я потрогал соломинкой истаявшие кусочки льда и выпил покрывающую их колу. Мамэ держала чашку обеими руками. Чайный пакетик выпал из бумажной обертки и плавал почти на поверхности, волоча за собой белую нитку. Мне хотелось спросить ее, что случилось с папой на работе в тот день, когда позвонил его коллега, но я никак не мог сформулировать вопрос.
«Он мог взять кого угодно, – тихо сказала мамэ. – Вся община его хотела. Он меня не слушал. Он был как заколдованный, Койбеле, как заколдованный, говорю тебе».
Она пила чай, делая маленькие глотки и энергично прихлебывая. Каждый раз, ставя чашку на стол, она смотрела на меня и кивала, словно чтобы придать своим словам вес. Допив чай, она встала и сказала, что хочет в туалет. Я должен идти с ней. Она боится запираться. Дверь туалета может захлопнуться. «Вот, – сказала она, поискав в кармане пальто. – Вот тебе шоколадка».
В очереди в туалет она рассказала, что раньше в этом кафе на пианино играла еврейка. В то время ходить сюда было настоящим счастьем. У той женщины был сын, на несколько лет младше папы, «маленький kacker[30]30
Говнюк (идиш).
[Закрыть] вот такого роста, – она показала сантиметров восемьдесят от пола, – но зато гений».
Мамэ продолжала рассказывать о талантливом сыне пианистки, уже зайдя в кабинку. Он работал в Париже, а теперь работает в Министерстве финансов. Когда-нибудь – baruch hashem[31]31
Дай Бог (иврит).
[Закрыть] – он, может быть, войдет в правительство, «и там, Койбеле», – я слышал ее сквозь закрытую дверь, – «там ты увидишь, что могут сделать знания. Имея знания, самый маленький может дойти до самого верха».
* * *
Я попросил у тети Ирен сигарету. Она курила сигареты из пачки в желтую и коричневую полоску. Это очень подходило к ее новому статусу человека, досрочно вышедшего на пенсию. Добиться этой пенсии было для нее большой удачей. Тем самым она гордо продолжила традицию, идущую от ее мамы и теток: иногда казалось, что она смотрит на меня с Миррой, чтобы выяснить, кто из нас подхватит эстафету в XXI веке.
Я давно не курил, и сигарета показалась мне невкусной, но делу помог стакан виски, который мне налила Ирен. Она все время подливала, особенно своему папе, и я понял, что таким образом она надеялась потопить в алкоголе его намерение уйти как можно быстрее.
«Лехаим», – произнесла она, подняв стакан. Дедушка в доме мамы и Ингемара испытывал неловкость. А Ирен явно переигрывала. Она яростно стряхивала пепел в прозрачную пепельницу и расспрашивала меня обо всем, что видела вокруг. Кто это на фотографии, где они купили этот комод, а есть ли еще фотографии, а сколько они заплатили за дом?
Я смотрел на пепельницу. Ее подарил маме какой-то родственник. Стеклянная пепельница с картой Европы, выгравированной на донышке. Ингемар обратил на нее внимание в первый раз, когда был у нас дома. После ужина я оказался с ним наедине в гостиной. Мама возилась на кухне, и каждый раз, когда скрипели половицы, я надеялся, что она идет к нам. Мне было стыдно, что я не знаю, о чем говорить. Он спросил о школе, и я сказал, что все в порядке. Я спросил о шведском чемпионате по футболу, и он назвал «Хаммарбю». Из футбольной темы удалось выжать еще две-три фразы, а потом опять наступила тишина. Мне показалось, что каждый раз, когда я сглатывал, было слышно. А действительно, люди так часто глотают, подумал я? У меня было такое ощущение, что если я не сглотну, мне не хватит воздуха. Раньше у меня никогда не было проблем с глотанием, а сейчас рот был полон слюны, которая любой ценой должна была пройти в горло. Ингемар все время держал в руках пепельницу. «Очень красиво, – сказал он, – правда ведь?»
Когда мама наконец вышла из кухни, я переставил пепельницу на мою сторону стола. А что в ней такого красивого? Я не понимал. Может быть, резьба по стеклу? Или карта Европы? Может быть, в этом фишка: тот, кто сделал пепельницу, уместил на маленьком пространстве всю Европу, вплоть до мельчайших деталей?
Пепельницу среди немногих вещей взяли из таунхауса. Почти все остальное при переезде выбросили. Зеленый диван отвезли на свалку. Картины тети Лауры сняли со стен и бросили в мешок для мусора. Ингемар составил список всех комнат в доме, стрелочкой указав того, кто отвечает за ее очистку.
Кладовая была на мне, но я приставал к маме, пока она не согласилась мне помочь. Я надеялся, что соприкосновение со старыми вещами подействует на нее, может быть, заставит вспомнить какой-нибудь случай, какие-нибудь его высказывания, она немного расстроится и медленно погладит пальцами его старую меховую шапку. На видное место я положил фотографии и один из его свитеров, который, как я знал, ей нравился. Посмотрев на свитер, она улыбнулась и сказала: «Дорогой, оставь его себе, если хочешь», и принялась за следующую полку.
* * *
Обрезание не пошло члену Кацмана на пользу. Когда отрезали крайнюю плоть, головка втянулась внутрь. Она спряталась в складках кожи, робкая и смущенная, словно не была готова встретить окружающий мир без своей защитной оболочки.
Я оглядел класс и констатировал, что знаю почти все о членах моих одноклассников. Все они были довольно похожи.
В обычной школе было по-другому. В душе после урока физкультуры в первом классе я впервые в большом количестве увидел протестантские пенисы. Я не мог получить такого четкого представления, как хотелось бы, поскольку фрёкен надела на нас резиновые шапочки с запотевшей полиэтиленовой пленкой на глазах, но то, что мне удалось увидеть, произвело на меня впечатление. Большая внутренняя вариация резко контрастировала с тем однообразием, к которому я привык в еврейской среде. Наверное, сходство зависело от того, что мне и моим товарищам обрезание делал один и тот же могель. То есть всем, кроме Кацмана: когда пришло его время, наш штатный могель заболел, и им пришлось вызванивать какого-то парня из Стокгольма, который после пяти часов за рулем приехал уставший и разбитый.
В США такого бы никогда не произошло. Там везде есть могели. Поэтому все наши знакомые любили Америку. Как бы они ни пеклись об Израиле и ни чтили его, мечтали-то они об Америке. В США были школы, где учились одни евреи. Курорты, магазины, пригороды. Слова из идиша в повседневной речи. Продавцы бейглов на каждом углу, и уж точно везде могели. Отдельная рубрика в желтых страницах для могелей. Целая страница с обеих сторон только с могелями.
В Швеции все было по-другому. На обрезание поступали жалобы. Обрезание считалось здесь варварством. Рано или поздно его запретят. Папе и остальным врачам из общины все время приходилось вмешиваться и защищать нашу традицию. В их задачу входило информировать о гигиенических преимуществах обрезания и подчеркивать его центральную роль в нашей вере. А также, что, по-моему, было самым важным, держать нижнюю часть живота Кацмана подальше от света медийных рамп.
На Кацмане было вишневое полуполо, которое лезло вверх и оголяло спину, когда он наклонялся над своей партой. Вообще-то была его очередь отвечать, но ему пришлось подождать, поскольку Заддинский привел в класс девочку со светло-каштановыми волосами.
Фрёкен Юдит велела нам замолчать. Заддинский выплюнул жвачку в корзину для бумаг рядом с кафедрой и указал одной рукой на девочку, которая сделала шаг вперед, заложила прядь за ухо и сказала, что ее зовут Александра.
Она приехала из СССР. Советские евреи представлялись мне интересными людьми. Принудительное лечение в психушках, рабочие лагеря, полицейский произвол. Весь четвертый класс мы изучали советских евреев как отдельную тему. Летом, после окончания занятий, мы поставили в банкетном зале нашу версию захвата Дымщица – Кузнецова. На сцене – шестнадцать человек вокруг стола. Тихие голоса. Кап-кап из сломанной трубы в потолке. Я играл Кузнецова и только что придумал гениальный план побега. Мы должны притвориться, что едем на свадьбу, и купить всем билеты на внутренний рейс между Ленинградом и городом, название которого невозможно выговорить. В воздухе мой сообщник-пилот (Санна Грин) должен был взять у меня штурвал и направить самолет в Швецию.
Фрёкен Юдит суфлировала, сидя на стуле перед первым рядом. Родители аплодировали каждой до конца произнесенной реплике.
Все было распланировано до минуты, но все пошло не так, как задумано. Еще в аэропорту всю группу арестовали два жестоких констебля (Юнатан Фридкин и Яэль Софер). Меня и пилота приговорили к смертной казни. Во втором акте наказание смягчили под давлением Запада (Адам Кацман и Ариелла Мойшович).
Протесты могут помочь. Это была основная мысль постановки. Для тех, кто не сумел понять это из действия, может быть, дошло, когда все участники после окончания спектакля вышли на авансцену и прочли это каждый по своей смятой бумажке.
Мы подписывали письма в советское посольство. Рисовали и сочиняли ободрительные приветствия. Мужественные волонтеры перевозили секретную почту. Один раз в такой роли выступили мама с папой. Они контрабандой ввезли молитвенники. Подняв трубку телефона в гостиничном номере, они услышали странный щелчок. Фотография, сделанная в поездке. Заснеженный мост. Мама в светло-коричневом пальто с огромным воротником. Папа в длинном пальто и меховой шапке.
Александру посадили рядом с Санной Грин. Фрёкен Юдит кивнула Кацману, который поднялся и уверенно шагнул к кафедре с толстой пачкой бумаг в руке. Я уставился Александре в затылок в надежде, что смогу в нее чуть-чуть влюбиться. Об остальных девочках в классе нечего было и думать. Может, потому, что я их слишком хорошо знал. Может, потому, что они были мещанками. По крайней мере так мама отзывалась об их матерях. Как-то вечером мы с Миррой наблюдали, как мама разбирает платяной шкаф. Она показывала нам свою старую одежду, морщась от подозрительности на грани ненависти. Неужели я действительно могла такое на себя надеть, говорила она. Я с ума сошла. Это в стиле Фанни Грин. Из всех насмешливых оскорблений, которыми она осыпала старые вещи, «Фанни Грин» вскоре оказалось самым тяжким. Это было не столько имя, сколько кодовое обозначение занавесок, маленьких машин, неполного рабочего дня, встречи с девочками в среду для сбора средств и кошерная жизнь в четверг после обеда, и я видел, что маме доставляет удовольствие заталкивать «зараженные» вещи на самое дно черного мусорного мешка.
Я немного побаивался родителей Санны Грин. Однажды ее папа случайно услышал, как я сказал Санне, что не считаю фокусника Морриса Мейера настоящим волшебником. Он только и умеет, что надувать шары и завязывать их в различные фигуры. Он выступал на всех детских праздниках, которые устраивала община, и каждый раз делал одно и то же. Ловко, конечно, но это не волшебство. Саннин папа ухмыльнулся на переднем сиденье. А я могу объяснить, как это получается? А я сам пробовал так делать? Вот он пробовал, и шары лопались, чтоб я знал. Когда обычные люди пытаются превратить эти шары в животных, от шаров ничего не остается. Как ему удается, что эти проклятые тонкие шары не только не лопаются, но и становятся то одним фантастическим зверем, то другим, он не понимает. А если что-то нельзя понять, значит, это и есть волшебство.
Нет, господин Грин, вы не правы. Для волшебства нужна магия, что-то скрытое, то, что внезапно возникает из ниоткуда, сюрприз, а это последнее, что можно сказать об искусстве Мейера. Вот что бы я хотел сказать в тот день в темно-синем «Опеле», но мне пришло это в голову гораздо позже.
* * *
После урока фрёкен Юдит остановила меня и велела зайти к раввину.
Дверь была приоткрыта. Я медленно распахнул ее и остался стоять чуть-чуть за порогом, не зная, что делать. Раввин продолжал работать за письменным столом, не обращая на меня внимания. Через какое-то время он пробормотал нечто нечленораздельное, но, во всяком случае, дал понять, что заметил мое присутствие.
Я сел на синий офисный стул и стал осторожно вертеться из стороны в сторону. Комната была настолько мала, что не удавалось сделать полный оборот. Если я поворачивался вправо, то почти сразу же ударялся коленями о стену, а если влево, то задевал ногами нижнюю полку книжного стеллажа.
Письменный стол занимал почти всю комнату. Груды молитвенников, газетные вырезки, свисавшие со стола. По столешнице катались тубы с лекарством от головной боли, и из капсул сыпался порошок. Посреди всего этого стояла пишущая машинка, по которой раввин со злостью колотил одними указательными пальцами. На нем была белая рубашка, круглые очки и черный жилет. Подбородок украшала черная курчавая борода с седыми волосками. Иногда он вырывал бумагу из машинки и комкал ее. Пока он писал, он все время бормотал и ругался. Как они могут expect[32]32
Ждать (англ.).
[Закрыть] от него, что он все успеет? Колонки в общинной газете. Финансовые переговоры с правлением общины. Экуменистические посиделки со священниками и имамами.
Зазвонил телефон. Раввин не ответил. Он собрал груду бумаги в пачку, ударив короткой стороной о стол, и отодвинул в сторону стопку брошюр, которая мешала добраться до степлера. И только тогда он по-настоящему осознал мое присутствие. Он наклонился над столом, взъерошил мне волосы, откинулся назад, объяснил, почему попросил меня зайти, и задал несколько вопросов. Тут опять зазвонил телефон. Раввин взял трубку, произнес: Later Sarah darling, later[33]33
Позже, Сара, дорогая, позже (англ.).
[Закрыть], положил трубку и опять задал вопросы, на этот раз медленнее и с большим количеством шведских слов, как будто те ответы, которые я ему только что дал, так его обескуражили, что он решил, что произошло недопонимание.
«Я-коб, – он озабоченно поглядел на меня, – я должен сказать»…
Его жена звонила, потому что они не могли иметь детей. Когда я готовился к бар-мицве, меня часто просили выйти в коридор. I need a moment here Jay[34]34
Мне нужна минутка, Джей (англ.).
[Закрыть], просил он, а потом сквозь дверь я слышал, как он говорит мягким понимающим голосом. Yes Sarah. No Sarah. I feel that way too Sarah[35]35
Да, Сара. Нет, Сара. Я тоже это чувствую (англ.).
[Закрыть].
… за всю мою жизнь… думаю, что никогда не видел anyone[36]36
Такого (англ.).
[Закрыть]…
Не могут иметь детей. Скандал. В семье раввина, г-н Вейцман, один ребенок должен дергать Вас за штанину, другой карабкаться по свиткам Торы, а остальная орава играть у Вас в бороде в прятки.
…so unaffected[37]37
Простодушного (англ.).
[Закрыть].
Раввин снял очки, протер их изнанкой жилета и рассмеялся, больше, похоже, от смятения, чем от радости. Опираясь локтями о стол, сложил ладони у носа. Посидев какое-то время совершенно неподвижно, он наклонил ладони вперед и спросил, знаю ли я, для чего нужен раввин.