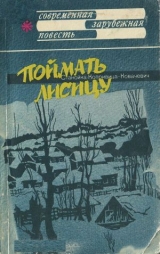
Текст книги "Поймать лисицу"
Автор книги: Станойка Копривица-Ковачевич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Свое оружие
«Целая сумка патронов, – думал Рыжий. – Целая сумка…»
Эта мысль не выходила из головы мальчика, когда к ним в дом ввалилась группа четников.
Они были из местных, дядька знал всех по именам. Четники быстро освоились, стали вести себя как дома: разделись, разбрелись, как куры, по двору. Все были вооружены до зубов, и это не укрылось от глаз Рыжего. «Грош мне цена, если не стащу у них что-нибудь», – решил он.
Решить-то решил, да как стащить, если четники шныряли повсюду и сделать что-то незаметно было трудно.
Он вертелся среди них, следил за каждым шагом, стремясь улучить удобный момент, но это не удавалось. Рыжий только удивлялся, сколько на них было навешано оружия. «Разукрашены, точно свадебные кони», – думал он презрительно и в то же время с завистью.
Тетка сбилась с ног, спеша приготовить им цицвару[6]6
Цицвара – национальное блюдо из муки, масла и сыра.
[Закрыть].
Те из них, кто постарше, сидели в погребе, где дядька угощал их ракией. Парни же то и дело выходили на улицу, зыркали по сторонам, высматривая женщин помоложе. Один даже, подозвав Рыжего, поинтересовался, есть ли в деревне девчата.
– Есть, – буркнул мальчик и отошел, опасаясь, как бы тому не взбрело в голову попросить его привести девушек.
Рыжий не любил солдат, особенно с тех пор, как усташи сожгли их дом и он с матерью вынужден был бежать сюда, к дяде. Четников он тоже не любил – ему были противны их бороды, нечесаные сальные волосы, кокарды на фуражках. «Как им самим-то не противно носить кокарды с этими гадкими птицами?» – думал он. Насколько милее и приятнее была партизанская звезда, гордо указывающая своими лучами на все четыре стороны света, а пятым как бы заглядывая еще в один мир – в мир будущего! Взволнованный, разгоряченный этими новыми чувствами, мальчик вдруг подумал: «Запеть бы им в лицо знаменитую партизанскую песню: „Среди звезд прекрасных, вечных краше нет пятиконечной!..“ Ему так хотелось это сделать! Но он понимал: это было бы безумием. И все же интересно: что бы тогда сделали ему вшивые обормоты?
Притаившись в уголке, Рыжий исподтишка наблюдал за четниками. И удивлялся: ну как могут женщины танцевать с ними коло, слушать звон висящей на них сбруи? Нет, правы те, что бежали от них словно от чумы.
Дело шло к вечеру, когда ему вдруг представился подходящий случай. Не успел Рыжий принести в погреб воду, за которой его посылали, как вбежала тетка, крича во весь голос:
– Что делать, Милия? Усташи!..
Среди четников началась паника. Они скопом бросились к двери, сбивая друг друга с ног. Дядька тоже вскочил, выбежал к воротам. Подскочив к окну, Рыжий увидел дядьку: раскинув руки, тот что-то втолковывал трем перепуганным усташам. Что он им говорил, не было слышно, только после этого они бросились бежать на другой конец деревни.
Рыжий быстро оценил ситуацию. Вмиг очутился он возле стоявших поблизости полевых сумок, доверху набитых патронами. Лихорадочно совал патроны за пазуху, опорожняя одну сумку за другой. Закончив, выскочил во двор.
Когда четники вернулись, мальчик с замиранием сердца ждал, обнаружат ли пропажу. Но тем было не до него, не до украденных патронов – слишком были заняты собой, рассказывали друг другу, как удирали.
– Эй, дядя, Радивое проломил твой забор. Будет тебе завтра работка! – смеялись они.
– И ты бы проломил, окажись он у тебя на пути, – ответил Радивое, и четники разразились оглушительным хохотом.
Едва дождавшись рассвета, Рыжий стал искать Йоле, чтобы похвастать раздобытыми патронами.
А потом они вдвоем на глазах у ребят из враждебного лагеря, тех, которые были за четников, целый день только тем и занимались, что бросали патроны в костер. „Ну-ка, посмотрим, чьи патроны лучше стреляют!“ – кричали они, отбегая в безопасное место и наблюдая, как взрываются патроны, разбрасывая вокруг искры и пепел.
Но и „противник“ не остался в долгу. Долговязый со своей ватагой тоже бросал патроны в костер. Леса и дол огласились беспрерывными взрывами,
– Мы вам покажем! – неслось с одной стороны.
– Это мы вам покажем!
Разозлившись, Йоле с Рыжим договариваются: один пойдет на левый фланг, другой – на правый, а ребят поменьше поставят в центр.
– Разворачивай левый фланг! – выкрикивает Рыжий и смотрит, как Йоле перебегает от укрытия к укрытию, точно настоящий боец.
– Вперед, партизаны! – командует он и, выскочив на открытое место, бежит во весь рост, набрав полные пригоршни камней. Потом, повернувшись к Лене, кричит: – Огонь!
Девочка швыряла патроны в костер, и, когда они взрывались, ребята бросались в атаку. Они преследовали „противника“ до самого дома. Из хат с бранью выбегали их матери, и только тогда преследователи поворачивали назад, запыхавшиеся, счастливые, чувствуя себя настоящими партизанами.
– Я вам это припомню, – грозился долговязый.
Прошло несколько дней. Йоле и Рыжий что-то увлеченно мастерили, сидя на поленнице, когда Раде приволок и бросил им под ноги старую винтовку.
– Смотрите, что у меня есть!
Ребята переглянулись.
– Где ты ее нашел? – спросил Йоле.
– Вот там, в лесу, – малыш махнул рукой.
Ребята снова переглянулись. Все трое склонились над винтовкой. Она была тяжелая, длинная, во многих местах ствол покрывала ржавчина. Они изрядно повозились с винтовкой, прежде чем начал работать затвор.
– Ничего, будет стрелять, – самоуверенно заявил Рыжий.
Принялись за работу, посылая Раде то за песком, то за соломой. Подошел Влайко, стал помогать. Терли и чистили винтовку, пока она не засверкала как новенькая, но Рыжему что-то в ней не нравилось. Наконец его осенило:
– А почему бы нам не укоротить ее? Будет как у партизан.
– Правда, давайте обрежем, – поддержал его Влайко. – Мой отец говорит, обрез прекрасно стреляет.
Они обрезали приклад, смазали затвор. Теперь это была настоящая партизанская винтовка.
– Теперь она как настоящий русский обрез, – довольно заметил Влайко.
– Откуда ты знаешь, какие они бывают?
– Сам-то я не видел, да партизаны говорили: они вот такие же маленькие. Но палят здорово!
– Завтра пойдем на Дебелячу, там ее проверим, – решил Йоле.
Наутро ребята выгнали овец раньше обычного, погнали их к лесу. Очень уж хотелось поскорее испытать винтовку. Рыжий нес патроны, а Йоле – завернутый в тряпку обрез.
Зашли далеко в лес. На поляне развернули свое сокровище и склонились над ним. И хотя терпение было на исходе, теперь, когда можно было приступить к испытанию, каждый боялся первого выстрела.
– Дай-ка мне, я стрельну первый, – попросил Рыжий Йоле.
Тот протянул ему винтовку. Лена с гордостью смотрела на руки Рыжего, ловко заряжающие винтовку, словно мальчик всю жизнь этим занимался.
– Спрячьтесь-ка все! – приказал Рыжий, а сам остался на поляне. – Стреляю вон в тот пенек.
Он приставил приклад к плечу, крепко прижался к нему щекой. Выстрел прогремел так внезапно и оглушительно, что все вздрогнули. От пенька полетели вверх и в стороны щепки, ребята провожали их взглядом, пока они, крутясь, падали на землю.
А Рыжий стоял на месте, слегка побледневший, улыбающийся.
– Во сила! – проговорил он, подходя к ребятам.
Лене вдруг захотелось поцеловать его. Но, стыдясь своего порыва, она только глядела на Рыжего и радовалась, что он такой. Именно такой, как есть…
Ребята, вырывая друг у друга винтовку, стреляли по очереди, а девочка потихоньку отошла в сторону и, поднявшись по склону, легла в траву. „Знает ли небо, как я счастлива? – думала она, глядя в небо. – Наверное, нет. Это знаю только я – и бог, если он есть!“
Унижение
Его разбудила мать. Он долго не мог проснуться, не понимая, чего от него хотят.
– Просыпайся, сынок! – расталкивала она мальчика. – Отец зовет.
Влайко отдал бы все на свете, лишь бы его оставили в покое. Ему казалось, он только что заснул. Но мать не отходила.
– Вставай, сынок, отец рассердится. Ты ведь его знаешь…
Мальчик с трудом разомкнул веки.
– А, это ты, – пробормотал он, увидев склонившееся над ним лицо матери.
– Я, я, сынок. Ну-ка, быстренько. Отец ждет. Пойдете на ток.
Влайко оделся. Начинало светать. Восток просветлел, но половина неба была еще погружена во мрак. На небе мерцали звезды, и он улыбнулся им. Наскоро умывшись, выпил кружку молока. Тем временем совсем рассвело.
– Снопы уже стоят, – сказал отец, свертывая самокрутку из клочка бумаги. – Они не тяжелые, справимся за день. – Он пошел к конюшне. – Возьми возле амбара вилы и грабли – себе и мне – и иди на ток, а я лошадей выведу.
Забросив на плечо вилы и грабли, мальчик зашагал вниз по дороге. Настроение было прекрасное. Глянул вверх – на небе ни облачка. "Будет хороший денек", – подумал Влайко, насвистывая какую-то мелодию. Это была песня сербских партизан, которые весной стояли в их деревне, Ему нравились и мелодия, и сами партизаны. "Интересно, где они сейчас? Небось где-нибудь далеко…" Ему захотелось к партизанам – хоть ненадолго. "Отец убил бы меня… Ему больше по душе эти бородатые. Да разве на них можно положиться? – размышлял он. – Вон и Йоле, и его брат, и вся их семья связаны с партизанами. Только у моего отца все шиворот– навыворот. Вся деревня одно делает, а он – обязательно наперекор…" "Ты всегда поступаешь всем назло", – говорил ему дядя. И Влайко с ним согласен. Ведь именно потому отец привечает этих обросших. Лишь бы идти против течения, не быть похожим на остальных. О, как он завидует Йоле, что у того нет отца! "Вот счастливый! Может делать, что ему нравится. Кого хочет, того и любит!.."
Но, к счастью, отца сейчас рядом не было, а вокруг сияло прозрачное, чистое, словно умытое, утро.
Влайко был жизнерадостным человеком, к нему быстро вернулось хорошее настроение. Услышав доносившиеся из пшеницы трели жаворонка, мальчик ему ответил. Жаворонок замолчал, будто удивился, а Влайко засмеялся.
Проходя под сливами, он подпрыгнул, схватился за ветку, и его обдало росой. Он снова рассмеялся и пошел дальше, насвистывая партизанскую песню. Подойдя к току, он прислонил к плетню вилы и грабли, стал отвязывать калитку, но вдруг застыл в оцепенении: из копны соломы поднялся человек в темной одежде и приставил пистолет к его груди.
– Кто там? – раздался гнусавый голос из-за копны.
– Да вот, какая-то птичка залетела.
Мальчик смотрел на того, который держал пистолет. Это был высокий молодой человек; лицо его было бы приятным, если б не жесткий, колючий взгляд. Отряхивая приставшую к штанам солому, из-за копны показался второй – пожилой, весь какой-то опухший, уродливый. Оба были несимпатичны мальчику, но он стоял спокойно, стараясь не показать своей неприязни, и только недоумевал, почему до сих пор нет отца – тот бы сообразил, что делать. "Вот сейчас этот болван пальнет, и конец мне", – подумал Влайко, и ему стало страшно.
Мужчина с отекшим лицом, все еще раздраженно стряхивая с себя солому, подошел ближе.
– Чей будешь? – спросил он гнусаво. И, поскольку Влайко молчал, повысил голос: – Я тебя спрашиваю, чей ты?
– Сын Стояна, – выпалил мальчик, испуганно отступая.
– Какого Стояна?
– А вот этого, – услышал Влайко голос отца.
Никогда в жизни мальчик так не радовался его появлению,
Незнакомцы обернулись. Отец не спеша привязывал к плетню лошадей. Спокойствие его передалось Влайко, у него отлегло от сердца.
– Вы что пистолетом тычете в ребенка? Или вы не христиане? – зло спросил Стоян, приближаясь к незнакомцам.
– Мы-то христиане, а вот ты кто? – спросил опухший, отводя руку молодого. – Погоди, давай выслушаем этого господина.
– Никакой я не господин, – проворчал отец. – Простой крестьянин. А вы кто такие? – взглянул он на них.
– Мы нездешние, – сказал молодой, сверля Стояна недобрым взглядом.
– Оно и видно, – парировал отец. – Наши так пистолетами не машут. А уж на детей – тем более.
Никогда еще Влайко не восхищался своим отцом так, как сейчас.
– А не кажется ли тебе, что у тебя слишком длинный язык? – угрожающе спросил старший.
– Как бы тебе его не укоротили, – добавил молодой, скаля зубы.
Внешне отец был спокоен. Повернувшись к старшему (молодого он явно игнорировал, хотя именно его боялся больше), он сказал:
– Чего вам надо? Я ведь к вашим хорошо отношусь, это здесь все знают. Однако кому ж понравится, когда детям грозят оружием?
– Ну, вот так-то лучше, – согласился человек с одутловатым лицом. Настроение его заметно улучшилось, так как он наконец избавился от соломы, отряхнул все соломинки со своих штанов. – Видишь, Еремие, какой у нас нюх – вышли на своего человека, – подмигнул он молодому. Потом шагнул к отцу, крепко схватил его за плечи и притянул к себе: – Слушай внимательно, дядя. Сегодня мы у тебя в гостях – и обращайся с нами как с гостями. Принеси еды – побольше да повкуснее, да и выпить чего-нибудь не мешает. Не вздумай подсунуть нам какие-нибудь помои – выльем тебе за пазуху, понял? – Он отпустил отца. – И вот еще что. Вечером пойдешь с нами, покажешь дорогу в Соколович. Ну как, договорились?
– Да я… – начал было отец.
– Твои заботы меня не касаются, – оборвал его пожилой.
Молодой постукивал пистолетом по ладони.
Но отец не сдавался.
– Послушайте, братцы, мне ж молотить надо, зерно пропадет…
– Завтра смолотишь, когда уйдем, – сказал пожилой.
Продолжая играть пистолетом, криво усмехаясь, подступил к нему и молодой.
– Ладно, ладно, – пробормотал отец. – Сделаю.
Влайко было жаль отца, вынужденного разговаривать с этими типами и подчиняться им. В душе он наверняка их проклинает. Но ясно было, что с ними шутки плохи: им ведь безразлично, куда стрелять – в человека или в пень.
– А теперь, щенок, беги домой да принеси нам перекусить, – приказал пожилой.
– Я пойду с ним, он ведь не знает, что взять, – засуетился отец.
– А ты здесь останешься, – перебил его молодой. – Неизвестно, что ты нам подстроить можешь.
– Пусть попробует, – пригрозил пожилой, мигая налитыми кровью глазами. – Мы тогда его дом с землей сровняем.
Влайко смотрел на них, на отца, и ему вдруг нестерпимо захотелось очутиться где-нибудь в другом месте.
– Ну, топайте, – прикрикнул пожилой.
Отец взялся было за узду, но молодой приказал:
– Лошадей оставь здесь. Так будет надежнее.
Беспомощно пожав плечами, отец кивнул Влайко:
– Идем…
– Эй, дядя! – окликнул его гнусавый. – Следи за своим щенком, чтоб не распевал партизанские песенки, иначе я ему язык окорочу!
Когда его уже не могли услышать, отец выругался сквозь зубы:
– Сволочи!..
– Вот они, твои четники! – сказал Влайко, решив высказать все, что было на душе, но получил такую затрещину, что в глазах потемнело. Он заплакал и отбежал в сторону, вызывающе крича: – Твои, твои, а то чьи же? Ты ведь их вон как любишь!
Отец схватил палку.
– Я тебе покажу, кого я люблю!..
Влайко пустился наутек. Все было обидно: и оплеуха, и пережитое на току унижение, но больше всего возмущала мальчика отцовская покорность. И он поклялся: пока жив, никогда не будет хорошо относиться к четникам, да и к отцу тоже, если тот будет с ними заодно.
Этой клятве Влайко остался верен навсегда, но никому, даже Рыжему, не рассказал, что с ним произошло в тот день.
И отец был нем как могила.
Всюду боль
Погруженная в свое горе, мать раскачивалась из стороны в сторону, причитая. Отдельные слова доносились до слуха Раде: «Бедная я, несчастная… сынок мой… горе мне, горе…»
Раде не хотел тревожить ее, хотя с утра, кроме кусочка хлеба, во рту у него ничего не было и голод давал о себе знать. Выйдя из дома, мальчик сел на крыльце. Тут его и застал дядя.
– Что пригорюнился? – спросил он Раде.
– Ничего, – ответил мальчик угрюмо, поднимаясь со ступеньки.
– А Йоле где?
– Пошел на мельницу.
– А мать?
– Дома… – Он показал рукой на дверь.
– Никак не успокоится, – сказал дядя, качая головой. – Погубит она и себя, и вас.
Он зашел в дом, оттуда послышался его голос: "Радойка, послушай меня, Радойка…" Потом, выйдя на крыльцо, дядя обратился к Раде:
– Иди-ка ты ко мне на огород, мои там копают картошку, помоги им, а они тебя покормят! – И возвратился к матери.
Раде нехотя встал. На душе было тоскливо. Он чувствовал себя очень одиноким в этом мире, одиноким и никому не нужным. Ноги заплетались, словно на плечах лежала тяжелая ноша. "Почему так грустно и пусто у нас дома? – думал мальчик. – Никогда не знаешь наверняка, поешь сегодня или нет".
– Это потому, что у вас нет отца, – объяснила Лена, когда он однажды ей пожаловался.
– Да, у вас всегда хорошо. И всегда есть что пожевать, – с завистью сказал Раде.
– А ты живи у нас, – предложила она серьезно.
– Ну да! – рассердился малыш, – Как же я оставлю Йоле?
– А он станет к тебе приходить. Он и так каждый день у нас.
– А мама? – спросил Раде. – Она будет плакать…
– Подумаешь, – ответила девочка. – Она и так плачет.
Раде понимал: это правда. Но он не мог оставить мать, пусть даже у Лены ему было бы во сто раз лучше. "Все было бы по-другому, если бы Райко был жив", – подумал он, тяжело вздохнув, и, кажется, впервые осознал, что такое смерть. Райко нет и никогда больше не будет! Глаза малыша налились слезами.
– Если бы Райко не ушел тогда с пролетариями, он остался бы живым, – сказала Лена. – Это они виноваты!
– Нет, пролетарии не виноваты, – ответил Раде, защищая брата.
– А кто же, если не они?
– Война виновата, вот кто! – рассердился он.
– Конечно, война, но и пролетарии тоже, – упрямо твердила Лена. – Мой отец так говорит.
– Подумаешь!
– Он знает. Поэтому он и не любит пролетариев.
– И вовсе не поэтому! – ехидно сказал Раде.
– Только из-за Райко!
– Нет, не из-за Райко, – твердил он.
– Почему ж он вас любит?
– Ну, мы – другое дело, – ответил Раде, прекращая спор.
"А почему другое? – думал он, направляясь к картофельному полю дяди. – Пожалуй, нет, не другое. Мы тоже пролетарии. У нас тоже ничего нет…"
От жалости к себе и к своим близким он заплакал, но поспешил смахнуть слезы. "Не дай бог увидят, начнут приставать с вопросами, не отвяжешься".
Весь день он усердно работал, стараясь ни с кем не разговаривать. Даже с Леной. Сначала она крутилась возле него, заговаривала, но он отвечал односложно, и она оставила его в покое. Вечером же, когда Раде собрался домой, она решила проводить его. Мать Лены дала мальчику кошелку картошки, от которой он долго отказывался и взял только после того, как тетка убедила его, что он все заработал. Лена сказала, что поможет донести кошелку, – конечно, это был предлог, просто она хотела поговорить с Раде.
Был прекрасный осенний вечер. Долго шли молча. Лена замедлила шаг, взглянула на небо и вдруг спросила:
– Раде, а ты веришь, что душа живет после смерти?
Он даже остановился. Разыграть хочет? Но светлые глаза девочки были спокойны и серьезны.
– Не верю, – ответил Раде.
Малыш сел на траву. Лена устроилась рядом.
– А я то верю, то не верю, – сказала она, ударив кулаком по росшему у обочины кусту.
– Кажись, и я тоже… – признался Раде после непродолжительного раздумья, вспомнив, как еще совсем недавно надеялся на то, что Райко обязательно вернется.
Но сегодня – сегодня Раде понял, что брат не вернется никогда…
– Не верю, что бог есть, – выкрикнула Лена и снова ударила кулаком по кусту.
Раде молчал, задумавшись.
– Ведь если б он был, – продолжала девочка запальчиво, – наверняка кому-нибудь удалось бы его увидеть, правда?
Раде молчал.
– Врут они все, что он есть, – уверенно заявила Лена. – Врут! Не видел его никто!
Раде не знал, что ответить. Может быть, Лена права. Ведь если бог такой всемогущий, каким его считают, почему он не воскресит Райко? И все-таки, понимая, что Райко никогда не вернется, Раде не винил бога за его бессилие.
Лена вдруг сказала:
– Вот вырасту – и уеду отсюда… Куда-нибудь далеко-далеко… – Посмотрев на Раде, она предложила: – Поедем вместе, хочешь? На поезде прокатимся… – Глаза ее сияли, и Раде улыбнулся. – Ну как, поедем? – И, прежде чем он успел ответить, глядя вверх, в небо, выпалила: – Знаешь, мне иногда хочется завыть на луну!
Он расхохотался – впервые за этот день.
– Давай вместе повоем? – Вскочив, она протянула мальчику руку.
– Что это на тебя нашло? – спросил он, продолжая сидеть на земле. – Только собаки воют на луну.
– Ну и пусть. Я тоже буду! – И, приставив ладонь ко рту, она издала протяжный, скорбный вопль, похожий на завывание собаки.
– Ой, не надо, прошу тебя! – крикнул Раде, вскакивая.
Лена замолчала, снова села. Казалось, этот вой неизвестно почему ее успокоил.
– Знаешь, Раде, – тихо сказала девочка, когда он опустился на траву рядом с ней. – Иногда у меня бывает такое настроение, такое… Просто не знаю, куда деваться…
Больше они не разговаривали.
Утихомирившись, Лена смотрела в темнеющее вечернее небо. Откуда-то из дальних его глубин на нее глядели чьи-то глаза. Они были желтые, дерзкие – совсем как глаза Рыжего… Лена им улыбнулась. Потом попыталась отогнать видение, но оно вновь возвращалось. Глаза сверкали и манили, словно светлячки. Хотя нет, светлячки безобидны, а эти огоньки опасны – они жалят. "Ну и пусть жалят, – подумала девочка. – Ну и пусть…"
Она проводила Раде до самого дома. Расстались молча – кажется, в этот вечер они поняли друг друга, как никогда раньше.
В комнате было темно. Раде зажег лучину, затопил печь и испек картошку. Мать сидела на том же месте, где он ее оставил.
Когда картошка была готова, Раде позвал:
– Мама, идем ужинать.
Она смотрела перед собой отсутствующим взглядом. Малыш потянул ее за рукав. Раде отдал бы что угодно, лишь бы вывести ее из оцепенения. Лишь бы она стала такой, как прежде. И вообще – чтобы все стало как раньше.
– Поешь, мама, – попросил мальчик, видя, что она его не замечает, и снова дотронулся до ее руки.
– А, это ты, родной, – проговорила мать, приходя в себя.
– Я, мама, – ответил Раде, придвигая к ней картошку.
– Мы, кажется, поменялись местами, – медленно сказала мать, взяла в руки картофелину и принялась ее чистить.
Раде наблюдал за движениями ее рук. Как неживая. Он посмотрел на ее лишенное выражения лицо и содрогнулся. "Она как будто умерла!" – думал он в отчаянии.
– Вкусная картошка? – теребил он мать.
– Да, – ответила она, даже не взглянув на него.
Раде заплакал. Мать жевала картошку, отрешенно глядя в пространство, а он все плакал и плакал, пока не разразился рыданиями.
Словно вдруг очнувшись, мать перестала есть, прислушалась.
– Кто-то плачет? – спросила она, оглядываясь.
Раде и хотел бы остановиться, но не мог. Он вытирал слезы руками, размазывал их по лицу, а они вновь и вновь набегали на глаза.
– Это ты плачешь, Раде? – спросила мать внятно.
Взгляд ее прояснился, она долго смотрела на мальчика. Потом подошла, села рядом и начала вытирать ему слезы.
– Почему плачет мой малыш, мой Раде? – шептала мать, обняв его голову, прижав его к груди и нежно укачивая. – Почему плачет мой сыночек? – ласково повторяла она.
Его словно прорвало. Раде уже не плакал – он рыдал в голос, содрогаясь всем телом. Мальчику хотелось вырваться, убежать, спрятаться, но мать крепко держала его, не отпуская из своих сильных теплых объятий. Тихо покачиваясь, она баюкала Раде, как младенца, и равномерное покачивание постепенно его успокоило. Слезы иссякли, из груди все реже вырывались последние судорожные всхлипы, потом и они прекратились. Раде почувствовал, как исчезает, уходит неведомо куда накопившаяся за многие дни тяжесть.
Окончательно успокоившись, он заснул у матери на коленях.








