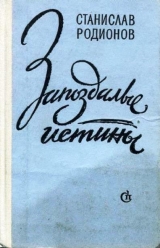
Текст книги "Тихие сны"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Последние дни он замечал в себе некоторую странность. Чаще всего дома, чаще всего вечером. Его охватывало подозрительное состояние, ни на что не похожее. Нет, похожее – на скуку. Пожалуй, на ожидание чего-то или кого-то. Вернее, на то чувство, которое остаётся на вокзале после проводов. Или после утраты близкого человека. Но инспектор не скучал – когда? Никого не ждал, не провожал и не хоронил. Может быть, это возрастное: как перевалит за тридцать пять, так и не по себе?
Петельников разгладил тетрадочные листки и принялся читать заявление гражданки Цвелодубовой сначала.
Значит, так. На её день рождения пришли свёкор с вазой, Николай с Марией и тётя Тася. А деверь Илья обиделся. Ага, обиделся на Валю. Откуда взялась Валя? Ага, свёкор пришёл не с вазой, а с Валей. А нужно было наоборот: прийти с вазой, а не с Валей. Вот деверь и обиделся. Чего же хочет Цвелодубова?
Мещанская чепуха. И на это уходили человеческие жизни. Он вспомнил свою однокомнатную квартиру…
Инспектор почему-то вспомнил свою однокомнатную квартиру, только что им лично отремонтированную: деревянные панели, притушенные светильники, белая тахта, хрустальный бар, хорошие книги, стереофоническая музыка… Теперь не стыдно и человеку зайти. У него бывал Рябинин, с которым они долго и сложно беседовали. Бывали инспектора уголовного розыска, много курившие во вред себе и квартире и обсуждавшие, как лучше взять Мишку-Кибера или как поставить на путь истинный Верку-Тынду. Приходили и женщины – иногда, редко…
Петельникова вдруг поразило странное желание, павшее на него ниоткуда и неожиданно, как дурь. Чепуха, мещанская чепуха с деверями и золовками… Этой чепухи ему и захотелось в своей квартире, похожей на гостиничный номер-люкс. Ну, без свёкров и золовок, без этой Вали-вазы и обидчивого деверя Ильи. А просто чепухи, нелогичности, мелочи, может даже лёгкой глупости…
Например, котёнка в передней, сидящего в тапке. Запаха с кухни, к которому он всегда принюхивался в квартире Рябинина. Весёлой телефонной болтовни ни о чём. Брошенных вещей – например, женского халата – на белую тахту. Прихода соседки за луком или за этой… сокоотжималкой. Голоса на кухне, смеха в комнате, разговора в передней…
Петельников усмехнулся, в третий раз принимаясь за жалобу гражданки Цвелодубовой.
В дверь постучали. Это сожитель, Семенихин. Он вошёл с неохотой и садился на стул долго, укрепляясь:
– Инспектор, у меня время не казённое.
– А у меня казённое.
На Семенихине был сносный костюм и вроде бы серая рубашка, но Петельникову казалось, что под пиджаком одна майка. Видимо, и бритвой он сегодня поработал, но щёки землисто темнели, как у людей, которые бреются от случая к случаю. Наверняка он сегодня не пил, но далёкий запах спиртов витал где-то рядом.
– Семенихин, что-то не верится, что у тебя своя машина…
– Из-за внешнего вида?
– Хотя бы.
– А я всё машине и отдаю. И деньги, и время.
– Ну, а детям? Трое ведь.
– Моих только двое.
– А чей же третий?
– Аист принёс.
– Какой аист?
– Петька, водопроводчик из жилконторы.
– Ну, это с женой разбирайся, а воспитывать обязан всех.
– Что ж… У меня к ним отношение матерное.
– Это к детям-то?
– Вроде как у матери, – объяснил Семенихин, оглядывая куртку, рубашку и галстук инспектора.
Петельникову хотелось спросить этого тусклого мужчину, для чего он завёл троих детей. От любви к ним, по требованию жены, для увеличения народонаселения, или они сами завелись? Но для интересных разговоров времени не было – инспектор ждал звонка Леденцова, идущего по городу своими оперативными путями.
– Семенихин, третьего сентября возил Дыкину?
– Говорит, довези последний раз до перекрёстка и прощай.
– Как прощай?
– Всё, любовь накрылась.
– Ну, и?..
– Довёз. С того дня не виделись.
– А почему именно с третьего?
– Еёная блажь.
Нет, не «еёная блажь». Третьего сентября она украла ребёнка, и этот потрёпанный Семенихин стал ей не нужен.
– Свидетель говорит, что ты её ждал?
– Постоял маленько. Вижу, она на той стороне улицы топчется, тоже вроде бы кого-то ждёт. Я и уехал.
Второй день пустопорожних разговоров. Нет, кое-что из этого разговора добыто: третьего сентября Дыкина была на перекрёстке и третьего сентября Дыкина прогнала любовника. Доказательства? Тонкие, как паутинка.
– А почему у неё нет детей?
– От кого ж?
– Ну, хотя бы от тебя.
– Так бы я и допустил. У меня своих хватает.
– Она хоть о детях говорила, думала, мечтала?
– Откуда мне знать, о чём она мечтала…
Инспектор обескураженно умолк. Ему захотелось вцепиться в шиворот Семенихина и трясти его до тех пор, пока не вытрясутся ёмкие слова о том человеке, которого этот автолюбитель знал три года. Да он, наверное, и жену-то свою не знает, и детей-то толком не помнит.
– С кем она дружит?
– Говорил уже, с Катюхой.
Катюху инспектор проверил. Наверняка у Дыкиной есть хорошая приятельница. Может быть, теперь весь розыск сводится к её отысканию, потому что там спрятан ребёнок. Но Семенихин ничего не знал.
– Инспектор, жена про Дыкину не узнает?
– Нет, но у меня есть совет.
– Какой?
– Семенихин, продай ты к чёрту свою машину, а? Купи себе галстук, своди детей в кино, вымой жене посуду, а?
– Не-е…
– Да ведь тебе и ездить некуда.
– «Жигуль» меня от напитков бережёт.
Телефон прервал инспекторские проекты. Он схватил трубку, не сомневаясь, что звонит Леденцов.
– Да-да…
– Это ноль два? – спросил тихий, но ясный женский голос.
– Не ноль два, но милиция, – нетерпеливо ответил инспектор, намереваясь положить трубку.
– А у меня батарея не греет, – сообщил голос с грустной надеждой.
– Вызовите мастера, – улыбнулся инспектор, надеясь, что она услышит его улыбку.
– Но вы же сказали звонить по ноль два…
– Я мог и пошутить…
– Вы могли… А дочка утром спросила, кто нам исправил свет и кран. Я сказала, что волшебник, которого звать Ноль Два.
– Странное имя для волшебника.
– А я дочке объяснила. У него два крупных уха, как ноли. Два глаза, как ноли. Две овальные щеки, как ноли. А когда он улыбается, то губы складываются в два нолика…
– Вылитый я.
– Дочка теперь только о нём и говорит. «Мама, позови волшебника из двух ноликов, пусть сделает батарею тёпленькой…»
Ненужная фигура Семенихина отстранилась, словно он отъехал на своём стуле к горизонту. То странное чувство, которое охватывало инспектора домашними вечерами, явилось вдруг с иным, тёплым привкусом неожиданной радости. Что ж, все его дурные мысли о луке, соковыжималке, тапочке и котёнке – к этому разговору? Он улыбнулся далёкому Семенихину, и далёкий Семенихин ответил всепонимающей ухмылкой.
– Как звать вашу дочку? – тихохонько спросил инспектор, точно мог её разбудить.
– Самое простое имя.
– Маша.
– Нет, Катя.
– Передайте Кате, что волшебник Ноль Два очень занят – он ловит злую ведьму, ворующую детей.
– А когда поймает?
– Тогда он придёт.
Из дневника следователя.
Детский мир настолько своеобразен и загадочен, что мы о нём только догадываемся. Ребята всё видят и слышат иначе, чем мы.
Иринка вдруг спрашивает:
– Пап, в филармонии лошади есть?
– Разумеется, нет.
– А зачем им ковбой?
– Да не нужен им ковбой.
– Не-ет, один нужен. По радио говорили…
На следующее утро я услышал объявление: в филармонии начинался конкурс в оркестр, в том числе требовался один гобой. Я Иринке, и объяснил. Но у неё уже готов новый вопрос, теперь из газеты, которую она держит, по-моему, вверх ногами.
– Пап, ослов куда принимают?
– Никуда не принимают, – лакирую я действительность.
– А тут написано: «Приём осла…»
Я смотрю газету, где, разумеется, напечатано: «Состоялся приём посла…»
Леденцов почти не таился. Казалось, что осенняя теплота сделала ненужными все оглядки и предосторожности. Он шёл, распахнув пиджак и насвистывая, и его рыжая голова пылала, как осенний клён. Но открытым шёл инспектор не из-за погоды – на общем совете решили Катунцева задержать и допросить, как только он подойдёт к дому подозреваемой. Выходило, что инспектор висел на его хвосте последний раз.
Катунцев – тот уж определённо из-за снизошедшего солнышка – двигался скоро, точно боялся, что оно передумает и закроется уместными сентябрьскими тучами. Его шаги, похожие на спортивную ходьбу, удивляли инспектора – куда мужик спешит? Ведь дом Валентины Дыкиной не уехал, стоит себе на крепком фундаменте. Нет, солнышко тут ни при чём.
Через два квартала инспектор понял, что маршрут сегодня иной – Катунцев шёл не к голубому жилмассиву. Тогда задуманная операция может измениться. И Леденцов стал увядать на глазах – застегнул пиджак, прекратил свист, сгорбился, юркнул в тень стен и натянул на голову беретик от плаща «болонья», словно погасил жёлтый фонарь.
Катунцев шёл прямо, рассекая тёплый воздух несгибаемой шляпой. Сказочный голубой массив остался в другой стороне. Высотное здание «Гидропроекта»… Сюда? Нет, миновал. Возможно, идёт себе мужик по делам, а инспектор тащится сзади хвостиком. Станция автообслуживания. Конечно, сюда. Машина, небось, сломалась. Но прошёл мимо, не притормозив. Ресторан «Садко»… Неужели сюда? Нет, свернул за угол и отмахал ещё два квартала шагом, которому позавидовал бы ломовой конь…
Но вдруг его ход замедлился. Катунцев оглядел улицу и остановился, будто у него иссяк завод. Здесь, сюда? Здесь – он привалился к оголённой берёзе и закурил медленно, теперь уже никуда не спеша.
Леденцов забегал, как высвеченная мышь, – тихая и голая улица, где ни спрятаться, ни притвориться. Если свернуть за выступающий угол дома, то ничего не увидишь, а воровато выглядывать не годится; если перейти на другую сторону, то тебя видно, как ту самую высвеченную мышь. Оставались автоматы с газированной водой, которые забытой парочкой прислонились к стене. Лишь бы работали.
Инспектор подошёл. Автоматы работали, и он облегчённо нащупал в кармане горсть мелочи. И сделал первую глупость, выпив стакан залпом, ещё не зная, сколько ему придётся тут стоять. Второй стакан пил уже мелкими глотками – смаковал, как вино из подвальной бутылки.
Катунцев темнел под берёзой, вжимаясь в неё широкой спиной. Он рассеянно курил. Ждал. Но кого?
Четвёртый стакан инспектор пил особенно долго. Хотя бы сиропы залили разные. Апельсиновый, сладкий, противный. Лучше чередовать – стакан с сиропом, стакан чистой. Пятый стакан он ещё одолел, но шестым начал захлёбываться, решив, что в его образовании есть пробел: в школе милиции учили криминалистике, праву, стрельбе, приёмам борьбы, но не научили влить в себя пару литров газированной воды с апельсиновым сиропом. С пивом было бы легче, с пивом было бы проще.
Когда автомат нафыркал седьмой стакан, инспектор услышал нудный голосок:
– Парень, ты не лопнешь?
Пожилая дворничиха мела берёзовые листья.
– А что – жалко?
– Тут один тоже воду пил, а потом вошёл в булочную перед закрытием и вопросик кассиру: «Закурить есть?»
Инспектор воспрял, надеясь на разговор, который заменил бы пытку водой.
– Мамаша, с похмелья я.
– И чего мужикам нравится в этой водке…
– Букет, мамаша.
– Говорят, сторож в каком-то музее весь спирт из-под уродов вылакал.
– Интересно, как же он его называл? Младенцóвочка?
Дворничиха ему ответила, но он уже не слышал. Катунцев отвалился от берёзы и сделал шаг вперёд. К нему подошла женщина в белом плаще. Дыкина, это Валентина Дыкина. Сейчас она увидит его, Леденцова, и побежит. Нужно что-то сделать – быстрое и точное…
– Тебя мутит, что ли? – дошёл голос дворничихи.
Инспектор посмотрел на неё, а когда вернулся взглядом под берёзу, то увидел в руках Дыкиной белый пакет. У Леденцова осталось несколько мгновений. Нужно сделать что-то быстрое и точное – потом ведь ничего не докажешь.
Он распрямился, сдёрнул с головы берет и, полыхнув огненной шевелюрой, сунул под нос отпрянувшей дворничихе удостоверение:
– Гражданка, прошу быть свидетелем.
Она не успела ответить, как инспектор с раскрытым удостоверением прыгнул к идущему парню:
– Гражданин, прошу быть понятым.
Под берёзой ничего не изменилось – только пакет теперь был у Катунцева…
– Уголовный розыск, – представился Леденцов и цепкими, коршунскими пальцами впился в пакет.
Растерянность так обессилила Катунцева, что пакета он не удержал. Леденцов раскрыл его, ёмкий незаклеенный конверт, и показал понятым. Там зеленела пачка пятидесятирублёвых купюр. Под скрещёнными взглядами инспектор заправски пересчитал двадцать бумажек:
– Тыща рублей. Гражданин Катунцев и гражданка Дыкина, вы задержаны.
На всю операцию не ушло и пяти минут – даже слова никто не проронил.
Из дневника следователя.
Иринку я считаю тишайшим ребёнком. Но после родительского собрания ко мне подошла учительница и сообщила, что зовут её Антониной Петровной, что преподаёт она математику и что она никогда не лазала в окно. Последние её слова меня смутили, но я лишь вежливо улыбнулся.
– Вам известно, что Ирочка пишет стихи? – перешла она, как мне показалось, на другую тему.
– Не знал, но приятно слышать.
– Я вам их прочту, – обидчиво предложила она. – «Дано: Антонина лезет в окно. Предположим, что все окна заложим. Доказать, как Антонина будет вылезать…»
После у меня с Иринкой был разговор о назначении поэзии. Уверяет, что сочинила не она, а пятиклассники, и стих общий, давно всем известный. Так сказать, фольклор.
Катунцев, пожилая женщина, Дыкина, какой-то паренёк и Леденцов заполнили кабинет, вытеснив из него почти весь воздух. И хотя Петельников об этом нашествии предупредил по телефону, Рябинин не успел внутренне собраться и встретил их вяло, как встречают нежданных гостей. Они молча толпились на свободном пространстве и почему-то громко дышали, словно за ними гнались до самой прокуратуры. Ничего важного для следствия Рябинин от них не ждал – так, какая-нибудь деталь, какой-нибудь нюанс, имеющий значение для дела косвенное, вроде ходьбы Катунцева к дому подозреваемой. Леденцов, уловивший его сомнение, звонко доложил от дверей:
– Сергей Георгиевич, гражданка Дыкина задержана при передаче денег гражданину Катунцеву, о чём есть свидетели.
Рябинина пронзила торопливая радость: нет, это не копеечная деталь. Теперь следствие окончено; эта взятка, как лопнувший нарыв, вывернет тайну дела – и следствие закончится.
– Свидетели, посидите, пожалуйста, в коридоре, – попросил Рябинин не своим, нетерпеливым голосом.
Они вышли. По велению его руки Дыкина и Катунцев сели к столу друг против друга, как для очной ставки. Леденцов остался стоять у двери, краснея головой, точно на неё пал случайный луч случайного осеннего солнца.
– Сколько? – спросил Рябинин разом у всех.
– Тысяча рублей, – ответил Леденцов, положил на стол белый пакет и вернулся к двери.
– За что? – опять спросил Рябинин у всех.
– Они знают, Сергей Георгиевич.
Рябинин на них и смотрел. Катунцев преломил своё широкое тело и разглядывал пол, лишь залысины мокро блестели, как подтаяли. Дыкина сидела, выставив вперёд алеющие скулы, и упиралась в следователя неотводимым взглядом.
– За что дали деньги? – спросил он Дыкину.
– А вы у него узнайте, – кивнула она на Катунцева.
– Впрочем, и так ясно, – отрезал Рябинин, пытаясь сбить этот неотводимый взгляд. – За то, чтобы он не настаивал на привлечении вас к уголовной ответственности.
Дыкина улыбнулась своей острозубой улыбкой:
– А я не давала.
– Давала-давала, – подал голос Леденцов.
– А ты видел? – она повернулась к инспектору, теперь вперив в него неотводимый взгляд.
– Мы трое видели.
– Что видели-то?
– Конверт у вас в руках.
– А откуда он у меня взялся, парень?
– Из сумочки, тётенька.
– Нет, не из сумочки, – сказала она уже следователю, повернушись к нему с такой силой, что на столе шелохнулись бумаги.
Рябинин спохватился, что всё делает неверно: надо же допросить каждого в отдельности, а затем провести очные ставки… Но его желание поскорее дойти до сути было так нетерпеливо, что он уже не мог да и не хотел остановиться. И, может быть, это компанейское следствие вывезет быстрее, чем сделанное по правилам.
– Гражданка Дыкина, вы отрицаете, что давали деньги гражданину Катунцеву? – официально спросил Рябинин.
– Да, отрицаю.
– Зачем же вы встречались?
– Он просил.
– А зачем взяли с собой деньги?
– Это не мои деньги.
– А чьи?
– Мои, – сказал вдруг Катунцев, распрямляясь.
– Ваши?! – не удержался от изумления Рябинин.
Катунцев стремительным жестом снял очки и глянул – нет, не на следователя, на которого должен был бы сейчас посмотреть, – а на Дыкину. Она ответила ему таким же неистовым взором, и эти их взгляды, брошенные друг на друга, не отводились, словно их замкнуло высокое и тайное напряжение, отчего Рябинин подумал, что встань он сейчас на пути этих скрещённых взглядов – просветили бы, прожгли.
– Почему ваши деньги оказались у Дыкиной?
– Я дал.
– За что?
– Чтобы она вернула моего ребёнка.
– Зачем же платить деньги, когда есть правовые органы?
– Пока вас дождёшься…
Все слова произнёс он, не отцепляясь взглядом от взгляда Дыкиной, – их так и держало то высокое и тайное напряжение. Рябинин мог требовать откровенных показаний, приличного поведения в кабинете; мог требовать честной жизни, трезвой работы и семейной порядочности… Но у него язык не поворачивался сказать взрослому дяде: «Смотрите на меня».
– А ведь сказали неправду… К дому Дыкиной вы ходите с самого начала следствия.
Теперь Катунцев глянул на следователя, но глянул немо, без припасённых слов. Рябинин бы их подождал…
Дверь распахнулась как-то играючи, от большой силы, чуть не утянув за собой Леденцова. Большая играющая сила была только у одного рябининского знакомого. Петельников вошёл в кабинет, в его середину, на что хватило одного широченного шага, и быстрым взглядом окинул Катунцева, и этот взгляд как бы повёл в коридор. Рябинин догадался:
– Гражданин Катунцев, посидите, пожалуйста, в коридоре.
За ним вышел и Леденцов, видимо задетый тем же выводящим взглядом.
Петельников сел на катунцевское место и воззрился на Дыкину, отчего её неотводимый взгляд отвелся-таки, выискивая что-нибудь более приятное и спокойное. Оно в кабинете оказалось – следователь.
– Сергей Георгиевич, я был на работе этой гражданки…
Рябинин и Дыкина смотрели друг на друга молча, и оба ждали слов инспектора.
– Там мне назвали её старую приятельницу Зинаиду Гущину…
В простоватом лице Дыкиной что-то сместилось: то ли щёки дрогнули, то ли нахмуренный лоб безвольно разгладился, то ли губы переспело обмякли.
– Кстати, эта Гущина работает машинисткой. Так что если писать анонимку на столе, где она печатала…
Дыкина бледнела и не спускала глаз с Рябинина, словно ждала от него помощи.
– Гущина живёт на проспекте Академиков, дом семьдесят три, квартира десять…
Дыкина, побелевшая и бескровная, не двигала ни единым мускулом – не моргала и, кажется, не дышала.
– Полагаю, ребёнок там, Сергей Георгиевич.
Даже инспектор со своей боксёрской реакцией не успел…
Дыкина взвилась над столом, как смерч, – лишь звонко щёлкнул по полу упавший стул. Рябинин бессознательно прикрыл очки. И понял, что в тот миг, на который он заслонился, произошло что-то странное, никогда не бывавшее в этом кабинете. Он сбросил ладони со стёкол очков и глянул ошарашенно…
Дыкиной в кабинете не было – у края стола, вровень с ним, одиноко висела лишь её голова. От растерянности Рябинина прошили два глупых вопроса – где же тело и почему не шелохнётся инспектор? Рябинин вскочил, ничего не понимая. И тогда увидел, что там, за столом, Дыкина стоит перед ним на коленях…
Он почему-то сразу вспотел. Чем только его не испытывали? Взятками, услугами, подходами, угрозами… Но вот впервые пытают жалостью. Да нет, к его состраданию обращались не раз, – теперь испытывают на честолюбие. Стоит, как перед владыкой. А ведь от такой власти у молодого следователя может закружиться голова.
– Немедленно встаньте, – тихо приказал Рябинин.
Но что она делает? Пытается неумело поймать его руку и поднести к губам. Поцеловать его руку. Да она с ума сошла…
– Встаньте же…
– Не забирайте ребёнка!
Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью…
…Есть унижение, которое возвышает.
Инспектор схватил Дыкину под локти, поднял, как картонную, и усадил на стул. Теперь её лицо горело сухим огнём – ни единой слезинки ни в глазах, ни на щеках.
– Ради бога, оставьте мне ребёнка, – простонала она.
– Да вы слышите ли, что говорите? – чуть не вскрикнул Рябинин.
– Что я говорю?
– Просите отдать вам чужого ребёнка?
– Это мой ребёнок.
– Как это ваш? У него есть отец и мать…
Она откинулась на стул и выдохнула, пылая сухим жаром:
– Я – мать!
– Как это вы?
– Я родила её! Это моя родная девочка…
Из дневника следователя.
Не знаю, кем станет моя Иринка. Не знаю, сколько она будет зарабатывать и проживёт ли в достатке. Не знаю, сделается ли красавицей или дурнушкой. Не знаю, какого найдёт мужа и найдёт ли. Даже не знаю, будет ли умной, способной, волевой, образованной… Но я точно знаю, что она вырастет душевным, а значит, и хорошим человеком.
Ходила с подружками в больницу проведать девочку и видела там много больных и несчастных. Вернулась домой тихая, сосредоточенная, задетая бедами других. Подошла ко мне и молча поцеловала, чего раньше без причины не делала.
Шли мы с ней по улице и увидели грузовик с поросятами. Она, конечно, спросила, куда их везут, а я, конечно, сдуру брякнул, что на мясокомбинат. Иринка третий день не ест мяса.
Рябинин был готов к признанию, но не к такому. Он растерянно подался к инспектору, который ответил пожатием своих широких плеч. Да она выдумала всё, обезумев от дикого желания присвоить чужого ребёнка… Нужно провести психиатрическую экспертизу – вменяема ли?
– А вы спросите у него! – зло предложила Дыкина.
Рябинин пробежался по кабинету, он научился, он умел – два шага до двери и два шага обратно. Нужно спросить, теперь же, не составляя никаких протоколов, пока воздух накалён странной и нервной энергией, как электричеством перед грозой. Нужно спросить. Рябинин вновь оказался у двери, выглянул в коридор и позвал Катунцева.
Он вошёл тяжело и набычившись, как борец на ковёр. Его тёмный взгляд окинул кабинетик, оценивая, что тут произошло за то время, пока он сидел в коридоре. Ненужные очки, которые он держал за дужки, дрожали мелко, по-осеннему, словно его правая рука нестерпимо мёрзла.
– Чей ребёнок? – спросил Рябинин, не предлагая ему сесть и не садясь сам.
– Мой, – сразу ответил Катунцев, не удивившись этому дурацкому вопросу.
– Чей ребёнок? – Рябинин стремительно повернулся к Дыкиной.
– Мой, чей же ещё?!
– А, Катунцев?
– Ребёнок мой, – отрубил он, не глядя на Дыкину.
– Кто же из вас говорит правду?
– Оба, – сказал вдруг инспектор.
– Оба?! – Рябинину показалось, что он ослышался.
Но Катунцеву и Дыкиной, видимо, так не показалось – он не взорвался, она не вскрикнула. Молчал и Петельников, чего-то выжидая. Рябинин остро глянул на него – что?
– Это их общий ребёнок, – объяснил инспектор.
Но Рябинин не отвёл взгляда: как узнал, где и давно ли? Впрочем, инспектор мог догадаться тут, сейчас, – он человек быстрого ума, не чета ему, тугодуму. Это их общий ребёнок… Тогда всё становится на свои места. Всё ли?
И потерялся, следя за убегающей мыслью…
…Источник квалификации следователя лежит не в знании криминалистики и права, а в знании людей и жизни.
Пролетела хорошая мысль, и он напряг мозг, чтобы её запомнить, – слишком много их, хороших и простеньких, которые неизвестно где берутся и неизвестно куда убегают.
– Дыкина, подождите в коридоре, – бросил Рябинин.
Она вышла напряжённо, какими-то резиновыми шагами, готовыми к прыжку – сюда, в кабинет, где ничего не договорено и не решено. Инспектор исчез вслед за ней, потому что оставлять сейчас Дыкину одну было нельзя.
Рябинин приготовил бланк протокола допроса. Он почему-то сразу устал, словно ворочал брёвна. От своего ли долгого непонимания, от психической ли слепоты… Или от наступившей в деле ясности?
– Рассказывайте, – велел Рябинин.
Катунцев нервно огляделся, будто чёрная сила невидимо потянула его в омут и ему была нужна протянутая рука – любая. Но в кабинете никого больше не было, а следователь не отозвался. Тогда Катунцев опустил взгляд на стол, на пакет с деньгами, и в его глазах, в его лице, следом за просьбой о помощи, далёким сполохом прошла злоба. Это у потерпевшего-то. И Рябинин понял, что Катунцев жалеет о своём обращении в следственные органы – ему проще было бы договориться с Дыкиной.
– Товарищ следователь, жизнь есть жизнь.
Рябинин кивнул, поборов усмешку. Жизнь есть жизнь. Популярная фраза, которая вроде бы всё объясняла, ничего не объяснив. Коротко, мудро и загадочно. Но он-то знал, что за этим афоризмом следует какая-нибудь пошлость или банальщина.
– С Валентиной Дыкиной состоял я в связи. В прошлом. И как плачевный результат появился ребёнок…
– Вы Дыкину любили? – спросил Рябинин, удивившись, почему не спросил про жену; видимо, из-за его слов «плачевный результат».
Катунцев сумрачно и непонимающе смотрел на следователя, словно тот спросил его о чём-то непотребном.
– Ах, да: жизнь есть жизнь, – усмехнулся Рябинин, зная, что этой усмешкой может спугнуть признание Катунцева.
– Моя супруга оказалась бездетной. Это с одной стороны. С другой стороны, Валентина учиняла скандал за скандалом. Мол, или женись на мне, или бери ребёнка. И я выбрал последнее. Жена так хотела ребёнка, что намеревалась взять в детдоме. А тут свой. Сочинил я легенду. Мол, у одной старушки есть девица, которая хочет тайно родить, отдать ребёнка и остаться в неизвестности. Жена согласилась. Так вот мой собственный ребёнок оказался у меня.
– А как оформили юридически?
– В сельской местности. Сослались на утерю справок.
– Жена до сих пор не знает?
– Нет.
– А Дыкина просила ребёнка вернуть?
– Нет. Но когда он пропал, я сразу подумал на Валентину.
– Почему?
– У неё инстинкт проснулся.
– А у вас… проснулся?
Катунцев опять глянул непонятливо.
– Извините, жизнь есть жизнь, – спохватился Рябинин.
– А я живу не инстинктами, – всё-таки ответил Катунцев.
Рябинин ещё раз спохватился, но теперь не нарочито – он спрашивал о любви к Дыкиной, не спросил о любви к жене… Любовь к женщинам, а ведь уголовное дело не об этом. И не узнал главного. Не спросил, опустился бы Катунцев на колени ради своего ребёнка, как стояла тут Дыкина…
– А дочку вы любите?
Катунцев помолчал и посмотрел на следователя открыто, с чуть притушенным вызовом:
– Почему вы копаетесь в личных отношениях, а не следствие ведёте?
– Тут всё следствие и заключается в том, чтобы разобраться в личных отношениях.
– Ну и долго будете разбираться?
– Если бы вы сразу сказали правду, то хватило бы дня.
Катунцев не ответил, усмехнувшись тяжело и неохотно.
– Мне кажется, что вы не доверяете следственным органам.
– Не следственным органам, а вам.
– Мне? – бессмысленно переспросил Рябинин как бы у самого себя.
Ему опять не ответили – он же спросил у самого себя, он же задал не тот вопрос. Нужно было спросить: «Почему?» Неужели только потому, что потерпевший уловил его неприязнь? И потерпевший будет прав, ибо свои симпатии-антипатии следователь обязан скрывать, как тайный порок. Бесстрастность – признак высокого профессионализма.
И потерялся, следя за убегающей мыслью…
…Бесстрастность – признак недоброй души.
– Почему? – спросил Рябинин как бы подталкивая убегающую мысль, чтобы она скорее убежала.
– Вы слишком добрый человек.
– С чего вы взяли?
– Уж вижу.
– А это… плохо?
– Я бы не хотел, чтобы меня допрашивал добрый следователь.
– А какой же – свирепый?.
– Да, свирепый. Ему дело иметь с преступниками, а не с барышнями. Вы, к примеру, можете эту Дыкину и пожалеть.
И Катунцев испытующе и колко глянул на следователя. Рябинин хотел ответить лишь откровенным взглядом, но не удержался и от прямых слов:
– Вы не любите свою дочку.
– Откуда вам это известно?
– Я помню первый разговор в этом кабинете.
– Но её безумно любит моя жена.
Рябинин писал, испытывая нарастающую обиду, словно его оскорбили. Но его и оскорбили, назвав добрым. Иначе у него не вырвался бы этот дикий вопрос: «С чего вы взяли?» Мол, с чего выдумали такую глупость… Да нет, его не оскорбили, а намекнули на какую-то неполноценность. Но в этом кабинете кем только его не называли: дураком, службистом, ищейкой… И он только улыбался, потому что знал, что не дурак, не службист и не ищейка. Почему же теперь испортилось настроение? Или Катунцев попал? А быть добрым – стыдно? Ну да, быть добрым – это быть тихим, непробивным, непрестижным, второсортным…
– Подпишите протокол.
– Как вы поступите с Дыкиной? – тревожно спросил Катунцев.
– Сперва с ней поговорю.
И потерялся, следя за убегающей мыслью…
…Следователем может работать только добрый человек.
Из дневника следователя.
Иринка пришла из школы заплаканная, какая-то замурзанная. Мы с Лидой всполошились:
– Что такое? Двойка?
– Нет, Мария Кирилловна про озёра рассказывала. Про Байкал, про Селигер…
– Ну и что? – громко удивился я.
– Да-а, и про Ладожское озеро.
– Ну и что? – понизил я голос.
– Да-а, и про «Дорогу жизни».
– Так что? – уже тихо спросил я.
– Да-а. Она стала плакать.
– Ну, а ты почему в слезах?
– Да-а, и я заплакала.
Входя в свой кабинет, Рябинин частенько оглядывал грязно-малиновую дверь и думал, что же чувствуют ждущие тут вызова к следователю. И когда Дыкина появилась из-за грязно-малиновой двери, он увидел, что она там чувствовала…
Ни неотводимого взгляда, ни зубастой улыбки… Сильное тело утратило свою стать, и казалось, что ему хочется опереться на костыль. Скуластое лицо, говорившее о недавних сельских просторах, серело, как городской туман. Да и белый плащ, кажется, посерел от этого лица.
– Рассказывайте всё, – попросил он без всякого нажима, не сомневаясь, что теперь она расскажет всё.
Дыкина вздохнула. Рябинин знал, что эти вздохи ей сейчас нужны, как ему бумага для протокола. Поэтому он не торопил её, начав бессмысленно листать настольный календарь.
– Чего ж тут рассказывать… Всё так просто.
Да, всё просто. Он за это и детективы не очень любил – за простой конец той истории, которая так сложно начиналась.
– Когда я сошлась с Катунцевым, то он мне гляделся богатым и душой, и телом.
– Как это телом?
– Статный, кость широкая, плечи мужицкие… И начальник, что мне тоже елей на душу.
Рябинин хотел спросить её о любви, но вспомнил совет Катунцева – не в жизнь лезть, а вести следствие.
– С женой, говорил, разойдётся, как в море корабли. Ну, я и надеялась. Только вижу, в голове у него другое. Хаханьки, вроде как отдых от семьи. Я-то непьюшка, а он как в комнату ступил, так бутылка на стол. Чувствую ребёнка под сердцем, думаю, скрепит. Катунцев всё обещаниями кормил, а сам продолжает коварный образ жизни. Тут и ребёнок подоспел. Надеялась на вмешательство судьбы. Рожала-то не в роддоме. Нет, родила живорождённого. И что делать? Отца у него нет. Комнатка у меня, считай, метр на метр, вроде тёщиной. Ну, и решилась ребёночка ему отдать, в его материальные условия. Ребёнок-то не виноват.








