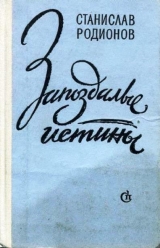
Текст книги "Тихие сны"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Станислав Родионов
Тихие сны
Рябинин удивился своей усталости – не было ни томительных допросов, ни крикливых очных ставок, ни изнуряющего выезда на происшествие… Весь день тихохонько читал многотомное дело. Неужели сорок лет – возраст? Ему казалось, что теперь он утомится, просиди рабочий день у пустого стола. Но ведь прочёл два тома – с размышлениями, с выписками, с прищуренным вниканием в непонятные почерки…
Он вскочил, прижав пальцами дужки прыгнувших очков. Вспомнил – Иринка просила купить фломастеры. Рисовать рожи, которые выходили такими страшными, что она сама притихала от удивления. До каких часов магазины: до семи, до восьми?
Рябинин торопливо спрятал тома в сейф и схватил портфель, в котором ничего не было, кроме свежих газет да его дневника. Он уже потянулся за плащом, когда телефонный звонок остановил вскинутую руку. Какое-то малое время Рябинин так и стоял с поднятой рукой и ждал: показалось? Перестанут звонить? Ошиблись номером? Но телефон упорно трещал, словно видел, что хозяин кабинета стоит у своего плаща. Можно не подходить. Некоторые следователи так и делали: рабочий день кончился, никого нет. Аппарат не видит…
Рябинин опустил руки, подошёл к столу и взял трубку:
– Да?
– Сергей Георгиевич, хорошо, что не ушли.
– Стою одетый.
– Это пригодится, – пошутил прокурор чуть виноватым голосом, который обдал Рябинина нехорошим предчувствием. – Вам придётся выехать на место происшествия.
– Юрий Артемьевич, семь часов, уже заступил дежурный по городу…
– Всё так, но происшествие в нашем районе, попадёт дело к нам, вернее, к вам. А случай редкий.
– Убийство?
– Нет, кража ребёнка.
– О-о… Я таких дел и не расследовал.
– Вот и попробуйте. Машина сейчас будет, – окреп голосом прокурор.
Рябинин вяло опустил трубку…
Нет, одно дело он расследовал. Мамаша заскочила в магазин, а когда вернулась, то грудного младенца не было. Коляску с ним нашли за два квартала от магазина. Девочки-первоклассницы решили покатать малыша. На розыск и расследование ушло что-то около часа.
Он положил в портфель дежурную папку и подсел к столу…
Мир отодвинулся. Пропала усталость. Отлегли от сердца все заботы. Выветрились из головы два прочитанных тома. И даже семья отошла куда-то далеко, за туманную черту. Даже Иринка с фломастерами… Пришли беспокойство и нервная напряжённость, которые всё и вытеснили.
Рябинин спрашивал других следователей. Волновались многие, объясняя это тем, что на месте происшествия легко упустить важную деталь. Какой-нибудь окурок, какую-нибудь пылинку… Если бы только из-за этого. А расследуя дело, разве нельзя упустить деталь? Да какую там деталь… Ошибиться можно так, что потом век не забудешь. Но ведь не деревенеешь на допросах, нет ломкой сухости во рту на очных ставках, не тянет гастритная боль на опознаниях… Видимо, дело в другом. На месте происшествия следователь работает на виду, под десятком изучающих его глаз. Как артист, А человеческие взгляды – давят.
Машина зафыркала под самым окном. Рябинин вздохнул и опять потянулся за плащом…
Ехал он с сиреной, поэтому ожидал увидеть толпу. Но у дома и на лестничной площадке никого не было. Ни любопытных, ни работников милиции. Он позвонил. Дверь распахнул инспектор Петельников. Оказавшись в передней, Рябинин бросил скорый взгляд в комнату. И там никого, кроме расстроенного мужчины и заплаканной женщины. Видимо, потерпевшие. Ни понятых, ни экспертов, ни инспекторов…
– Где же все? – тихо спросил Рябинин.
– А тут никто и не нужен.
– Расскажи, в чём дело…
– Украли девочку пяти лет, она играла во дворе. Родители никого не подозревают. Свидетелей нет. Вот и всё.
Вот и всё. Даже нет места происшествия: ни следов, ни отпечатков, ни взломанных дверей.
– Когда это случилось?
– Примерно в двенадцать дня.
– Может быть, просто заблудилась?
– Проверены все отделения милиции.
– Вадим, а никого на примете не держишь?
– Мои примеченные думают, как бы от своих детей избавиться.
Рябинин снял плащ и вошёл в комнату. Родители посмотрели на него одновременно и вроде бы одним общим взглядом, хотя глаза отца темнели иконно, а глаза матери вряд ли что видели от слёз. И всё-таки их взгляды слились в немом вопросе: не принёс ли этот новый человек спасение от беды?
– Я следователь прокуратуры Рябинин, буду заниматься вашим делом.
Отец не ответил. Мать вроде бы кивнула. Но их общий взгляд распался – теперь они сидели каждый по себе.
– Мне нужно вас допросить.
– Господи, какой ещё допрос… – не сказала, а кому-то пожаловалась она, как жалуются богу.
– Мы всё сообщили, – отрезал муж.
– Но закон обязывает, – мягко возразил Рябинин.
– Я не могу говорить, – всхлипнула она.
– Допроси их завтра, – посоветовал инспектор. – Приметы уже разосланы, фотография на размножении…
– Попрошу завтра к десяти в прокуратуру, – чуть официальнее сказал Рябинин.
С потерпевшими – как с малыми детьми…
Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью…
…Юристы, да и он тоже, считают себя в первых рядах борцов с преступностью. Судья, дающий наказание. Нет, ближе к преступнику следователь, который допрашивает, – через стол. А ещё ближе? Тогда инспектор уголовного розыска – он ловит, дыхание в дыхание. Ближе некуда. Оказывается, есть – потерпевший. Он принимает первый удар, он в первых рядах борьбы с преступностью…
– Напрасно вы так убиваетесь, – бодро сказал Рябинин.
Они даже не ответили – только жена посмотрела на него внимательно: кто это? Следователь? Что это? Профессиональная задубелость?
– Во-первых, дети пропадают частенько, – начал врать он тем же бодрым тоном.
– Что-то не читал, – буркнул муж.
– Об этом не пишут. Во-вторых, почему вы думаете, что её именно украли? Да я вот только в этом году разобрался в пяти подобных случаях.
И он стал их придумывать один за другим, напрягая свою тощую фантазию, которой на последний случай и не хватило бы, не помоги инспектор – он рассказал о девочке, пропавшей на день из детского сада. Рябинин видел, как внимание, этот признак жизни, осветил лицо матери. Но муж сидел каменно, дико разъедая чёрным взглядом мебель в комнате.
– А если какие-нибудь… изуверы или насильники? – тихо предположила она.
– Вряд ли. В нашем районе лет десять этого не было, – быстро ответил инспектор.
– Ну, а если девочка украдена, то украдена женщиной, – заключил Рябинин почти радостно.
– Мужчины детей не воруют, не водка, – успел вставить Петельников.
– Нам от этого не легче, – сразу вскипел муж.
– Легче, – отрезал Рябинин, ибо его уверенность должна передаваться им. – Во-первых, девочка в заботливых руках. Не любящий детей ребёнка не украдёт. Во-вторых, мы её скоро найдём. Ребёнок не бриллиант, не спрячешь.
– А если её увезут в другой город? – спросила мать.
– Вокзалы уже перекрыты, – ответил инспектор.
– Завтра вас жду. До свидания, – попрощался Рябинин: ему показалось, что родителей он немного успокоил…
Они отпустили машину, побрели пешком.
Сентябрьский вечер обдал их уставшим за день ветерком. Как узнаётся осень в городе? Вот в такую теплынь? По ранней темноте. По долго не высыхающей лужице. По холодной струе воздуха, которая, взявшись неизвестно откуда, может полоснуть лицо. По запаху прелых листьев и трав, невесть как долетевшему из далёких лесов. По плащу на Рябинине, взятому на всякий случай.
– Как живёшь, Вадим? – спросил Рябинин, стараясь взглядом дотянуться до лица инспектора.
– Ещё не женился.
– Чего ж так? – усмехнулся Рябинин, зная, что вопросами о женитьбе Петельникова донимали.
– Не берут.
Каждая вторая встречная девушка примечала инспектора, выделяя его взглядом среди ровного потока лиц. И вроде бы каждая третья ему улыбалась. И каждая четвёртая готова была остановиться. Но одна нестарая женщина глянула и на Рябинина, а в следующий, послевзглядный миг он её узнал – год назад привлекалась как мошенница.
– В тебе ещё не проснулся инстинкт отцовства. – У Рябинина не выходила из головы покинутая квартира.
– Ты сказал о нём с каким-то благоговением…
– Благороднейший инстинкт.
– А ты не видишь тут некоторой несуразицы?
– В материнском и отцовском инстинкте? – удивился Рябинин.
– Слово «инстинкт» всегда стояло со словом «низменный».
– Это не о материнском.
– Мы говорим, что материнство священно. А это всего-навсего – инстинкт.
– Ну и что?
– Я как-то привык ценить интеллект, а не инстинкты. Тогда ведь и другие инстинкты священны, а? Секс, голод, сохранение жизни… Какие там ещё?
– Вадим, инстинкт материнства я тоже священным не считаю. Но на этом инстинкте держится материнская любовь – она вот священна.
– Чего ж она на интеллекте не держится? – уже вскользь бросил инспектор, остывая к разговору.
– Тебе не понравились эти родители? – спросил вдруг Рябинин.
– Да нет. Вчера я из детского садика одного папашу чуть было не отправил в вытрезвитель.
– Так про детский садик ты не выдумал?
– Даже выезжал. Девочки день не было. Говорит, ходила с тётей. Видимо, ушла и заблудилась.
Они стояли на перекрёстке.
– Ты теперь куда? – спросил Рябинин.
– Работать по этому делу, в райотдел.
– Если что будет, то вызывай в любое время.
Осторожно, соизмеряя силу, инспектор пожал его руку. Но сейчас бы Рябинин на боль внимания не обратил, потому что не выходила из головы комната, где мать и отец молча просидят воспалённую ночь. И ещё не вышел из головы их прерванный разговор.
– Не понимаю этой преступницы, – сказал инспектор уже на отходе.
– Вероятно, бездетная.
– Взяла бы сиротку…
– А как зовут девочку?
– Иринка.
Совпадение, модное имя. Ничего не значащее совпадение.
И всё-таки его желудок сдавило медленной и тихой болью. Да нет, перешло и на сердце.
Из дневника следователя.
Меня поражает языковая свобода Иринки. Если у неё нет мысли, то уж нет. Но если мысль появилась – главным образом, в форме вопроса, – то она её выразит легко и просто, ибо для неё мысль важнее, чем все правила языка.
Переместительный закон она зовёт перемесительным, земледелие – землеплодием, зубило – дубилом, жнейку – жнеёлкой, косилку – косеёлкой… Вместо «членораздельно» говорит «членоразумно», «плотоядные» у неё «плодоядные», «наглядные пособия» стали «ненаглядными»… Урюк она зовёт урдюком, памятуя, что там, откуда родом урюк, есть ещё и курдюк.
Вчера она спросила:
– Пап, а зачем человеку надпочник?
– Не надпочник, а надпочечник.
Она призадумалась: точное слово надпочник вон, оказывается, какое…
– Зачем этот надпечечник?
– Не надпечечник, а надпочечник.
– Ну, надпупочник…
– Да не так!
– А как? Надпопочник?
О преступлениях он рассказывал только жене. Даже о самых кошмарных. Но о краже девочки, да ещё тоже Иринки, Рябинин умолчал. И теперь у себя в кабинете думал – почему? Боязнь рока? Или не хотел расстраивать Лиду, которая приняла бы это к сердцу и весь вечер промолчала бы, словно к чему-то прислушиваясь?
Рябинин ничего не делал – сидел у пустого стола. Нет, на столе лежали две бумаги: постановление о возбуждении уголовного дела и чистый бланк протокола допроса. Нет, делал – ждал Катунцевых, родителей похищенной девочки.
Первым пришёл отец. Он устало сел и устало – устал за ночь – сказал:
– Жена будет попозже.
Теперь, при дневном свете, Рябинин его рассмотрел…
Среднего роста, слегка огрузневший сорокалетний мужчина. Лицо тяжёлое, может быть, за счёт широкого подбородка и крупных губ. Лысеющая голова острижена коротко, по-спортивному. Очки, но вроде бы не обязательные, лишние на крепком лице – не то что у Рябинина, для которого очки были живым, неотъемлемым органом вроде уха или руки.
– Никаких сведений? – спросил он, оживая губами.
– Только одно: ни в моргах, ни в больницах вашей дочери нет, – выдавил из себя Рябинин, стараясь хоть как-то его утешить.
– Да украли её, украли.
– Почему вы так в этом уверены?
– Ну, а где она? Девочка хорошенькая…
– Как это случилось?
– Я был на работе. Со слов жены… Она с дочкой пришла из булочной и оставила её во дворе, в песочнице. Поднялась в квартиру буквально на десять минут – хлеб положила. А вышла… Ирки нет. Жена квартал обегала. Никто не видел и не слышал. Разве пятилетний ребёнок сможет далеко уйти за десять минут?
Катунцев то снимал очки, то надевал. Сколько в них? Что-нибудь минус полтора, минус два. Но теперь Рябинин видел его глаза: большие, тёмные, упорно и как-то отчаянно глядящие на следователя.
– Вы кого-нибудь подозреваете?
– Разумеется, нет.
– А есть у вас враги?
– Разумеется, есть.
– С похищением их никак не связываете?
– Я работаю ведущим инженером… Неужели вы думаете, что если я забраковал деталь рабочему Иванову или завернул чертёж инженеру Петрову, то они утащат моего ребёнка?
Рябинин не ответил, что он думает. Этим людям, людям науки и техники, казалось, что мир человеческих отношений так же упорядочен, как мир математики и механизмов. Они не ведали, что броуновское движение судеб, характеров и натур рождает обилие тех явлений, к которым, казалось бы, большие числа неприменимы из-за их неповторимости. Он должен был проверить любое количество логических версий и оставить место, возможно и не последнее, для нелогичной, именуемой случаем.
– Родственники у вас есть?
– У жены, но они ребёнком не интересуются.
– Есть ли у вас друзья?
– Близкий один, с которым дружим столами.
– Как дружите?
– То есть домами. Мы так шутим, потому что встречаемся только по праздникам за столом.
– Значит, версию, как говорится в пословице, «невестке в отместку» вы отметаете?
– Абсолютно.
Катунцев в очередной раз снял очки и мелко забарабанил дужками по столу. Этот разговор его раздражал своей ненужностью. Вместо того чтобы искать преступника, следователь задавал бессмысленные вопросы. Но потерпевший не знал, что в эту ночь инспектор Петельников не смыкал глаз.
– Во что была одета девочка?
– В красное платьице.
– Ещё что?
– Ну, это скажет жена.
– Есть ли у неё какие-нибудь приметы: родинки, отметинки, физические недостатки?..
– Не замечал.
– Какая у неё речь?
– Обыкновенная, детская.
– Что она любит?
– Что все дети любят, то и она.
– Со взрослыми контактна?
– Не знаю.
– Она любознательна?
– Не замечал. А к чему всё это?
– Чтобы её узнать, потому что девочку наверняка переоденут.
– У вас есть фотография.
– Я полагал, что отец скажет о дочери больше, чем фотография.
Так нельзя. Этот упрёк сейчас подобен издевательству. Отец может справедливо взорваться: вы ищите, а не учите! С потерпевшим как с ребёнком…
Но Катунцев надел очки и устало объяснил:
– Работаю много. Да ещё машина…
– Какая машина?
– «Волга» у меня. Тоже время берёт.
Рябинин умолк, обессилев от сравнения несравнимого. Образ этого ведущего инженера сразу лёг к себе подобным, в свою давно готовую и полнёхонькую ячейку. У него работа, работа, работа… А вечером под машиной в гараже. А в субботу болеть за хоккей или футбол. А в воскресенье рыбачить… Рябинин никогда не знал, о чём говорить с такими людьми. Они прекрасно понимали машины и плохо разбирались в человеческих отношениях; Рябинин разбирался в человеческих отношениях и ничего не понимал в машинах.
Рябинин потерялся, следя за подступающей мыслью, которая близко так и не подступила, как непринятый поезд, встав где-то в тупиках сознания… Она, эта мысль, шла от виктимологии – науки, утверждающей, что некоторые преступления совершаются только в отношении определённых людей. Тогда естественно, что у такого отца украли ребёнка. Но так думать об убитом горем человеке – кощунство. Да и полно отцов хуже этого ведущего инженера.
– Если не найдёте ребёнка, то жена с горя умрёт, – тихо сказал Катунцев, обмякая лицом, отчего крупные губы стали ещё крупнее, а взгляд открылся Рябинину простым, беззлобным страданием.
– Почему думаете, что не найдём?
– А-а… Есть известные прокуроры. Кони, например. Есть известные адвокаты, Плевако… Полно известных юристов. А вот известного следователя я не знаю.
– А Шерлок Холмс? – пошутил Рябинин.
Катунцев на шутку не отозвался. Да и кто шутит с убитым горем…
Из дневника следователя.
Иринкины вопросы неожиданны и разнообразны. Где она только их выкапывает? Мне кажется, она забила бы всех эрудитов мира, будь такая встреча. Пока я бреюсь, а она запихивает в портфель непонятное сооружение с головой и колесом, называемое «самоходный Миша», между нами вспыхивает одноприсестный разговор:
– Пап, медведь в берлогу залез?
Сентябрь, наверное ещё бродит.
– Рановато ему.
– Пап, уксус горит?
Водка, знаю, горит, а кислоты вроде бы нет.
– Вряд ли.
– Пап, а ты суп из корешков жень-шеня ел?
Корень этот целебный, да ведь кто знает, может быть и едят. Делают же салаты из примулы.
– Его не варят, а делают лекарство.
– Пап, обезьяны теперь в людей происходят?
Тут уж я знаю наверняка, а мою мысль о том, что случается наоборот и некоторые люди происходят в обезьян, можно оставить и при себе.
– Не происходят, на это нужны миллионы лет.
– Нет, происходят.
– А ты о Дарвине знаешь? – решился и я на вопрос.
– Вот о нём-то, папа, я с тобой и говорю.
– Что ты о нём говоришь?
– Дарвин – это человек, который произошёл от обезьяны.
На рассвете Петельников поехал в бассейн. Душ и зелёная хлорированная вода смыли бессонную ночь и вроде бы просветлили голову. Мокрый вернулся он в райотдел, взял в канцелярии подоспевшие бумаги и сел за стол у себя в кабинете тяжело, словно на плечах лежала штанга. Ночь всё-таки давила.
Из сводок, рапортов, отношений и писем инспектор почему-то сразу извлёк конверт с приколотой секретарём лаконичной бумажкой: «Анонимка». Он вытащил лист простой белой бумаги и прочёл текст, написанный синей пастой…
«Товарищи милиция! Девочку, которую вы ищете, видели с цыганкой или молдаванкой на вокзале».
Почерк крупный, неровный, изменённый. Кто её написал? Человек, который хочет помочь следствию, но не хочет быть свидетелем. Но тогда зачем менять почерк? Чтобы навести на неверный след? Мол, не ищите, девочки в городе нет. Цыганка, молдаванка…
Память, взбодрённая купанием, вроде бы включалась в работу. Анонимка была со смыслом – в том микрорайоне, где украли девочку, жили цыгане, занимали целый дом. Тогда нужно идти к тёте Рае, тогда к ней…
Петельников отбросил на висок чёрное крыло упавших мокрых волос. Штанга, лежавшая на плечах, легко скатилась на пол – сна как не бывало. Инспектор распахнул шкаф, где имелось всё необходимое для нового рабочего дня: бритва, свежая рубашка, кофеварка, чёрный хлеб и пилёный сахар. Он брился, всматриваясь в натянутую, загорелую за лето кожу: в крепкие, каменно сомкнутые губы; в чуть искривлённый нос, пострадавший от боксёрских перчаток; в тёмные глаза и чёрные несохнущие волосы. Нет, лицо не ожирело, да на такой работе и не ожиреет. И не худое, когда скулы кожу продирают, – сухощавое лицо.
Он надел синюю рубашку, тёмный галстук и пиджак чёрной кожи. И ещё раз посмотрел в нишу, где стояло зеркало, – вылитый мафиози. Только чёрных перчаток и усиков не хватает.
Там же, под нишей, стоял и окоченевший кофейник, который на секунду задержал его взгляд. Но где-то за стенами уже пропищало девять. Инспектор бросил в рот два кусочка сахара и захлопнул шкаф…
Квартира тёти Раи встретила его тихой дверью, обитой плотным синтетическим материалом. Инспектор позвонил. Тишина не ответила. Он ещё раз позвонил, и тогда дверь открылась сразу, будто человек стоял за нею и ждал повторного звонка.
Инспектор увидел, что в передней бушует огонь – красная кофта цыганки горела, как закатное солнце, и казалось, что в этом жаре сейчас оплавятся её золотые неподъёмные серьги.
– Заходи, сокол, – сказала она вязким, почти мужским голосом.
– Здравствуй, Раиса Михайловна.
– В гости или по делам?
– И так, и этак.
Они прошли в комнату, устланную коврами. Инспектор сел на край дивана. На что села хозяйка, он не успел разглядеть, ибо то, на что она села, накрылось широченными юбками, как цветным парашютом. Говорили, что во второй комнате лежит кошма, висит кнут и стоит тележное колесо; что во второй комнате разводится костёр и поются хорошие цыганские песни.
– Как здоровье, Раиса Михайловна?
– Здоровье, сокол, не деньги – обратно не вертается.
– А что такое?
– Зуб болит, коньячком вот полощу.
На круглом столе, накрытом камчатой скатертью, посреди горы фруктов высилась початая бутылка коньяка.
– Не пригубишь ли рюмочку-вторую, сокол?
– Спасибо, мне ещё летать.
– А кофейку?
Лицо он был официальное, но пришёл к ней неофициально, поэтому для беседы выпить кофейку можно. С куском бы мяса.
Она стукнула ладонью в стену. Тут же открылась дверь и вошла молчаливая цветастая девочка с подносом. Ждали его тут или попал к завтраку? Девочка принесла второй поднос, отчего крепкие губы инспектора дрогнули: копчёная колбаса, сыр, бутерброды с какой-то рыбкой… Сласти. А пришёл он неофициально. Нет, пришёл он всё-таки по делу.
Инспектор взял горячую чашку, коснувшись еды лишь рассеянным взглядом.
– Раиса Михайловна, есть жалобы, что ваши цыганочки продолжают гадать на улицах…
– У кого ж это языки чешутся?
– Мелкое мошенничество.
– Э, сокол, почему люди не хотят жить красиво, а? Подошла чавела статная да горячая, шаль цветнее луга, серьги блеском душу греют, поцелуйные губы улыбаются… Взяла твою руку, сказала судьбу и попросила за это позолотить ручку. Неужели грех?
– Так ведь обман.
– Э, сокол, обман-то обман, да приятный. А лотерея не обман? Выигрыш то ли выпадет, то ли нет. И с судьбой так. Угадаешь или не угадаешь.
Горячий натуральный кофе. Ковры. Девочка-прислужница. Сладкие речи. Пышная старая цыганка в золоте. Только этого… фимиама не хватает. Где он? В гостях у шахини?
– Ну, а ты, Раиса Михайловна, гадаешь?
– Отчего ж не погадать, если попросят.
– А каков процент попадания?
– Не шути, сокол, с судьбой.
– Говорят, стопроцентное.
– Пусть говорят, сокол: кобыла сдохнет, а язык отсохнет.
– Есть информация, Раиса Михайловна, что предсказываешь ты, в какой магазин, сколько и в какое время поступает дефицит. Интересно, откуда узнаёшь?
– Сокол, зря ты едой-то моей брезгуешь…
Кожа жёлтая, но без морщин. Скулы блестят. Глаза черны, как цыганская ночь. В волосах ни одной седой тропинки. Говорили, что ей восемьдесят. Говорили, что она колдунья. Цыгане её слушались, как родную мать, да она и была тут матерью и бабкой многих.
– А ты, сокол, пришёл не из-за гаданья.
– Как узнала – руку ведь не показывал?
– Соколята твои по квартирам летали.
– Раиса Михайловна, девочку украли…
– Сокол, при твоей работе дурнем быть негоже. Украли дитё, так, значит, чавелы? В нашем доме все цыгане работают. Я получаю пенсию. Да, сокол, иногда цыганки гадают. Натура просит. А зачем цыгану чужой ребёнок, когда своих девать некуда? Или ты думаешь, мы кровь человеческую пьём?
Жёлтое широкое лицо неожиданно побледнело, а скулы даже побелели, словно кожа на них истончилась до кости. Глаза полосовали инспектора чёрным огнём. Волосы сами выскользнули из-под оранжевой ленты и рассыпались по плечам. Она размашистым движением отбросила их с глаз, взяла сигареты и умело затянулась. Говорили, что в той, второй комнате она курит трубку, чёрную и корявую, как столетний корень.
– А если у меня есть сигнал? – осторожно спросил Петельников.
– Открой свои карты, и я приоткроюсь.
– Девочку увела цыганка…
– Девочку увела блондинка.
Не донеся до губ, инспектор поставил чашку на стол.
– Дальше, – приказал он.
– Всё, сокол.
– Откуда знаешь про блондинку?
– Сокол, я узнаю у бога.
– Едем в прокуратуру, – инспектор встал и застегнул пиджак.
– Зачем?
– Для официального допроса.
– Сокол, я скажу там, что ничего не ведаю. Пошутила, мол, с соколом-то…
– Раиса Михайловна, я пришёл сюда как человек к человеку. Я не угрожаю, не приказываю – я предупреждаю и прошу. Если это сделала не цыганка, то какой смысл молчать?
– Отвечаю, сокол, как человек человеку. Цыганки ходят по району, цыганята бегают по улицам… Они всё видят, и я всё знаю. Неужели я отдам цыганят таскаться по судам? Хороша была бы старая цыганка Рая…
Инспектор сел, не сломленный её доводами, а готовый к долгой осаде.
– Раиса Михайловна, неужели не понимаешь? Совершено преступление, человек об этом что-то знает… Да разве мы отстанем?
Она выпустила дым, как испустила последний дух. Её лицо потеряло жизнь: оскудел подбородок, стихли губы, на чём-то невидимом остановился взгляд и вроде бы мгновенно потухла сигарета. Она сидела, как шаманка. Петельников ждал, силясь разгадать это представление.
– А ты погадай, – вдруг очнулась она.
– Погадать?
– Или тебе нужна бумажная справочка?
– Не обязательно, – согласился инспектор: в конце концов, сейчас его интересовали любые сведения в любой форме.
– Тогда погадай.
– На чём погадать? – ещё не понимал он.
– Дай левую руку…
Инспектор подошёл к ней и протянул ладонь. Она взяла её в свои крепкие, словно выточенные из коричневого дерева ладошки и повернула к оконному свету. Волосы, так и не поднятые, шторой закрывали её лицо. Она их откинула, глянув на него хитрым блеском глаз:
– Сокол, позолоти ручку.
Инспектор уже принял игру. Свободной рукой он нашарил давно болтавшийся в кармане металлический рубль и положил на свою ладонь. Рубль пропал, как растворился в воздухе.
– Судьбу, сокол, твою я не вижу. Цыганка Рая за рубель судьбы чужой знать не хочет. А на сердце у тебя забота от казённого дома. Дума твоя, куда делось дитя малолетнее в красном платьице. Вот эта линия показывает, ой показывает, что увела девочку женщина беленькая, молодая, лет двадцати пяти, одетая модно, в джинсовый брючный костюм…
– Куда вела? – не утерпел инспектор.
– Этого судьба не ведает. Но судьбе ведомо – вот эта линия, – что женщина проживает на той же улице, где и девочка, в доме шестнадцать. Но там пять корпусов. Всё, сокол. А большего ни судьба, ни я не знаю. Да ведь на рубель и хватит, а?
Инспектор вернулся на диван, обессилев от полученных сведений. Он смотрел на цыганку, которая спокойно курила, и-чуть заметная усмешка нарушала крепость её Коричневых губ.
– Ой, сокол, забыла, да тебе и нужно ли… Духами от неё пахнет сильно, как от пузырька.
– Какими?
– Ты б меня про серьги спросил, а в духах я неопытная. Называются они вроде бы «Не вертите».
– «Не вертите»? – даже переспросил инспектор, удивлённый странным названием.
– Или «Не вертитесь».
– Раиса Михайловна, всё, что сказала, – верно?
– Сокол, обманывать милицию и брать с неё деньги за гаданье хорошая цыганка не станет.
– Взяла же рубль, – улыбнулся инспектор.
– Он у тебя.
Петельников сунул руку в карман – рубль лежал там.
Из дневника следователя.
Умственно обессилев от Иринкиных вопросов, думаю: «Ну, и я тебя тоже дойму ими…»
– Ира…
– А? – шёпотом отзывается она.
– Почему тихо говоришь?
– Потому что я думаю.
– О чём?
– О джиннах.
– А что бы ты попросила у джинна, если бы он вылез из бутылки?
– Из какой бутылки?
– Неважно, из какой. Допустим, из-под шампанского, – вспоминаю я самую объёмистую бутылку.
– Я бы его попросила, чтобы он влез обратно.
– А желания? – удивляюсь я.
– Папа, он же будет пьяный…
Рябинину было бы легче допросить рецидивиста, чем видеть перед собой эту потерпевшую.
Катунцева подсела тихо, словно к нему за стол опустилась ночная белая птица. Маленькая белокурая женщина с красными и пустыми от горя глазами… В ней была какая-то незавершённость, и Рябинин не сразу понял, в чём она состояла и почему появилось именно это слово – незавершённость. Он помолчал, давая ей освоиться в этом кабинетике…
Волосы завиты крупно, но каждое колечко или недозавито, или уже распрямилось. Губы накрашены – нет, подкрашены. Брови подведены слегка, да вроде бы одна бровь доведена краской не до конца. Лицо попудрено: лицо ли? Не одна ли щека? Вот только под глазами лежала глубокая чернь, как на старинном серебре. Но это уже не от красок и не от карандашей.
Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью…
…Мы определяем человека постоянным и вечным, как гранитный валун. А он переменчив, ибо человек есть его состояние в эту минуту. Разве эта женщина до вчерашнего дня была такой? Да иная была женщина, иной был человек…
Она подняла на следователя блёклые голубые глаза, которые отозвались в нём ответной мыслью: а какими они были вчера? При дочке? Блёклыми?
– Я вам памятник поставлю…
Он сухо улыбнулся: если бы все потерпевшие ставили ему памятники, то не хватило бы никаких проспектов.
– Только найдите дочку, – добавила она, берясь за платок.
– Найдём и без памятника, – бодро заверил Рябинин, давая ей минуты поплакать.
Минуты? У неё были ночные часы. И всё-таки нужные ей минуты, тут, при официальном лице, при сопереживателе.
Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью…
… Почему мы радуемся минутами, а горюем часами? Почему веселимся днями, а грустим годами? Почему слёзы нам даются легче, чем смех? Не угнездились ли в наших генах столетия войн, моров, недородов, распрей?..
– Я знала, что случится беда.
– Знали? – построжавшим голосом он отогнал преждевременную радость.
– Сон видела…
– Какой? – вежливо спросил Рябинин.
– Будто бы сидим мы в нашем дворе. В том самом… И учимся писать. А Ира вдруг и говорит: «Мама, у меня правая рука не пишет». – «Ничего, говорю, доченька, мы левой выучимся». Тут появляется женщина, вся в белом, с каким-то странным лицом и говорит: «Зря, зря учитесь – всё равно не успеете». А, господи, кому этот сон нужен…
Катунцева хотела что-то добавить, и Рябинин ждал этого добавления, всё ещё надеясь на крупицы информации.
– Лучше бы не просыпалась, – добавила она.
– Опишите подробно одежду и внешность девочки…
Она стала рассказывать, и зримая ясность легла на её лицо – так бывает в пасмурный день, когда солнца и не видно, но оно вдруг высветит землю сквозь бумажно истончённые облака. Потерпевшая говорила о дочке и видела её тут, в этом кабинете. Петельникову бы сейчас показать её лицо… Инстинкт? Нет, это любовь на нём, это человеческая душа.
Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью…
…Человеческая душа. Не есть ли это наши инстинкты, пропущенные через интеллект?..
– Может быть, вы что-нибудь замечали?
– Нет.
– Враги у вас есть?
– Нет.
– Никого не подозреваете?
– Нет.
– А соседей?
С мужем говорить было легче. Тот на кого-то злился: на преступника ли, на прокуратуру ли, на милицию, на жену – и не просил ему сочувствовать.
– Ну как могла так поступить женщина? – спросила она, женщина, спросила мужчину.
Он не знал, хотя мог бы назвать не одну причину: одиночество, бесплодие, упрёки мужа, инстинкт, общественное мнение… Но он знал, что люди без нужды ничего не совершают. Он даже полагал, что без острой нужды они не совершают ничего плохого. Кроме преступлений. Но тогда плохой человек не тот, который делает плохо в случае необходимости, а тот, который поступает так без нужды…
– Где же бог? – спросила она.








