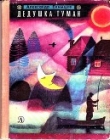Текст книги "Медведь и бабочка"
Автор книги: Станислав Романовский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
КОРЕШКОВАЯ ЛОЖКА
Иринке поручили сыграть служанку в старинной пьесе. Роль была небольшая. Барин, которого играл учитель Борис Петрович, спрашивал:
– В пельмени чеснок положили?
– А как же, батюшка! – отвечала ему служанка. – Разве пельмени без чеснока бывают?!
Барин прогонял её на кухню, и на этом Иринкина роль кончалась.
Борис Петрович считал, что роль эта трудная.
– Веригина, – говорил он, – ты не смотри, что у тебя на сцене всего несколько слов. Ты сумей в этих словах передать страх крепостной женщины перед помещиком. А для этого на сцене ты вспомни что-нибудь невесёлое. Скажем, как ты в своё время получила двойку. Давай попробуем ещё раз!..
Двойку Иринка исправила на той неделе и поэтому решила о ней больше не вспоминать.
Лучше вспоминать про другое. Была у Иринки деревянная ложка в травном узоре. Вчера она пропала и нашлась у брата Николая. (Николай был смирным человеком, пока не прорезались зубы.) Он сидел под столом и грыз ложку. Иринка отняла у него ложку, стукнула ею Николая по лбу, он заревел, но было уже поздно: от нарядной ложки остался один черенок.
Сейчас, на репетиции, Иринка от всей души пожалела загубленную ложку и с печалью в голосе прочитала свою роль:
– А как же, батюшка! Разве пельмени без чеснока бывают?!
– Замечательно, Веригина! – воскликнул Борис Петрович. – Очень хорошо. Можешь быть свободна. Теперь – до генеральной репетиции.
Дома мать из Николаевых рук рассматривала ложку и говорила:
– Теперь ею много не почерпнёшь. Ребёнка досыта не накормишь.
Отец, тоже из Николаевых рук, потрогал белые выгрызы на лунке и вздохнул:
– Липа – несерьёзное дерево.
Иринка хотела дать брату металлическую ложку, но отец-мать не согласились: Николай при его характере испортит дёсны.
– Я бы и лошадям железные грызла поменял на деревянные, – сказал отец.
Из дровяника он принёс берёзовое полешко, и в избе запахло белыми грибами. На шершавом камне навострил топор, на бруске направил лезвие, отчего вострина по самому краю засияла, как серебряная. Отец отколол от полешка чурку, выглубил в ней лунку, с другой стороны округлил, вырезал черенок-держалку с шишечкой-коковкой на конце – и всё одним топором.
– Берёза – серьёзное дерево, – сказал отец.
Конечно, ложка была погрубее загубленной. Но и на некрашеную на неё смотреть было любо-дорого: берёза – дерево не только серьёзное, но и красивое. Белое, строгое, с золотым подсветом. Будто вырезал отец своим плотницким топором ложку, а как раз в это время только-только начало всходить солнышко.
Прежде чем вручить ложку Николаю, отец пересчитал у него зубы и торжественно объявил:
– Четырнадцать штук!
Перед генеральной репетицией обнаружилось, что Николай обгрыз и эту ложку. Мать только руками развела:
– Ею тоже много не почерпнёшь. Ребёнок голодным останется…
Отец и на этот раз пересчитал Николаевы зубы и охнул:
– Шестнадцать штук с половиной! Из какого же дерева теперь ему ложку резать?..
Подумал и обратился к Иринке:
– Сходи-ка ты, Ирина Михайловна, к дедушке Поликарпу и спроси у него специальную ложку для нашего зубастого Николая.
У Иринки задрожали губы:
– Мне на репетицию надо!..
«Ещё бы не обижаться, – думала она по дороге, наступая на жёлтые листья. – Для Николая – всё, а для меня – ничего. Была у меня нарядная ложка. Была, да сплыла».
На репетиции она в таком расстройстве выпалила свои слова: «А как же, батюшка! Разве пельмени без чеснока бывают?!», что Борис Петрович изумлённо снял очки:
– Потрясающе! Кто знает, может быть, именно в тебе, Веригина, живёт будущая великая русская актриса?..
От таких слов ей стало легче, и, не заходя домой, Иринка пошла на другой конец деревни к дедушке Поликарпу.
Изба у него с резными наличниками, на крыше стоймя прибита большая ложка – издалека видно, что здесь живёт мастер-ложкарь.
– За ложками пришла? – спросил дедушка Поликарп. – А я их теперь не делаю. Я на пенсии.
Иринка собралась уходить, но он сказал:
– Погоди-ка.
Из посудника дедушка достал письмо со множеством печатей и показал Иринке:
– Не по-нашему написано. Ты, может, разберёшь?
Иринка вместе со всей деревней знала про это письмо: богатый человек из Англии слёзно просил Поликарпа прислать несколько ложек. Ложки Поликарп давно отослал англичанину, но с годами всё это забыл…
– Нет, – ответила Иринка, жалеючи дедушку. – В третьем классе английский ещё не проходили.
Дедушка вздохнул горделиво:
– Никто не разбирает. Ты по какую ложку пришла?
– Я и не знаю, по какую. У моего брата зубы чешутся. Он уже две ложки изгрыз – липовую и берёзовую.
Дедушка отнёс письмо в посудник, долго гремел там и вынес Иринке дивную ложку: по черенку – травка, края обведены золотом, а в лунке ягодка горит. Николая к такой красоте боязно подпускать, да и хлебать из неё неловко.

– Эту ложку, – сказал дедушка, – ни один ребёнок не выкусит. Я её из яблоневого корня сделал. Корешковая ложка! Корень – как волны на реке… И до чего крепкий. Из таких царевичи кашу ели, когда у них зубы зудели. В прежние времена за такую ложку золотом платили…
– Я сейчас же за деньгами сбегаю! – кинулась к дверям Иринка.
– Что ты, что ты! – замахал руками дедушка. – У меня пенсия. От одной ложки я не обеднею.
– Спасибо, дедушка! – сказала Иринка. – Ты завтра в школу приходи. Мы пьесу ставим. И я в ней играю.
Назавтра Иринка не могла дождаться спектакля. А когда он начался и до её выхода оставалось немного, девочке стало страшно. Борис Петрович кашлянул на сцене – пора!
Ни жива ни мертва она вылетела на освещённое пространство и услышала радостный вопль из зала:
– Илинка!
Иринка не смотрела в зал, но видела всех зрителей: учителей, учеников, дедушку Поликарпа, отца, мать – она зажимала рот Николаю, который сидел у неё на коленях.
Грозный барин поправил бакенбарды из пакли и спросил Иринку:
– В пельмени чеснок положила?
Иринка вспомнила ложку с красной ягодой, и голос её зазвенел от ликования:
– А как же, батюшка! Разве пельмени без чеснока бывают?!
И вприпрыжку убежала за сцену.
Только перед зеркалом, стирая со щёк служанкину сажу, Иринка поняла, что сыграла не так – не передала страх крепостной женщины перед помещиком. И всё это потому, что на сцене вспомнила не те ложки, которые изгрыз Николай, а ту ложку, которую ему не изгрызть.
Иринка горько заплакала.
Плачущую, её нашёл Борис Петрович и сказал:
– Веригина, ты напрасно расстраиваешься. Роль у тебя трудная. Сыграла ты совершенно не так, как на репетициях, но в конце концов сыграла неплохо. Разве при крепостном праве не было женщин, которые не боялись своих помещиков? Вот такую – бесстрашную! – неожиданно сыграла ты. Может, это и к лучшему. Слышишь, как публика хлопает, – просит всех артистов на сцену. Побежали!
И Иринка, вытирая слёзы, побежала кланяться публике.
ОКУНИ
Запесочье – видное озеро наших лугов. За него, как ребятишки за маму свою, за синюю материну юбку, держатся малые озёра: Ржавок, Вязовое, Светлое, Питомник и Три Ямки. И выпадает из него речка Волошка.
Я люблю этот влажный высокотравный край.
В тот июнь я взял с собой Диму, толкового человека одиннадцати лет. Перед дорогой он много говорил.
– Я люблю природу, – говорил он, – и собираю марки о природе.
Рыбалка его утомила. Дима замолчал, отказался от еды, от жары глаза у него стали закрываться.
И рыбе в Запесочье не до еды – поплавком не шевельнёт, жар пережидает. Может, в других озёрах она другая?
Мы перебрались на Вязовое. Оно было насквозь чистое, будто не озеро, а большой продолговатый родник, и рыбе в нём спрятаться негде. Рыбачить мы не стали и легли в тени дерева. Дима сразу задремал, а мне не до сна – душа у меня болела.
– Ты чего не спишь? – спросил он.
Я запираться не стал и отвечаю:
– Душа у меня болит.
– Что так?
– От матери писем давно не было.
– Ты ей сам напиши, – рассудил Дима, не открывая глаз.
Он за всю беседу их ни разу не открыл.
– Писал я…
– А ты ещё напиши!
За разговором я и не заметил, когда мне стало легче. Дима полежал, пошёл окунаться и пропал. Не случилось ли что? Озеро мелкое, но всё-таки…
Я нашёл его по шуршанию. Он сидел с удочкой у воды, а кругом в высокой траве ворочались, шуршали окуни. Время от времени особо прыткого он отгребал ногой подальше от воды.
– Садись рядом, – шёпотом сказал он мне.
Я принёс Димину сумку, на дно постлал осоки и собрал в неё окуней. Мне бы рыбачить с Димой, где клюёт, да я побоялся распугать у него рыбу и ушёл к таловому кусту, где глубже.
Рыбалка получилась весёлая. Окуни шли один за другим, тяжелее и темнее Диминых. Были они в красных плавниках, будто объятые пламенем, и парусом раздували над собой колючие слюдяные спинные плавники. Они долго водили, прежде чем попасть на берег. От окуней руки мои пахли родниковой глубиной озера и свежими огурцами. Я сажал окуней в плетёный садок, головой вперёд, вздрагивал от их пленного плеска и радовался про себя:
«Вязовое открылось!»
«Открылось» – это не моё слово, а слово старых рыболовов, учивших меня рыбалке. Всякое озеро, если оно до смерти не замучено человеком, молчит-молчит да откроется, заговорит – пошлёт хорошим людям много рыбы. Когда это случится – никто не знает.
В потёмках пришёл Дима и сказал:
– Мне окунь плавником руку расцарапал до крови. И прибавил – Куда нам столько рыбы?
Озеро с обоих концов взялось туманом. В лугах роились разные звуки – шорохи, вздохи, чмоканье, – и нежный, с горчинкой, дым костра из тальника веялся невесть откуда и мешался с духом сырой осочной земли.
Мы сразу промокли от росы. У Волошки я разделся, в темноте за два раза перенёс на себе мальчугана и рыбу: за один раз нельзя, дно не держало – до того тяжелы были садок и сумка с окунями.
Я оделся и увидел большое дерево.
«Откуда оно? – подумал я. – Его здесь не было».
Мы подошли к нему, оно от нас отошло и вроде даже копытами по глине зачмокало, и Дима испуганно спросил:
– Чего эго оно?
– Это туман, – успокоил я мальчугана. – Он плывёт, и всё качается.
В тумане огоньками мигал родной городок, и мы договорились с Димой никому не говорить про окуней и послезавтра пойти на Вязовое.
– Не проспи, – наказал мальчуган. – Я рано за тобой зайду.
Я не проспал, но в обещанное время за мной не зашли. Не зашли за мной и в полдень, и я, обеспокоенный, пошёл к Диме.
Меня встретила его мама.
– А он ещё вчера на рыбалку убежал, – сказала она. – И всю улицу с собой увёл. Чего он вас-то не дождался? Чаю не хотите?
– Спасибо, – ответил я. – Пойду порыбачу…
При свете дня в лугах цвели ирисы, золотые и синие. Будто садовник посадил их здесь, и скоротечные огромные цветы эти вспоминают и не могут вспомнить, как они попали сюда в дикое место, в болото и приболотье.
Не торопясь, я добрался до Вязового. Оно как бы обмелело, и в мутной воде его вверх ногами плавали листья кувшинок.
Трава вокруг была вытоптана и не смогла подняться к вечерней росе.
Я пошёл к таловому кусту, где позавчера поймал садок окуней, и натолкнулся на Диму.
Он сидел с удочкой на моём месте и бил на себе комаров. На мои шаги Дима обернулся, узнал меня, вздрогнул и притворился, что смотрит на поплавок.
Я постоял позади него и, прежде чем уходить, спросил:
– Не клюёт, Дмитрий Сергеич?
Я хотел ещё спросить: «Почему они бросили тебя, браконьеры-то твои?», но промолчал и пошёл собирать сушняк по кустам, принёс с ближнего озера Берёзки в котелке чистой воды, вскипятил чай и позвал рыболова:
– Дмитрий Сергеич, приходи чай пить.
Он всё не шёл, а потом всё же пришёл. Сел на краешек пиджака, постланного для сидения, принял из моих рук кружку с чаем, обжёгся и неутешно заплакал.
– Да я её изорву… изорву…
– Кого? – перепугался я.
– Марку с лягушкой. Они мне марку дали, а я им озеро. С бреднями побежали, всю рыбу вычерпали… Что это они? Поймали бы на уху, да и домой. Я тебя обману-уул…
Зашумела трава – верхом на лошади подъехал глухой охранник лугов Василий и громко поздоровался:
– Хлеб-соль, мужики!
Димка перестал реветь, и я пригласил Василия почаёвничать.
– Нет, спасибо! – отказался он. – Только что пил.
– Нынче, наверное, хороший сенокос будет? – поинтересовался я.
Василий не расслышал и ответил:
– Разные люди попадаются. Вчера я оравушку укротил. Бежит оравушка, сети-бредни несёт и траву топчет. Я их на дорогу сгрудил! «Нельзя луга мять! Это же сено! Молоко!» У Волошки ни один штанов не снял – в чём были, в том и в воду! Вода пузырями пошла, одни удильники торчат! Выбежали на тот берег, языки высунули и дальше…
Я ещё спросил Василия:
– Когда косить начнут?
– Не жалуемся, – обрадовался он. – Марья здорова, а сын нынче из армии придёт.
Он подождал, не спросим ли мы ещё, похлопал лошадь по спине и сказал:
– Домой не идёте? А то я вас через Волошку перевезу. Позавчера ночью видел, как вы переправлялися… Я бы вас тогда перевёз, да к Марье опаздывал.
Василий поговорил-поговорил и уехал, а мы остались ночевать у костра, чтобы утром половить на Запесочье. Его бы тоже браконьеры рады разорить, да пока не получается: озеро большое, всю рыбу не выгребешь.
Дима запасал на ночь дрова, а мне опять охота было поговорить с ним по душам, порадоваться вместе: пока я пропадал на рыбалках, мама моя письмо прислала…
От травы поднимались золотые столбы с комарами, за озером продувал хриплую трубу свою коростель, и ночь обещала быть светлой, но душной, дышать нечем – только у большой воды и спасаться от такой духоты.
– Дима, – сказал я, – перенесём дрова к Запесочью. Ночуем у большой воды. А то здесь дышать нечем.
Мы забрали сушняк и пошли к Запесочью.
Оно угадывалось там, где село солнце: туда летели чайки, оттуда нет-нет да и наносило свежего ветра, и ближе к темноте там загостился свет.
ЖАН ВАЛЬЖАН
Шёл я с работы и остановился.
На асфальте лежала булка с лункой на боку. А в лунке единолично трудился жёлтый, как огонь, попугайчик.
На почтительном расстоянии от него сидели голуби и воробьи и роптали.
«На одного целая булка – не много ли?» – булькал толстый старый голубь.
«Намнём ему бока», – тихонько призывал голубь помоложе.
«Расцветка у него не та, – вздыхали остальные голуби. – Не нашенская. Может, он очень сильный? Может, он богатырь какой-нибудь?»
Вдруг воробей в коричневом галстуке сорвался с места, с громким чириканьем сел рядом с булкой, из которой торчал огненный хвост попугайчика, и спросил в открытую:
«Кто ты такой?»
Попугайчик высунул голову из булки и прострекотал что-то непонятное. Смелого воробья как ветром сдуло.
«Что это творится-то?» – булькал старый голубь.
Попугайчик опять прострекотал, взлетел, сел точно у меня над головой, на ветку пенсильванского клёна, и затерялся в огненно-жёлтых листьях.
– Кого вы так разглядываете? – спросил меня прохожий.
– Попугайчика. Вот он сидит. Рукой достать можно.
– Не вижу.
– Не туда смотрите.
Около нас остановились другие прохожие, в основном пенсионеры, и небольшая наша толпа не пугала попугайчика.
– Не боится он нас, – говорила толпа. – Привык к людям.
– А бедный хозяин его ищет!
– Вот его хозяин рядом. Он из детсада улетел. Видите: детский сад на ремонте.
– Заморозки подходят – замёрзнет попугай.
– Он, наверное, думает, что здесь не Москва, а Австралия, и холодов не бывает…
– Ничего он не думает!
– Поймать бы его до холодов.
Попугайчик встрепенулся и улетел в дыру в заборе, за которым среди деревьев прятался бывший детсад.
Прохожие постояли и разошлись. А я вслед за попугайчиком пролез в дыру в заборе и огляделся.
Здесь было тихо, тропинки заросли травой, падали одиночные листья, и от детсада пахло нежилым. Попугайчик дал знать о себе нетерпеливым стрекотом – он вылетел из одного окна, влетел в другое – и надолго пропал.
Я обнаружил его на песчаной дорожке. Попугайчик играл со скорлупой грецкого ореха, поднимал её в клюве, тряс, бросал и опять поднимал. Но вдруг – он любил всё делать вдруг – с треском взлетел, едва ускользнув от кошки, и сел недалеко на куст боярышника.
Кошка пощурилась на его стрекотание: иди, мол, ближе, а то я не слышу, и увидела меня.
– Брысь! – закричал я. – Брысь!..
Она убежала, оглядываясь.
А попугайчик выпустил по мне несколько вопросов, стрекочущих, как автоматные очереди. Я ничего не разобрал и спросил:
– Ты что: возмущаешься или радуешься? Ах, вот оно что – любопытствуешь! Хочешь зимовать у меня в тепле?
Попугайчик улетел. А я раскрошил булку, насыпал её на деревянный столик, врытый в землю, сел в сторонке на треснутую скамью и стал читать.
«Я вышел из кибитки. Буран ещё продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввёл меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала её».
Пока я читал пушкинские страницы, знакомые мне с тех пор, как я помню себя, на стол слетелись голуби и застучали клювами. К ним присоединились воробьи, но в середину пирующих неожиданно опустился попугайчик, и стол мигом опустел. На нём дрожало оброненное голубиное пёрышко.
«То-то, Жан! То-то, Жан! То-то, Жан!» – прострекотал жёлтый бесёнок, с вызовом пронёсся у меня над ухом, исчез и опять появился на столе.
А я мысленно окрестил его про себя: Жан Вальжан.
На месте ему не сиделось. Для него я был существом малоинтересным по сравнению с ним самим, с его радостью и свободой, с высокими деревьями, травой и домом – со всей его обретённой «Австралией», отгороженной от мира дырявым забором.
Я подумал:
«Мне он в руки не даётся… Должны же за ним прийти хозяева? Пойду-ка я домой».
Осень тогда стояла тёплая, и дома душу мою нет-нет да и навещала мысль из детства:
«Нынче зимы не будет. Один раз в тысячу лет может же природа сделать исключение!»
Ещё раз я встретил Жана Вальжана ближе к заморозкам. Вместе с голубями и воробьями он копался в железном ящике для мусора. Ящик был переполнен, птицы набилось много, и на моих глазах толстый старый голубь клювом схватил Жана Вальжана за шиворот и оттаскал, как воробья:
«Не хватай чужих кусков, интеллигент!»
«То-то, Жан!» – обиженно протрещал попугайчик, встряхнулся и заторопился клевать мусор и вдруг улетел знакомой дорогой – в «Австралию» – в дыру в заборе.
Ночью ударил заморозок, балкон мой побелел, и я понял, что Жан Вальжан погиб – замёрз в детсаде с выбитыми стёклами, и в этом виноват я, потому что по-настоящему не сделал ни одной попытки поймать его и поселить в тепле.
Я оделся и пошёл в «Австралию». Забор, деревья, деревянный столик и брошенный дом заиндевели, под ногами скрипели палые листья. В доме было холоднее, чем на улице, от стен с ободранными обоями веяло стужей, а от моих шагов от первого ко второму этажам витало эхо.
В доме уцелело несколько звеньев батареи парового отопления, и я удивился немного, почему их не растащили: дефицит всё-таки. Жана Вальжана я обнаружил на ветоши, на батарее – она была горячей, и он не замёрз до смерти, а только дремал, не в силах двигаться.
Я взял его в руки – до чего же он лёгонький! – положил под пальто и принёс домой. Он не сразу пришёл в себя, и мне показалось, что ему нравится необычное сонное состояние.
Со временем он ожил, облетел комнату, познакомился с каждой вещью в отдельности, высказал вслух, что он о ней думает, и обосновался на книжном шкафу.
С книжного шкафа Жан Вальжан произнёс длиннейший трескучий монолог об Австралии:
«Почему люди так туго соображают? Им надо немедленно вылезти из тесных и тёмных квартир и жить в Австралии, не будь я Жан Вальжан. Там всегда тепло и просторно и есть что поесть. Зачем вы меня поселили в этой большой клетке с мёртвыми запахами старых книг и искусственного ковра? Жил бы я себе в Австралии, спал бы на ветоши, наброшенной на батарею из трёх звеньев, летал бы среди высоких жёлтых деревьев. Здесь попугай одинок, а в Австралии он рано или поздно встретит подругу, то-то же, то-то же, то-то же, не будь я Жан Вальжан!»
– Я же тебе желаю добра, – сказал я ему. – Хочешь семечек?
И я насыпал ему на подоконник пригоршню очищенных семечек. От еды он не отказался, а после трапезы улетел на книжный шкаф, долго чистился там, поскрипывал и посвистывал – мне показалось, что это любовная песнь и она адресуется его невстреченной подруге.
Назавтра я пришёл с работы – Жана Вальжана дома не было. Форточка была открыта – день был со снегом, ветреный, ветер, по-видимому, и открыл форточку.
Я побежал в «Австралию». По её тропинкам торопилась позёмка, а в пустых комнатах детского сада гулял ветер и сеялся снег. Снег натрусило на ветошь на батарее парового отопления. Батарея была, как и раньше, горячей, и тогда я сравнил заброшенный детсад с человеком, в котором остался живым один уголок и от этого уголка может вернуться жизнь во всего человека…
А Жана Вальжана нигде не было.
Он, конечно же, летел сюда и ничего другого, кроме своей «Австралии», не знал в нашем городе. Но не долетел. А может быть, успел спрятаться в попутной форточке? Не знаю. Только с тех пор я его больше не видел.