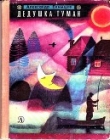Текст книги "Медведь и бабочка"
Автор книги: Станислав Романовский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
КОТЕЛОК
Отец, мать и Алёша плыли на лодке – сено с сенокоса везли. Отец сидел на вёслах, мать с кормовиком на корме, а Алёша лежал на возу и слушал, как в горячей глубине его запутался и сердится шмель. Шмель начинал басом, переходил на шёпот и обрывал сам себя, и Алёша всё ждал, когда же он рассердится по-настоящему.
Рядом по черенок были воткнуты две косы, большая и средняя, отцова и мамина, и Алёша нет-нет да и дотрагивался до большой. Этой косой отец учил сына косить, и жало её, если вынуть на свет, было выбелено косьбой.
– Николай, – услышал он, как мать окликнула отца. – Искупаться бы…
– Чего же ты раньше не сказала! – обрадовался отец и быстро-быстро заработал вёслами…
– С лодки или с берега? – спросил он через некоторое время.
– Как это с лодки? С берега. Там и чаю попьём.
Лодка ткнулась в берег, и Алёша поглядел сверху вниз.
Отец и мать в четыре руки вытянули лодку на берег, и отец позвал его:
– Алёша, слезай.
– Неохота, – ответил Алёша и спрятался.
На самом деле ему очень хотелось быть вместе с родителями, и он сказал «неохота», потому что хотелось ему и поозорничать, да и разморило его.
Больше Алёшу не звали. Он полежал и выглянул снова. Отец-мать под ивой развели костёр, и пламени по такой жаре не было видно, а слышался только огненный трескоток.
Вот родители вскипятили чай, поставили котелок остывать в реке Вятке, а сами пошли купаться. Отец разделся, разбежался, подпрыгнул у самой Вятки, с головой ушёл под воду, вынырнул совсем не в том месте, где его ждал взглядом Алёша, а подальше и, отфыркиваясь, что-то прокричал не своим голосом. Алёша разобрал одно только слово:
– Воля!..
Алёша стянул с себя рубаху, запутался в штанах, но стянул и штаны, с воза бухнулся в воду и неудачно – животом, живот отбил. Заплакал Алёша, и, чтобы мать не видела его слёз, заплыл по другую сторону лодки, и, кривясь от плача, ушёл на дно. Зелёная, холодная, на родниках, толща воды обняла и потащила его, и он открыл и тут же закрыл глаза и изо всех сил заработал руками.
Алёша выкарабкивался наверх, к воздуху, долго-долго и когда выкарабкался, то сквозь воду и волосы, как сквозь водоросли, увидел вытянутое прыгающее солнце и закричал отцовым голосом:
– Э-ээй!
От крика вода попала ему в рот. Алёша закашлялся, добрался до мелкого места и кашлял до тех пор, пока мать не постучала кулаком по его спине:
– Кашлюнко ты мой родной!
Она улыбалась ему мокрым лицом, и Алёша ответно улыбался ей и дышал тяжело и счастливо.
– Отца зови чай пить, – сказала мать и, не дожидаясь, пока Алёша выполнит её просьбу, крикнула молодым сильным голосом: – Никола-ааай!
И Вятка несколько раз повторила отцово имя.
Отец пришёл к чаю не сразу, всё не мог накупаться, а как пришёл, то в обе ладони взял горячую кружку и еле выговорил через дрожь:
– Чаёк!
– Чего ты там кричал? – спросила мать.
– Да так…
От чая пахло Вяткой и таловым листом, и Алёша пил и не мог напиться.
– Ты чего на Вятку-то смотришь? – спросил его отец. – Боишься, что воды не хватит?
– Угу…
– Хватит в Вятке воды.
Выпили и второй котелок, третий не осилили, посидели в рябой тени дерева, и отец сказал:
– Я, мать, ещё искупаюсь…
– Я не велю, что ли? – ответила мать и с котелком ушла к реке.
Отец встал и сказал:
– Тяжело после чая.
Он ушёл к воде, вернулся и сказал встревоженно:
– Вятка-то убыла! Вон коряга была в воде, а теперь на берегу.
Алёша тоже встревожился и стал смотреть на корягу.
– Чего это она? – спросил он.
– Как, чать, не убудет, – сказал отец и подмигнул матери. – Три котелка выпили… Посидим ещё, так вовсе вы сохнет.
Алёша недоверчиво смотрел то на отца, то на мать.
Отец засмеялся и лёг голой спиной на песок.
Прошёл пароход. Большие волны заколотились о берег и потревожили лодку с сеном. Она заскрипела и успокоилась.
– Что мать делает? – спросил отец.
– Котелок чистит.
Отец закрыл глаза и вздохнул. Алёша посидел около отца и ушёл к матери.
Она сидела в воде и с сосредоточенным девчоночьим выражением лица тёрла песком котелок – его закопчённые бока. Она не глядела на Алёшу, а только на котелок, но лицом своим дала понять мальчугану: вижу, что ты пришёл, и тебе я очень рада. Вот вычищу котелок, процарапаю его добела и тогда посмотрю на тебя.
Алёша смирно сел рядом и стал наблюдать за матерью.
Вот она вычистила котелок, ополоснула его в реке, и он засиял, как коса после сенокоса, если не жарче. Мать залюбовалась им, осмотрела его вблизи и на вытянутых руках, и потрескавшиеся губы её были полуоткрыты от счастья.
Алёша открыл рот.
А мать, не замечая его, закрыла котелок крышкой, утопила, под водой отпустила его, и котелок мячом выскочил из реки. Мать на течении ухватила его и что было сил запустила в небо. Серебряный шар дал ветру немного подержать его и, кувыркаясь в воздухе, обрушился в воду, подскочил упруго. И мать, счастливо, по-ребячьи взвизгнув, неловко, не с первого раза, поймала его и растерялась – она увидела Алёшу и по выражению лица его догадалась, что он давно смотрит на неё.
– Мама, – сказал Алёша. – Я ещё вот как умею. Дайка его сюда.
Он взял котелок из рук матери, с усилием снял с него крышку, опустил его под воду дном вверх, и лицо Алёши стало хитрым-прехитрым. Под водой он перевернул котелок дном вниз, и воздух толстым пузырём с ворчанием вывернулся из воды, из-под рук мальчугана.
– Что такое? – Сюда шёл отец и улыбался разморённой улыбкой.
– Да ничего, – ответила мать.
– Как ничего? – изумился Алёша.
Он хотел рассказать отцу, что мать, как девчонка, играла с котелком, и правильно делала, потому что котелок – это и посуда для ухи, супа или чая, и зеркало, и мяч, и глубинная бомба, которая никого не убьёт, не ранит, а шуму наделает, и ещё что-нибудь, если подумать, – вот что такое котелок! Но Алёша не сумел всё это высказать и вместо объяснений погрузил котелок под воду.
Отец послушал, как лопается пузырь воздуха, и потребовал:
– Ещё!
Алёша показал ещё. Отец почесал в затылке и спросил у матери:
– У меня спина в песке?
– В песке.
– Искупаюсь тогда.
Поёживаясь, он зашёл в воду и поплыл. Алёша кинул котелок матери и закричал:
– Мама, поиграем!
– Собираться будем засветло. Засветло и поедем.
Она перемыла кружки, оделась, сложила посуду в лодку, засыпала костёр песком. И как-то очень быстро всё было готово в путь. Отец сел за вёсла, мать за кормовик, Алёша лёг на воз, и лодка тронулась. Шмель в сене гудел редко и неохотно, видно, устал к вечеру, смирился со своим положением, и на слух было ясно, что он и не пытается выбраться наружу. Алёша смотрел на реку, красную от низкого солнышка, и лицом и лопатками слышал, как катится над Вяткой тяжёлая и сырая прохлада и дышит она сеном и кувшинками.
И взглядывал Алёша на маму свою, на её серьёзное с устатку лицо, не появится ли на нём недавнее лёгкое девчоночье выражение.
Мать держала кормовик прямо и была такой, как всегда, не девчонкой, а матерью, и по лицу её Алёша догадывался, о чём она думает, – о близких хозяйских заботах: сено сметать – раз, корову подоить – два, мужчин накормить – три…
Ещё чего сделать?
Вот она поймала на себе Алёшин взгляд и улыбнулась сыну всем своим лицом, всеми малыми морщинками нём, и на недолго она показалась Алёше девчонкой, его сверстницей.
С ней бы бегать по берегу, покидаться алюминиевым котелком– он полый, как мяч, и блестит светлее светлого.
ПЕВЧАЯ ГОРА
В сентябре школьники выбирали картошку из-под плуга.
Ходил по полю лёгкий трактор, и вслед за ним, за лемехами высыпалась крепкая на удивление, чистая, белая картошка.
Дети собирали её в груды, и была она как вымытая, оттого что земля сама осыпалась с неё и грязи нигде не было – дни стояли погожие.
Земля под руками Алёши была пуховой и тёплой. Но чуть поглубже прошаривал он борозду, не осталась ли где картофелина, руки его чуяли сырой предзимний холод земли, и от этого было зябко.
А день был с припёком, будто воротилось лето, и виделось далеко. Куда ни глянь – везде груды картошки и люди на изголуба-серой, будто спина голубя, тёплой земле…
– Эй!
Позади стоял его одноклассник Никита. Тучные щёки его засмуглило солнце. Глазами он показывал на свой рукав, где сидела бабочка. Сидела она и дремала, сложив два крыла в одно красное крылышко.
– Это тебе, – сказал Никита. – А себе я ещё поймаю…
Только он это сказал – бабочка взмахнула крыльями и полетела, да быстро-быстро. Алёша с Никитой кинулись за ней, скоро потеряли её из виду, но они всё бежали невесть куда, и Никита отстал.
– Эй! – кричал он. – Погоди-ииии…
Алёша бежал и сам себе удивлялся, как долго и легко может он бежать. И даже когда бежать стало невмоготу, он всё равно бежал и удивлялся, пока не добежал до высокого обрыва и не лёг отдышаться на краю его.
Теперь он тоже удивлялся, но с испугом, оттого что никак не может отдышаться и сердце колотится, аж всё прыгает перед глазами.
– Всё, что ли? – спросил он неизвестно кого, может, своё колотящееся сердце, и забыл обо всём на свете.
Отсюда, с обрыва, широко открывалась земля – зелёная, в озёрах, больших и малых. Птицы летели ниже его, и Алёша подумал, что он падает с немыслимой высоты, вцепился в траву, закрыл глаза и услышал совсем близко протяжный гул.
Гул походил и на то, как зимой на кордоне ветер пробует петь в трубе, и на то, как весной трогаются вершины сосен, и, намолчавшись за зиму, гудят они согласно и светло.
«Алёша-ааа…» – слышались в этом гуле детские голоса. Будто собирались они спросить его о чём-то, а о чём – пока неизвестно.
Кто они? Что за подземное пение?
Алёша далеко высунулся над обрывом, под собой увидел светло-зелёный луг, лиловую дорогу и по обе стороны её большие белые камни – сначала он принял их за стадо коров. А по всему обрыву, по красной стене его он разглядел множество ласточкиных нор, и в них, как в глиняных горшках на заборе, пел ветер.
– Алёша-ааа…
Ласточки давно улетели на юг, гнёзда были пусты. Ветер усилился, и так печально запела Певчая гора, что Алёша хотел было уйти немедленно. Но ветер пошёл порывами, и песня получилась весёлая, отдалённо похожая на игру гармоники:
А мы просо сеяли-сеяли.
Ой, дид-ладо, сеяли-сеяли!
– Эх, ты! – удивился Алёша.
Ему очень хотелось услышать ещё что-нибудь хорошее, и он подождал немного и пошёл к своим: как бы без него не уехали.
Долго пришлось ему идти, далеко убежал он на радостях, рассказать дома – так не поверят, как далеко…
Ребята были в сборе, сидели в машине, ждали только Алёшу. Учительница Светлана Николаевна сделала ему замечание:
– Нельзя так опаздывать, Веригин.
Никита надул губы:
– Я ему бабочек дарю, а он…
Алёше стало стыдно, и он молчал, ждал, чтобы его выругали как следует и уж больше не ругали.
Дома за ужином он рассказал всё, как было.
– Знаю я Певчую гору, – сказал отец. – Раньше на ней хороводы водили, песни пели, а она подпевала.
Не всегда же она подпевала, – вставила слово мать, убирая посуду. – Не каждый день.
– А я разве говорю «всегда»? – уточнил отец. – Смотря с какой стороны дует ветер. Другой раз она неделями голоса не подаёт. А зимой она вообще молчит – спит под снегом.
Мать убрала со стола, сухо-насухо вытерла его, вымыла посуду и не присела, пока отец не позвал её:
– Посиди с нами, Александровна.
– Некогда.
И всё-таки села за стол – побеседовать перед сном, и по глазам её Алёша догадывался, что она что-то хочет рассказать.
– Старые люди говорили, – начала она, – отчего Певчая гора поёт жалобно…
– Она и весело умеет, – вспомнил Алёша.
– Она по-всякому умеет, – кивнула мать, – но много печалится. Отчего? Оттого что были у неё дети – белые камни, да на луг скатилися, убежали от неё в разные стороны. И Певчая гора тоскует по ним, по своим детям, и зовёт их обратно: «Зачем вы меня покинули?»
– Они недалеко от неё лежат, – сказал Алёша.
– Кто? – спросил отец.
– Да камни-то – дети Певчей горы! Лежат они в траве, большие, белые, а то и серые. Я подумал: коровы, – улыбался Алёша.
– Не коровы, а быки, – уточнил отец. – Такие камни быками зовут. – И улыбнулся: – Молока от них нет, а то бы их тоже коровами звали…
Спать пора, – сказала мать, и когда погасили свет, а Алёша залез под одеяло, в темноте мать наклонялась над ним и зашептала, а от слов её на лице и ухе Алёши задрожал тёплый кружок дыхания: – Сынок, ты говоришь – они рядом с матерью, дети Певчей горы. Это тебе кажется, близко, а ей кажется, что далеко… Рядышком, а не погладить их! Вот ты уйдёшь в школу, тебя долго нет, а я беспокоюсь. Ты чего смеёшься?
– Дышишь ты, а мне щекотно.
– Ааа… Ну спи. Только крепко спи.
– Как получится, – бормотал Алёша, засыпая.
Снилось ему что-то очень хорошее, но что именно – неизвестно: проснулся и всё позабыл, а спросить не у кого.
Ни у матери, ни у отца, ни у учительницы. Никто не скажет, что за сон его навестил.
Может, это музыка была?
Я по себе знаю: когда она снится, проснёшься и не сразу вспомнишь, что это было. Только свежо на душе, и среди забот и всяких непеределанных дел нет-нет да и намурлычется невольно, напоётся тебе под нос что-то очень хорошее.
ГОЛУБЬ И ЧАЙКИ
В начале лета Алёша был на озере Запесочье – на его левой стороне. Само озеро лежало в низине, в осоках, близко к воде не подпускало, и Алёша шёл по песчаной гриве, по редкой траве.
Шёл и посматривал, нет ли где удобных подходов для рыбалки.
Издали ему понравился круглый залив – вот бы порыбачить.
Мальчуган свернул к озеру, по плечи ушёл в осоку, и над ним заклубились чайки.
Крича по-страшному, они пикировали на него, задевали голову крыльями или ветром от крыльев, и Алёша стал отмахиваться удилищем.
Что тут поднялось!
Воздух стал белым от чаек, заклубился клубом, и тугой белый клуб сбил Алёшу с ног. Он поднялся, побежал, упал, опять поднялся и бежал до кустов, до тальников, где чайки оставили его в покое.
Алёше подумалось, что чайки раскровянили ему голову. Он потрогал затылок – это была не кровь, а птичий помёт. Алёшина рубаха также была в белых отметинах.
Хорошо, что по кустам, по корням пробирался ручей – у ног Алёши прядала коричневая вода. Он вымыл голову, выстирал рубаху, выжал её, и, если бы не комары, он, может быть, не скоро вышел бы отсюда на свет божий.
Алёша догадывался, почему чайки ополчились на него – там, на левобережье, у них гнёзда.
«Они не знают, с чем ты идёшь к ним – с добром или со злом, – рассуждал Алёша. – А я стал удилищем махать. Они и подумали: разбойник идёт, бейте разбойника!»
В сырой рубахе идти было холодно, и Алёша обижался на чаек:
«Тяжёлый у них характер. Они всё время жалуются, будто у них что-то болит. Сколько можно жаловаться? Остальные птицы поют, радуются, а эти смолоду ворчат, как старые старухи. – Он даже подумал: – Возьму у отца двустволку, приду на озеро, пусть попробуют налететь. Только бы рассердиться как следует».
Но рассердиться как следует он так и не сумел, а на озеро Запесочье попал только осенью.
Теперь осока по его берегам была выкошена. Лежало оно открытое и доступное со всех сторон, и с того берега на этот шли по нему волны с гребнями. Если закрыть глаза, то на слух можно подумать: не озеро это, а большая холодная река, до того громко гудят волны.
Только что пароходов нет.
Над круглым заливом кружились две чайки и громко кричали.
Алёша подошёл поближе.
На волнах что-то шевелилось, и чайки с отчаянием в голосах носились над шевелением.
«Кого это они убивают?» – подумал Алёша и закричал:
– Эй, что вы делаете?
Чайки будто не слышали.
Вот одна клювом зацепила живое, попыталась поднять, и Алёша увидел, что на волнах качается голубь. Чайка развернула его крыло, но удержать не смогла, и намокшее крыло упало в воду, а чайка взвилась в воздух.
Теперь обе чайки опустились над голубем, в оба клюва, сначала одна, а потом другая, ухватили его, подняли и понесли было к берегу, но он с плеском обрушился в воду.
Они не переставали кричать, и в чайкиных криках Алёше чудились не жалобы, а уговоры. Птицы словно уговаривали голубя:
«Голубчик, потерпи немножко. Ну, пожалуйста…»
Он был жив, и Алёша видел, как голубь ворочает маленькую точёную головку.
Чайки снова подняли голубя и стали набирать высоту, снова уронили его. Тяжёл, да ещё так намок, что двум птицам нести его не под силу.
А если других чаек позвать?
Где их взять – на всём большом озере Запесочье никого больше нет, ни одной живой души.
Алёша разделся догола, и ветер сразу пересчитал у него все рёбрышки – до того холодно поздней осенью.
– «Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!» – запел он для бодрости и зашёл в воду. Она обручем сдавила грудь, не то что петь – дышать не давала, а он, не давая себе опомниться, сажёнками поплыл к голубю.
Голубь был лёгонький и мокрый, как тряпичный, и Алёша высоко держал его в левой руке и грёб одной правой.
Хорошо, что волны помогали, – толкали в спину.
А чайки провожали его до самого берега. От ледяной воды Алёша плохо слышал, но в чайкиных криках ему угадывалась озабоченность:
«Голубя не могли спасти, а этого и подавно».
И сострадание:
«Голубчик, потерпи немножко. Ну, пожалуйста…»
На берегу на ветру он первым делом дал стечь воде с голубя – держал его вниз головой. Влага вытекала из клюва, и голубь, задыхаясь, вздрагивал и порскал, будто кашлял.
– Всё? – сказал Алёша. – Посиди. Я сейчас оденусь и тебя за пазухой домой принесу.
Он посадил голубя на отаву, стал натягивать на себя одежду. А голубь тем временем пошевелил крыльями, с хлопаньем поднялся в воздух, обогнул Алёшу и полетел по ветру от озера.
– Погоди! – позвал его мальчуган. – Куда ты?
Но голубь был уже далеко, чаек и в помине не было, и только одно пустынное озеро катило волны к ногам Алёши и разговаривало с ним.
Волны были мутные, на глине, и в них колебались водоросли.
«А я их сгоряча и не почувствовал», – подумал Алёша про водоросли, и показалось ему, что болит в нём что-то – в самой глубине его существа, рядом с сердцем, поселился холод, и от него долго не согреться.
Дома он не хотел, да сказал матери:
– Мама, ты не ругайся: я простыл. Я в озеро за голубем сплавал…
– Бедовушка ты моя, – сказала мать. – Разве всех спасёшь?
– Белым вином его надо напоить, – посоветовал отец. – И в постель.
– С этих-то лет? – возмутилась мать.
– Я ничего, – оправдывался отец. – Я так…
Алёшу напоили чаем с малиновым вареньем, уложили в постель под два одеяла, и ночью у него начался жар и всё в голове перепуталось.
Голова у него огнём горит, и непонятно, где он. Что это у него за пазухой? Голубь – тот самый, мокрый, только горячий. А кругом в чёрной форме ходят фашисты, каких в кино показывают, и голубя ищут. Алёша голубю шепчет: «Сиди смирно и не шевелись. Они тебя и не найдут». И улыбается, притворяется, будто у него ничего нет, никакого голубя. А притворяться ему страх как неохота. Чёрные руки тянутся к нему, и он кричит: «Не тро-оонь! Не отда-аам!..»
Тихо в комнате, и вся она жёлтая. Печка, наверное, топится. Да нет, не печка – это солнышко в окно заглядывает, и до чего оно ни дотронется – всё светится.
Напротив Алёши отец-мать сидят и незнакомый мужчина в белом халате. Смотрят на него внимательно, и у матери глаза моргают.
– Жар сбили, – говорит мужчина в халате и кладёт на Алёшин лоб прохладную руку. – Сбили жар, теперь жить будет. – И поправляет себя: – Собственно, в этом я никогда не сомневался. Правда?
Мать торопливо соглашается:
– Конечно, конечно…
Отец молчит. Первый раз в жизни в глазах его Алёша замечает слёзы.
«Да что это он? – удивляется Алёша. – Я ему скажу».
Но сказать пока не может: сил нет…
ИЛЬИН КАМЕНЬ
Наша местность не богата родниками. Воды вроде много– Кама, озёра, речушки, – но пьёшь её, неключевую, от большой нужды.
Ильин Камень – один на все луга родник – далеко, его мало кто знает. Как бы ни гудели ноги и ни запекалось во рту, на подходе к камню я не торопился: без стука ставил на землю плетёный садок, прислонял к нему связку удилищ, так чтобы ни одно не звякнуло, и садился остывать – не у самой горловины, а пониже, где узкое русло переходило в осочное озерцо. Сидел, как в ногах у забывшегося человека, которого надо бы разбудить, да жалко.
Я вставал, шёл к камню и опускался на колени перед горловиной, вглядывался в пузырящуюся воронку, на краю которой крутилось моё лицо, одни медные скулы, а на дно, на вздрагивающие гальки, ложилась моя тень, и с тихой радостью думал, что здесь ничего не изменилось.
Я нагибался, набирал полный рот воды, откидывался назад и медленно глотал колючую воду, опять нагибался… Потом ложился у воды, закрывал глаза и слушал, как разговаривает, причмокивая, вода…
Ручей рассказывал:
«Ночью приходила лиса-сиводушка и по-собачьи лакала воду. На рассвете заглянул лось, сунулся в горловину – не понравилось, замотал розовой долгой головой и, фыркая, напился ниже, где вода вроде бы потеплее.
Утром приходила девушка. И пила не так, как ты. Складывала ладони ковшиком, погружала их в меня. В них тёплые жилки стучат, пахнут они хлебом, хозяйственным мылом и молоком. Подносила она ладони к губам, лицо в это время серьёзное-серьёзное… Да ты спи, проснёшься – я ещё расскажу».
В прошлом году я не был в этих местах, а нынче мне дали три месяца отпуска. К Ильину Камню я прибыл свежим и удивился, почему уставал раньше. Я без стука уложил на землю своё снаряжение, тихо подошёл к камню и вздрогнул.
Родника не было.
Был большой серый камень, мох на нём – зелёными бровями, было много засохших коровьих блинов. На месте горловины валялась расплющенная лягушка-раскоряка, а родника не было.
Сзади ширкнул камушек… Мальчишка лет десяти с ожиданием смотрел на меня и жевал щавелинку.
– Куда родник девался?
Мальчик молча показал в землю, продолжая жевать.
– Почему?
Мальчишка подошёл ближе:
– Его коровы выпили. А ты сердитый…
Я опустился на землю. Мальчишка сел рядом и стал колупать жёлтую роговицу на пятке.
– Мальчик, не колупай пятку. Кровь потечёт.
Он понимающе посмотрел на меня:
– В городе вы учителем работайте?
– Откуда ты знаешь?
Он постучал пальцем себе по лбу: «Отсюда».
Мы оба засмеялись: Я угостил его колбасой с хлебом. Угощение он держал в правой руке, а левую на весу придерживал у подбородка, чтобы крошки не терялись. Наевшись, он посидел, зажав мужицкие ладони между коленями. Я задремал, привалившись спиной к вещевому мешку, и очнулся, мне показалось, от испуганного крика мальчишки. Лицо у него было другое: в густых каплюшках пота и гляделось взрослее.
– Подите-ка сюда. Я камни вынимаю. – Он стоял в бывшей горловине и показывал два грязных камня. Откуда он их вынул – мокрая лунка.
Охотничьим ножом я срубил две толстые талины, сделал широкие затёсы – вот и лопаты готовы. Мы присели у лунки, враз стукнулись лбами и засмеялись.
И пошла работа! Палками и просто руками мы углубляли горловину, а когда вывернули острый, как зуб чудовища, камнище, ямка наполнилась мутной водой, а посредине жилкой забился бугорок.
Мы закатали штаны и продолжали работать – расширили исток, выложили его нарядными голышами, очистили руслице от коровьих блинов. Вода долго шла чёрная, а когда мы вконец умаялись, посветлела. Мы ею, ледяной, умылись. Мальчишка было сунулся напиться, да я не разрешил:
– Подожди с часок. Отстоится.
Мальчишка взял в руки мою левую руку и поднёс близко к глазам моё запястье, где были часы.
– Батюшки! Годить-то некогда: мамка наказала корову подоить.
– Хорошая корова?
– Так-то ничего. Только молока домой мало приносит, всё раздаёт кому ни попадя…
– Может, соседка подоит?
– Соседки у нас нету. – Он поддёрнул штаны, с ожиданием посмотрел на меня и побежал к дороге.
Отбежав метров сто, он обернулся и крикнул:
– До свиданья, дяденька!
Он помахал рукой, поправил сползшее плечико майки и побежал дальше, сверкая жёлтыми пятками. Я сделал рупор из ладоней и прокричал вдогонку:
– Как тебя зовут?
Он остановился и тоже приложил ладони ко рту:
– Алексей! Вери-и-гин!
– Я родник по тебе назову. В районную газету напишу: зовите не Ильин Камень, а Алёшин родник! – прокричал я, охрипнув на последнем слове.
Он, по-видимому, не разобрал, подождал, не скажу ли я ещё чего-нибудь, и побежал дальше.
Я повернулся к роднику и по неуловимому туману понял, что вечер на исходе. Я присел у камня и стал вслушиваться в скворчиный говор воды…
«У осоки в земле живут червяки. Здесь их росниками зовут. Нынче роса будет большая, ночью с лучинкой собери их и до света ступай к Сосновой Яме – на росника возьмёт с глубины старый окунь, да такой, что знакомые рыболовы, прославленные, только крякнут, а их жёны простодушно воскликнут: «Разве такие окуни бывают?» Величай меня Алёшиным родником или не величай – люди всё равно будут звать меня Ильин Камень. Да ты приходи в другой раз – новостей будет больше».
Я встал и пошёл за сушняком. Свежело, на краю воронки крутилась первая звезда, без костра в такую ночь не обойтись.