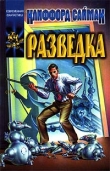Текст книги "Осмотр на месте"
Автор книги: Станислав Лем
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Как я слышал от Тюкстля, множество исследовательских групп разрабатывают новые системы контроля, независимые от этикосферы. Он сам участвовал в проектировании так называемого информатического зеркала; зависнув над шустросферой, оно позволило бы измерить степень ее вмешательства и тем самым установить, где кончается личная свобода и начинается тайное порабощение. Информатики доказали, однако, что новый уровень контроля не стал бы последним: просто над шустринным контролером появился бы контролер рангом повыше. Пришлось бы в свою очередь проверять и его лояльность… короче, началось бы сооружение бесконечной пирамиды контроля. Я спросил Тюкстля, не кажутся ли ему эти опасения преувеличенными. В конце концов, столько столетий живется им под облагораживающим давлением хорошо, во всяком случае лучше – или хотя бы не хуже, чем в прежние времена, преступные и кровавые; так разве не заслуживает такое положение вещей хотя бы некоторого доверия? Но ведь не в том дело, ответил он, что мы считаем его плохим; дело в том, что мы не знаем, останется ли оно под нашим контролем! Мы еще примирились бы со своего рода двоевластием, будь мы уверены, что в основном – допустим, на две трети – контроль в наших руках, а остальное – в ведении наших шустринных уполномоченных… но мы знать не знаем, какова их настоящая роль в принятии решений, определяющих нашу судьбу. Возможно, каждое космическое общество строит свою этикосферу, и каждое развивается тысячу лет, а потом – в результате самоусложнения или других, неизвестных нам причин – вырождается, но не сразу, а постепенно, до тех пор, пока этикосфера не обратится в этикорак… Мы идем в будущее, еще более неизвестное, чем естественное, и именно это нас беспокоит, а не дискомфорт облагораживающих запретов… Учти, мой земной друг, что этификацию нельзя отвергнуть частично, точно так же, как индустриализацию! Как твое человечество зачахло бы без промышленности, так и мы оказались бы беспомощны, разбив злопоглощающий стеклянный колпак, и наш обращенный в будущее страх ожидания катастрофы обернулся бы немедленной катастрофой…
Слушая его, я начинал понимать их тоску по курдляндскому опрощению – теперь она казалась мне вовсе не такой глупой. Вдобавок, хотя вообще-то я сплю как сурок (это, впрочем, профессиональный навык астронавта), теперь я просыпался несколько раз за ночь, не то чтобы измученный кошмарами, но крайне удивленный содержанием снов: такие мне прежде не снились. Мне снилось, будто я тесто, которое месят и разделывают на столешнице огромные руки, то на клецки, то на пончики, и просыпался я, бросаемый в кипяток. Способна ли моя голова выдумать такое, размышлял я, или это вгрезили в меня миллионы шустров, хозяйничающих в моем мозгу? Я переворачивался на другой бок, поминутно вздыхая при мысли о той минуте, когда я наконец взойду на борт корабля, и даже швейцарская тюрьма начинала казаться мне спокойной пристанью.
Per Viscera Ad Astra[73]73
Через утробу – к звездам (лат.)
[Закрыть]
Памятливый Тюкстль предложил мне в начале лета отправиться вдвоем в Телтлинеу на поиски монастыря монахов-искупленцев.
Я перечел эту фразу с неудовольствием. Счастлив хронист, для которого читатель – свой человек, понимающий его с полуслова. Он скажет «лето», и тот уже видит пшеничное поле под облачно-голубым небом, слышит жарко гудящие пасеки; он скажет «монастырь», и тут же возникает образ могучего здания, старых стен, слышен скрип открывающихся ворот, а я, какое слово ни напишу, тотчас ввожу читателя в заблуждение. Чего доброго, кто-нибудь решит, будто у люзанцев одна этикосфера на уме и они судачат о ней с утра до ночи или, гоняясь друг за дружкой как страусы, без перерыву занимаются оплодотворением на стадионе. Но это особенно интересовало меня одного, чужака, не оставляя места на описание других, не менее важных вещей. Что ж, придется понавешивать множество объяснений на эту простую фразу, которая должна стать началом конца.
Тюкстль назывался уже Тетелтек, когда поехал со мной в Телтлинеу, потому что люзанские имена меняются в зависимости от того, кто чем занимается. Телтлинеу, как видно из самого названия, в котором отсутствуют звуки «р» и «кс», это «дикосвятая пустынь духовных проб и ошибок государственной администрации». С виду она похожа на заповедник: наполовину высохшие болота, тундра и сухостой; это часть ничейной земли, опоясывающей полукружьем Люзанию вдоль границы с Курдляндией как санитарный кордон, поскольку концентрация шустров не может скачком упасть до нуля. Дикость означает неошустренность, а святость – возможность наткнуться на монахов; «монастырь» – это только так говорится, а существует он лишь в виде устава, ибо искупленцы – кочующий орден и каждый день перебираются на новое место. Теперь о «пробах и ошибках». Двести лет назад оппозиция заставила правительство принять закон, согласно которому каждый чиновник раз в год обязан отправиться в Телтлинеу и странствовать там определенное количество дней, соответствующее его служебному рангу. Старший референт, например, должен паломничать две недели, потому что его ранг – четырнадцатый. Тюкстль, претендующий на должность советника по науке в МИДе, уже разделался со своим пилигримством (именно так он и выразился) – зимой, чтобы избежать комаров, слетающихся с курдляндских болот в основной, летний сезон паломничества; тогда он носил имя Тюкстюлликс, что примерно можно перевести как «Тюкстль вне добра у своего зла»: мол, в неошустренной глуши, избавляясь от этических подпруг, каждый обнаруживает свою худшую сторону. Выявление подобных изъянов особенно важно в администрации, ведь шустрам не положено вмешиваться в работу государственных служащих, и зловредный чиновник может допекать граждан по-всякому. Правда, никто еще не слышал о чиновнике, которому паломничество стоило бы должности, хотя по возвращении каждый должен был сдать в аффектологическую инспекцию свою ксандрию. Ксандрия напоминает четки, а носят ее на голом теле, чтобы она фиксировала малейшие колебания воли и эмоций. Обычным туристам пограничники вешают на шею ксиндры, или хроны, долженствующие охранять их от встреченного на пути пилигрима, если бы тот вдруг «обнаружил свое зло». Не позволяется разбирать ни ксандрию, ни хрон; знать, как они действуют, тоже нельзя. Мало того, что это запрещено – эти устройства сами следят за соблюдением запрета, и избавиться от них невозможно. По наущению Тюкстля я забросил свой хрон в кусты, и он тут же погнался за мной, тихо позвякивая кораллами. Собственно, я выражался не вполне точно, когда говорил о ксиндрах. Хрон до употребления – это индр; настроенный на конкретное лицо, он получает приставку по его имени, а так как Тихий по-люзански – Кс, то лишь свой аппарат я могу назвать ксиндром; в переводе на люзанский это значит примерно «тихостремительный спасатель».
Не лишним, однако, будет добавить, что паломничество чиновников, а также ксандии и ксиндры – по сути, просто формальность. Вскоре я убедился в этом. Мы ехали везделазом с прицепом, нагруженным запасами и снаряжением, через мертвый лес. Он вырос по берегам рек, стекавших некогда с ледников; теперь, когда рек уже нет, лес высыхает и гибнет. В полдень Тюкстль, время от времени посматривавший на шустрометр, заявил, что мы уже в «дикой глуши». Мы не стали разбивать лагерь, а просто уселись на мху, и Тюкстль открыл банку консервированного бррбиция: мне хотелось попробовать национальную похлебку члаков. Она довольно густая, по вкусу напоминает солянку, которая уже начинает портиться. Тут над деревьями показался энцианин, чуть ли не в шесть метров ростом; но так он выглядел лишь издали, потому что шел на ходулях, или, скорее, на ходунах (можно еще сказать: «высокоходы», а впрочем, кому как угодно; меня упрекают в выдумывании несуществующих слов, словно я сочиняю их для удовольствия, а не по необходимости). Чужак съехал на землю, вдвинув ходули вовнутрь, как телескопические антенны, и спросил, можно ли к нам присесть. Он представился Куакуаксом (а может, Квакваксом), но я буду называть его референтом. Он служил в жилотделе небольшого пограничного округа, а теперь паломничал. Мы приняли его в свою компанию. Я узнал, что это ему, собственно, запрещается. Испытанию положено подвергаться в одиночку, но за этим никто не следит, а когда я спросил референта, не опасается ли он ксандии, тот ответил, что никто в нее даже не заглядывает.
В рюкзаке у нашего товарища был ундорт – портативный усилитель полезных вещей. Ундорт означает «что-то из ничего». Им пользуются только в неошустренной глуши. Из всего, что попадается под руку, хотя бы из мусора, он с ходу изготовляет нужную вещь. Этот полезный аппарат особенно пригодился нам в брюхе курдля, но не буду опережать событий. Референт выколдовал из сухих веточек и листьев круглую, как компас, коробочку с циферблатом – живомер, который показал что-то около двух пилигримов на квадратную милю и (как сочли мы с Тюкстлем) терпимое пока что количество комаров. С репеллентом можно было покамест не торопиться. Я поинтересовался, к чему эти паломничества, если инспекция даже не проверяет ксандий; мои спутники в один голос расхохотались, а Тюкстль ответил, что прогуляться по свежему воздуху приятней, чем просиживать стулья в конторе. Так мы сидели и беседовали, потому что спешить было некуда – живомер не показывал и следа искупленцев. Тюкстль, который заметно оживился, когда шустромер упал до нуля, рассказывал мне о предубеждениях, связанных с этикосферой. Люзанцы живут в ней уже четыре столетия, так что самые древние старики не помнят, как было раньше. С ранних лет всем и каждому втолковывают, что этикосфера – не личность, с которой можно общаться; но все это что об стенку горох. Ничего не помогает, и даже в научной среде вызывают фурор спиритические сеансы, собирающие целые толпы. Это не то чтобы мошенничество, ведь умудренная среда обитания выполняет любые желания, лишь бы они никому не навредили, поэтому она и вправду способна вычаровывать призраки, если кто-нибудь уж очень этого хочет. Правда, сеансеры сами себя обманывают, принимая выполнение подсознательных заказов за сверхъестественные явления. В последние годы появились новые верования. Возникла секта, контактирующая с душами давно умерших эктоков, которых власти будто бы втайне уничтожили, заметая следы своей эктофикационной осечки. Сектанты публикуют протоколы таких бесед, полные заклинаний об освобождении от мертвой жизни и, разумеется, проклятий по адресу властей. Трудно сказать, сколько во всем этом правды, то есть обманывает ли шустросфера сектантов, исполняя ex nihilo[74]74
из ничего (лат.)
[Закрыть] их сокровенные желания, или же в ней и в самом деле пребывают какие-то остатки духовной жизни экс-бессмертных.
Это, по мнению некоторых экспертов, не исключено: шустросфера запоминает все свои действия, а каждый экток уже потому, что подвергается эктофикации, до самого конца остается ее частью. Положение, как видим, в высшей степени странное, коль скоро нельзя отличить существование загробных видений и кающихся душ от несуществования, – хотя даже по этому пункту мнения специалистов расходятся. Совершенная имитация реальности, заметил Тюкстль, уже не отличается от реальности, и притом в любой области. Я спросил, неужели никто ни разу не потребовал полной ликвидации этикосферы, навсегда или хотя бы на время? Несколько призывов подобного рода было, ответили мне, а также несколько проектов не столь радикальных.
Солнце спускалось, и зажужжали комары, так что мы сели в свой лазик и отправились на поиски более уютного места для ночлега. Мы продирались через сухостой, посадив референта-паломника на заднее сиденье, откуда он подавал реплики, а когда на ухабах он падал на нас сзади, мой хрон или хрон Тюкстля, болтавшийся у того на шее, издавал короткое предостерегающее шипение.
Лазик раскачивало, как лодку на волнах, а Тюкстль продолжал разъяснять тонкое различие между вызыванием и изготовлением духов. Если души умерших вызывает тот, кто в них верит, шустросфера сочтет его веру заказом и выполнит этот заказ. Но если он в духов не верит, то утвердится в своем неверии, ведь шустры, разумеется, обнаружат его скептицизм. Тем не менее нельзя считать шустросферу Кем-то – она действует как автомат, доставляющий по первому требованию любую книгу, хотя и неспособный ее понять. Скажи я, к примеру: «Хочу увидеть призрак моего дедушки», – и шустросфера выполнит мое требование, если располагает информацией об этом дедушке. Но если бы я обратился к ней прямо, желая, допустим, узнать ее намерения или мысли, она не отзовется, ибо не является Кем-то, кто может говорить от себя или о себе. Были, правда, предложения персонализировать шустросферу, но эксперты доказали, что это принесло бы куда больше вреда, чем пользы. Нельзя коротко и ясно объяснить, почему это так, – тут мы встречаемся с трудноразрешимыми парадоксами и логическими противоречиями. Среда обитания должна выполнять индивидуальные требования, пока они совместимы с благом других лиц. Не будучи полностью личностью, она глуха к любым желаниям, выходящим за эти границы. Иначе можно было бы пядь за пядью приобретать власть над судьбами ближних. Любопытно, однако, что шустросфера, не будучи личностью, способна изготовлять личностные объекты, хотя бы в виде фантомов и духов. Послушание шустров кончается там, где начинаются грозные парадоксы, которые землянину не могут быть известны даже по названию. Впрочем, объяснил Тюкстль, у нас никогда не было недостатка в проектах реформ. Метким ударом он прихлопнул комара у себя на лбу и продолжил:
– Одним из первых был изократический план – равновесия добра и зла. Предложили его ученики Ксаимарнокса. Согласно принципу «око за око» среда обитания должна была отплачивать каждому той же монетой. Полюбит он ближнего – и сразу шустры его приласкают. Ударит – и сам получит по зубам. Все в точности симметрично, уравновешенно и пропорционально. В соответствии с этой симметрией ты даже мог бы убить, но лишь раз, потому что сам на месте бы умер. Нетрудно понять, что это был прямой путь к эскалации зла. Обычно мы не лезем из кожи, стараясь творить добро, ведь принуждение добром противно его природе, но делать что-то назло другим люди готовы без удержу. В результате хитроумные мерзавцы заставили бы этикосферу бороться против себя же самой: например, сначала ей пришлось бы снабдить их панцирем или чем-нибудь в этом роде, а после сокрушать его, чтобы покарать убийцу. Впрочем, расправа на месте – никудышная справедливость, особенно в случае убийства в аффекте. Шустросфера, выполняющая палаческие функции, не очень-то привлекательна…
– А помните, – вмешался из-за наших спин референт, – проект трех братьев-теологов? Дескать, надо идти до конца? Это, скажу я вам, впечатляющий был замысел…
– Богосфера? – отозвался Тюкстль. – Верно, была такая идея, синтеологическая: бросить в Космос, для его усмирения, синтетическое Всемогущество… да, конечно, сотворенный Бог, Синтеос, зародившийся на одной планете, чтобы через миллиарды лет распространиться на весь Универсум… но как подумаешь, что под гнетом тотальной заботы замерла бы любая природная эволюция, хищники вымерли бы с голоду, а затем и их жертвы, расплодившиеся до убийственной тесноты… Нет, это было не слишком продуманно.
Разговор оборвался. Сквозь заросли я увидел темную фигуру, согнувшуюся под тяжелым грузом. Наш лазик остановился, а встречный – худой старик в сермяге – сбросил с плеч здоровенный камень и, заслонив глаза от солнца, не мигая смотрел на нас.
– Искупленец… – понизив голос, сказал референт. – Можно спросить у него про дорогу к монастырю, но ответит ли он?.. Они принимают обет молчания…
Тюкстль учтиво поздоровался с монахом, но тот долго не отвечал. Должно быть, раздумывал, можно ли ему отозваться – устав ордена разрешает это лишь в исключительных случаях. Видимо, решив, что тут именно такой случай, он назвал себя. Это был монах-привратник; утром он проспал уход монастыря, а теперь искал своих, в качестве епитимьи взвалив на себя камень. Тюкстль предложил подвезти его, но он лишь поклонился нам, взгромоздил булыжник на плечи и скрылся в гуще мертвых кустов.
Уже заходило красное солнце – к ветру и комарам, как утверждали мои товарищи, – когда наконец мы нашли в сухостое прогалину, пригодную для костра. Референт расположился на мху, поколдовал с ундортом, и перед нами, словно фарфоровый пузырь, в мгновение ока вырос белый домик. Минуту спустя из его пузатых стен проклюнулись длинные защитные шипы – и получился настоящий фарфоровый еж с полукруглым входом. Втаскивая внутрь надувной матрац, я порвал его, задев за один из этих шипов, и чертыхнулся. Но беда оказалась невелика: референт тут же изготовил из кучи хвороста другой матрац, к тому же помеченный моими инициалами, а чтобы оказать мне еще большую любезность, сделал так, что домик втянул в себя все шипы. Слегка закусив, мы болтали, сидя у входа, в сгущающейся темноте. На костре, который мы разожгли ради вящей экзотики, варился суп. Я узнал, что референт, вообще-то, поэт, а служит лишь для того, чтобы его уважали, ведь никаких стихов, даже самых великолепных, никто не читает. Впрочем, и прозу тоже. В Союз писателей он не входил, потому что там сплошная грызня, особенно по случаю похорон. Одни считают, что над каждым покойником речь должен говорить сам председатель, другие – что оратор, равный по рангу умершему, то есть: член товарищеского суда – о члене товарищеского суда, зампредседателя – о зампредседателя и так далее. Только про то и толкуют, бедолаги, равнодушным, грустным голосом говорил поэт, всматриваясь в пламя костра. Ничего другого им не осталось, союз достиг всего, чего требовал целых семьсот лет, материальных забот никаких, каждый сам себе определяет тираж, только что с того, раз уже и поэты поэтов не берут в руки.
Затем беседа спустилась на Землю. Я поразился тому, что Тюкстль, казалось бы, настолько освоившийся с нашими обычаями, связывает подкрашивание губ с вампиризмом. Губы у женщин алого цвета, чтобы не видно было следов крови, высосанной при поцелуях, – обычная мимикрия вампиров. Мои протесты ничуть не сбили его с толку. Ах, женщины хотят нравиться? Кровавые губы красивы? А глаза, подведенные синькой, с зелеными веками – тоже? Ведь это цвета трупного разложения – я же не стану этого отрицать? Жуткая внешность к лицу упырю. Я твердил свое, поэт прислушивался, а Тюкстль иронически усмехался. Ну да, хотят быть красивыми… а старушки? Тоже ведь красятся! «Женщина всегда остается женщиной, – настаивал я. – Румяна скрывают старость…» Но Тюкстль не поддавался на мои доводы. На всех земных иллюстрациях самки щерят зубы. Демонстрируют клыки. Конечно, эротика к этому тоже причастна, но это ночная эротика, а известно, что вампиры кровопийствуют ночью. Я ему свое, а он все подмигивал мне, что чертовски меня раздражало: наконец он пустил в ход неотразимый аргумент: если речь идет всего лишь о том, чтобы подчеркнуть красоту, почему мужчины не красятся? По правде сказать, я не знал и, кипя от злости, решил прекратить этот бесплодный спор. Вампиры так вампиры, черт с тобой, думал я, укладываясь ко сну в домике, темном как могила.
Никто из нас даже не заметил курдля, которого занесло в эти места. Проснувшись, я, правда, услышал сопенье и чавканье, но не сообразил, что это огромный язычище облизывает крышу. Убедившись, что попался гладкий кусок, эта тварь в один прием проглотила домик, везделаз и прочее наше имущество, так что впоследствии, после довольно-таки мягкого приземления, мы нашли в желудке даже хворост, приготовленный для утреннего костра, и котелок – только суп вылился.
Судя по размерам желудка, в котором можно было утонуть (ибо курдля мучила жажда), нам попался настоящий гигант, шатун-одиночка. Я изучил этот желудок весьма тщательно, вместе с окрестностями, так как мы провели там больше недели. Это было нечто вроде огромной, зловонной пещеры со складчатым сводом, придаточными полостями и следами эрозии эпителия, – пещеры, заполненной невероятным количеством полужидкого месива, кустарника, веток, травы, каких-то обломков, жестянок и мусора. Наш курдль был не слишком разборчив, жрал, что попало. Надеясь, что он сам извергнет нас из пасти, я уговаривал товарищей пощекотать его в небо, но те лишь пожимали плечами – да и как можно было вскарабкаться к пищеводу, который длинной воронкой при свете фонариков чернел где-то над нашими головами? Закусив нами, курдль начал икать. Это было сущее землетрясение. Наконец он нашел водопой и обрушил в темную пасть бурный поток. Лазик сразу пошел ко дну, но наш белый домик неустрашимо держался на поверхности, словно спасательная шлюпка. Тюкстль и поэт-референт призывали меня сохранять терпение, ибо я рвался действовать, не зная как. Икота прошла, мы выглянули в окошко, по чернеющей поверхности озера пробегала мелкая рябь; высунув голову наружу, я почувствовал ветер, но и это не удивило моих товарищей. Просто отрыгивает, слышишь? – сказал Тюкстль. Действительно, доносилось гудение испорченного воздуха. Примерно через час озеро обмелело и превратилось в вязкую жижу. Едва мы ступили на дно, как встретили все того же монаха. Он был настолько неутомим в покаянии, что не расстался с камнем, хотя запросто мог утонуть. Ни его, ни моих спутников наше положение нисколько не тревожило. Поэт, который имел на своем счету что-то около семи проглачиваний, – ибо ему случалось ходить и на сверхпрограммные экскурсии, а жил он у самой границы, – заявил, что до горла можно будет добраться не раньше, чем животное ляжет на отдых, но толку от этого мало, потому что пищевод очень тесен, к тому же никакая щекотка не поможет – у старых курдлей каменный сон. Я хотел расспросить монаха о Кливии, но Тюкстль отговорил меня; дескать, у простого привратника много не выведаешь. Главное – это терпение: курдль наверняка двинется по следу монастыря, а так как монахам нельзя противиться насилию, вскоре наша компания пополнится не одним из них. Возможно, нам повезет, и проглоченный окажется библиотекарем. Не скажу, чтобы он меня убедил. Я заподозрил, что наше теперешнее положение ему по вкусу. Он готовился уже к исследованию местности: попросил у поэта ундорт и из кормового месива изготовил шахтерский шлем с лампочкой, веревочную лесенку и непромокаемый комбинезон. По моей просьбе он смастерил такое же снаряжение и для меня.
Между тем из мрака, полного всякой мерзости и хлама, стали появляться жалкие, оборванные фигуры с какими-то ведрами в руке и метлами на плече. Я вскоре заметил, что обычно приходят они после завтрака и обеда (не нашего, а курдля), чтобы немного прибрать желудочное пространство. То есть они были чем-то вроде уборщиков, однако я в жизни не видывал такой бестолковой и нерадивой работы. Они суетились без всякого соображения. Один из них, на редкость словоохотливый (остальные вообще не отвечали ни на какие вопросы), сказал мне, что метлы им, правда, положены по должности, но они ими не пользуются: во-первых, прутья сотрутся, а тогда прощай премия; во-вторых, это могло бы «ЕМУ» повредить. Больше всего меня удивлял их маразм. Они равнодушно брели мимо нас и наших машин, избегая лишь света прожекторов, рассеивающих темноту, – словно лунатики в трансе; но всякий раз, когда на обед у нас был бррбиций, не меньше пяти из них торчало под иллюминатором, жадно вдыхая запах похлебки. Однако они ни за что не желали войти в домик и лишь тот, разговорчивый, признался, что им нельзя якшаться с чужаками, поэтому они делают вид, будто нас нет. Похоже, он сам испугался своей откровенности – с тех пор я его уже не видел. Привычки курдля были мне внове, но вскоре я понял, что утром и в полдень надо искать места повыше или прятаться в домике; хотя жрал он понемногу, зато пить начинал внезапно и с неслыханной жадностью, следствием чего была сущая Ниагара, низвергавшаяся оттуда, где обычно стоит солнце в зените. При этом он заглатывал воздух так, что желудок раздувался вдвое против обычного, а после протяжно отрыгивал – это было как завывание ветра в узком ущелье. Референт ставил члаков ни во что, но Тюкстль однажды прижал двоих туземцев к желудочной стенке и не пускал, пока те не сказали ему, что они высокие рангом чиновники – один выдавал себя за мочевика, другой за печенега. Тюкстль отпустил обоих, заявив, что они беззастенчиво врут, стараясь придать себе вес причастностью к жизненно важным органам. Сказать о ком-то «он из органов» – это в курдле кое-что значит. Впрочем, Тюкстль полагал, что наш курдль на последнем издыхании и тащится он к кладбищу, чтобы сложить на нем свои кости. Старая скотина, списанная с баланса, давно изъятая из обращения; однако, как это обычно бывает у члаков, в нем все еще живут по причине жилищных трудностей; последними уходят из такого курдля работники службы уборки градозавра, а не убирают они просто потому, что им не хочется. Ведра и метлы носят, чтобы казалось, будто работают. Все они сплошь лодыри – по награде и труд. В первый день я не обедал, хотя поэт-референт искушал меня перечнем блюд, которые мог приготовить ундорт; но при мысли о том, из чего он их приготовит, я терял аппетит. Мне не терпелось выйти на свежий воздух, и меня все больше удивляло, как это мои товарищи могут мириться со своей тюрьмой, мало того, я начал подозревать, что они находят в этом какое-то удовольствие. Какое? Неужели это было старательно скрываемое удовлетворение тем, что тут нет ни одного шустра? Они рассмеялись, когда я прямо спросил об этом, но в их смехе чувствовалось смущение.
На второй день после завтрака (я уже начал принимать пищу, что мне оставалось делать) Тюкстль включил проигрыватель, а я, не имея охоты слушать музыку и не желая сидеть сложа руки, сперва попробовал совершить восхождение по крутому склону под кардией,[75]75
Кардиальное отверстие, по которому пища поступает в желудок из пищевода.
[Закрыть] но там было слишком скользко, а о том, чтобы вбивать крючья, не приходилось и думать, поэтому я в костюме водолаза направился дальше – к двенадцатиперстной кишке. Референт сопровождал меня до привратника[76]76
Привратниковое (пилорическое) отверстие, по которому пища из желудка переходит в двенадцатиперстную кишку.
[Закрыть] и показал, как нужно щекотать sphinter pylori,[77]77
фиксатор заднепроходного канала (лат.)
[Закрыть] чтобы тот разжался и пропустил меня, но сам дальше не пошел. Он захватил с собой толстую тетрадь и карандаш – возможно, его посетило вдохновение, и ему хотелось уединиться. За привратником было довольно-таки просторно, я шел широким шагом и на распутье желчных путей увидел в стене пару ботинок. Я пробежал по ним невидящими глазами и пошел дальше, погруженный в раздумья. Почему бы это вдруг мои люзанцы, которые вроде бы презирали члаков, в то же время согласны сидеть вместе с ними в этих клоачных пещерах и отнюдь не спешат на волю? Прелесть экзотики? Опрощения? Окажись здесь со мной какой-нибудь фрейдист, он не задумываясь сказал бы, что для энциан сидеть в курдле – значит вернуться в материнское лоно, и вообще, напустился бы на меня со своими фрейдистскими символами, а я бы его обругал, потому что у них никакого лона нет. Впрочем, стоило ли вдаваться в воображаемый спор с вымышленным фрейдистом? Что-то в этом есть, однако, загадочное, подумал я, и лишь тогда до моего сознания дошли увиденные по дороге ботинки в стене. Я посветил туда фонариком и заметил, что они шевелятся. Эту загадку я, во всяком случае, мог разгадать немедленно. Я видел только виброподошвы и стертые каблуки; потянул за один из них, потом за другой, и из стены задом, по-рачьи, вылез высокий худой энцианин, тоже в водолазном костюме. Нимало не удивленный моим присутствием, он представился. То был профессор Ксоудер Ксаатер, завкафедрой анатомии курдля в Иксибрикс, в настоящее время занятый полевыми исследованиями. Не спрашивая, кем я имею честь быть, он объяснил мне топографию этого участка кишечника; особенно восхищало его diverticulum duoden-jejunale Xaater.[78]78
ответвление двенадцатиперстной кишки Ксаатера (лат.)
[Закрыть] Да, да, это место носило его имя, ведь именно он доказал ошибочность утверждений школы Ксепса, будто бы это diverticulum[79]79
ответвление (лат.)
[Закрыть] никогда не было verrucinosum.[80]80
бородавчатым (лат.)
[Закрыть] Профессор мозолил глаза этому курдлю уже несколько дней, но тупое животное ни за что не желало его глотать, хотя он, посоленный, совался к нему прямо в пасть. При этих словах во мне пробудились тягостные воспоминания о спутнике – лунапарке, который я принял за планету и где позволил одурачить себя мнимой охотой на курдля. Расставшись – довольно неохотно – с желчевыми бородавками, профессор вместе со мной вернулся в желудок. Украдкой он поглядывал на мои ноги, но тут же отводил взгляд. Впоследствии выяснилось, что он принял меня за калеку от рождения, но из вежливости не показывал вида; в качестве анатома он поставил мне диагноз deformitatis congenitae articulacionum genu[81]81
врожденный дефект коленного сочленения (лат.)
[Закрыть] – случай довольно редкий и тяжелый, поскольку это необычайно осложняет жизнь, в особенности ходьбу, а нормально, то есть по-энциански, сесть такой инвалид вообще не способен; вот было смеху, когда он понял, что имеет дело с человеком, – я забыл ему об этом сказать, но он сам догадался, когда мы сняли кислородные маски. Это было уже за привратником, и сверху на нас полетели целые купы кустарника и груды земли. Наш дряхлый курдль был на редкость прожорлив; профессор посоветовал поторопиться; отовсюду струились уже потоки желудочного сока, и было ясно, что этим не кончится: такая пища вызывает изжогу, а значит, и жажду. Действительно, полило как из ведра, но мы успели добежать до спасительного убежища, и ни одна капля на нас не попала. Мои товарищи учтиво приветствовали профессора и пригласили его на бррбиций, который уже варился в котелке. Интересно, что всем деликатесам, который мог приготовить ундорт, они предпочитали эту гадость, наполняющую помещение запахом, который при всем желании приятным не назовешь. Мы сидели в кружок и, прихлебывая суп из мисочек, оживленно болтали. Профессор рассказал забавную историю о том, как в прошлом году он открыл в болоте возле Кургана Председателя завязший в иле скелет огромного курдля с сорока скелетами члаков внутри. Благодаря этому он взял верх над археологами из школы другого анатома, доцента Ксипсиквакса (или что-то в этом роде), которые утверждали, что курдль не может жить под водой. Действительно, naturalitae[82]82
естественным образом (лат.)
[Закрыть] не может, но можно выдрессировать его в подводную лодку, а наш анатом доказал это, предъявив вещественное доказательство – перископ, обнаруженный вместе со скелетом. Доцент опоздал на два дня, и, когда он наконец прибыл на место с водолазным костюмом, скелет уже загорал на солнце под присмотром препараторов, а к перископу профессор прикрепил транспарант с ехидной надписью: CITO VENIENTIBUS OSSA![83]83
Кто приходит рано – тому кости (лат.); перефразировка выражения «Tarde venientibus ossa» – «Кто приходит поздно – тому кости».
[Закрыть]