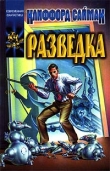Текст книги "Осмотр на месте"
Автор книги: Станислав Лем
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
В конце концов, это мог быть какой-то местный обычай, но я не хотел. Сам не знаю, что меня остановило. Пожалуй то, что они не говорили со мной, а лишь демонстрировали жестами самое униженное почтение; у всех у них были переводилки, в бутоньерке, как у меня, и все же они молчали. Я застыл посреди комнаты. Они вежливо подталкивали меня, с жестикуляцией глухих или придурковатых, но я уже уперся, начал от них отбиваться, поначалу не без церемоний, кланяясь, – все же такой дворец, надо соблюдать видимость, уж слишком резким был переход – почему именно здесь, в чем тут дело, какого черта? – они толкали меня уже почти по-хамски, тем сильнее, чем сильнее я сопротивлялся; не знаю, когда, в какой момент почести обернулись побоями. Собственно, не они меня били, а я их тузил; в пухлую морду толстого – погоди у меня! – головой в живот – пусти, хам! да отстаньте же, погодите, тут какое-то недоразумение, я чужеземец, прибыл в качестве дипломата – переводилка пискливо повторяла каждое мое слово, они не могли не слышать и все же по-прежнему подталкивали меня к стене – вот как? ну, так поговорим по-другому, врежем по поющей одежде, а пинка не хочешь? – переводилка хрустнула и умолкла, раздавленная, они навалились массой; все-таки я сопротивлялся не так, как мог бы, ибо не знал, насколько велика ставка. Понятия не имею, как и когда, но ошейник защелкнулся у меня на шее, а они хотели теперь лишь вывернуться, отскочить, уйти, ведь я уже был на цепи; но я зажал под левым локтем голову толстяка и охаживал его за всех остальных, те тащили его за ноги, он ревел словно буйвол, и в конце концов я его отпустил, уж больно все это было по-дурацки. Они отбежали от меня подальше, как от злой собаки, тяжело дыша, в разорванной одежде, которая немилосердно фальшивила, – я таки изрядно им наподдал; но смотрели они на меня с радостью – совершенно иной, нежели та, с которой они встретили меня на космодроме; это была радость ОБЛАДАНИЯ мною. Я выражаюсь достаточно ясно? Они насыщались моим видом, словно я был крупным хищником, угодившим в капкан. Это чертовски мне не понравилось. Наглядевшись на меня вволю, они гуськом ушли. Я остался один, на цепи, и еще раз оглядел комнату. Я с удовольствием сел бы, ноги еще дрожали от напряжения, ведь одному из них я надорвал ухо, а толстому попортил нос; но сесть просто так, у стены, с ошейником на шее, я не мог, – во всяком случае, пока. Ходить мне тоже не хотелось, это было бы чересчур по-собачьи. Перед глазами у меня все еще стояло золотое великолепие дворца, несколько амурчиков с подносиками слетелись под потолком, но ни один из них не пробовал потчевать меня снедью. Я пытался внушить себе, что это какое-то грандиозное недоразумение, но безуспешно. Всего подозрительнее казалось мне даже не то, что меня посадили на цепь, но радость, с какой они смотрели на меня перед уходом. Я размышлял, как вести себя дальше, чтобы не утратить достоинства; в таком положении в голову приходят совершенно идиотские мысли, к примеру, заслонить ошейник воротничком рубашки, а цепь прикрыть своим телом. Однако глаза сами устремились к подобию мастерской в углу, там лежали какие-то ножи и щипцы, я заметил, что угол иногда занавешивали – под потолком проходил прут, по которому передвигалась штора на колесиках, но теперь она была раздвинута. Ножи что-то напоминали мне – немного похожие на пилы, но без зубьев, острие полукружьем, с ручками, – ну да, в точности, как кожевенные ножи. Для обработки кожи. Но что же общего они могли иметь со мной? Ясно, что ничего! Я повторил это себе раз десять, но вовсе не убедил себя. Позвать на помощь я стыдился. В перочинном ноже у меня был напильник, но не на такую цепь – эта выдержала бы не то что сторожевого пса, а шестерную упряжку.
Примерно через час радужные двери вдруг растворились. Вошли мои похитители с каким-то новым люзанцем, высоким и очень плотным. Он носил розовые очки, держался величественно, хотя задыхался так, словно опаздывал на поезд. Он низко поклонился мне от самого порога и включил пение своей одежды. А может, шляпы. Остальные, показывая на меня, галдели наперебой все с тем же радостным удовлетворением. Неужели я был заложником? Может быть, политическим? Или речь шла о выкупе?
Разглядывание заняло несколько секунд, но величественный люзанец заметил отслоненную мастерскую и начал орать на сообщников, а одному даже погрозил кулаком. Они наперегонки бросились задвигать занавеску. Кретины – горчица после обеда; но то, что они заслонили эту лавку с ножами, окончательно заморозило мне кровь. Высокий скомандовал, двое выбежали из комнаты и почти сразу же вернулись со статуей, из тех, что они называли богоидами. Выглядел этот богоид в точности как наш земной, церковный ангел, только что двигался. Принесли кресла, ангел пододвинул одно из них мне, встал рядом и принялся тараторить неслыханно быстро; я понял, что это переводчик; вдобавок он обмахивал меня крыльями, что тоже было не лишним – после всех этих разговоров и покушений на мою жизнь я буквально обливался потом. Они сели кружком, но не слишком близко – за пределами досягаемости цепи, – ну, и началось. Что именно, трудно сказать. Сперва они представились мне, но не все. Те, что посвирепее, уселись между креслами на корточках и воодушевляли ораторов воем, визгом, взрывами сатанинского смеха, а выступающие поочередно занимали свободное место прямо напротив меня и давали волю своему чувству ненависти – не столько ко мне, сколько ко всему свету. Когда-то меня уже похищали ради выкупа, об идейных похитителях мне тоже довелось слышать, и эти изображали из себя как раз идейных; но что-то тут было не так. Не знаю, черт подери, как это выразить. Не то чтобы я сомневался в искренности их недобрых намерений. Я узнал, что величественный, в розовых очках, – это председатель, или, точнее, Антипредседатель их Союза писателей, что одни из них занимаются антисвященничеством, другие были Пантожниками (панантихудожниками), на ковре сидел на корточках неонист (он не светился неоном – просто так называли неонигилистов), рядом с ним двое социокатов (укокошников), а возле ангела – один апокалиптик (эсхатист), двое противленцев, с чем-то там борющихся, один кромешник и несколько экстремистов помельче, выполнявших функции клакеров. Угрожая мне, они переходили от ярости к энтузиазму, их чувства казались искренними, но… словно бы не удовлетворяли их самих. Чем-то они напоминали переволновавшихся перед спектаклем актеров, чем-то – индейцев, танцующих вокруг пыточного столба, но индейцев, которые не очень-то верят в своего Манитоу и Страну Вечной Охоты и танцуют, как танцевали их деды, однако с какой-то тревогой… не то чтобы их что-то сдерживали, никакой жалости, отнюдь, скорей уж крупица сомнения, заглушаемого хоровым воем… или вот еще плакальщицы на похоронах – не те, кому платят за причитания и посыпание главы пеплом, но родственники, которые силятся подогреть температуру отчаяния выше, чем на это способны… и потому им приходится вырывать на голове даже больше волос, чем нужно, и так рыдать, чтобы их было слышно за кладбищем. Словом, как-то они чересчур старались. Лица у них были человеческие, однако не маски, хотя было видно, что это не обычные их лица. Тогда я еще не знал, как они это делают, и, по правде сказать, это не слишком меня заботило. Ангел, стоявший рядом, бил космические рекорды скорости перевода. Он переводил даже хоровой визг: «Свобода и Благоденствие! А чтоб вас всех! В ежовые рукавицы паскудников, кибродяг, наукиных детей, состряпанных в колыбели-колбе, чмавкающих в повсюдной кремоватости, брюзглых дряблых блевунчиков-губохлюпов». Таким вот манером они себя распаляли, а потом один из них растолкал остальных и, подпрыгивая на месте по-петушиному и размахивая руками, словно хотел вознестись под потолок, к амурчикам с подносами, заревел:
– Слышь, землец, курьерскую твою дипломать! Ведь правда же, что всякий, мал он или велик, безобразен или красив, подл или благороден, кривобок или строен, пока горе мыкает и, пополам согнувшись, разматывает нити жить, то бишь жизни нить, пробуждает в нас сердоболие, жалость, участие, трепет, благость, сочувствие, святость, аминь! А заблеванный блудолюб, потаскунчик паскудный, мордоворотистый брюхан-ненасыт, губошлеп лупоглазый, лягатель цветов, миров попиратель – не более чем двуногое загрязнение бытия, прорва-прожора, циник-зловред, тошнотворный и муторный засморканец, ведь верно же? Ежели встретишь на болоте, в ненастье, горемыку в дырявой сермяге, желчь у тебя разольется от жалости неизбывной и сердце тебе припечалит бледная искра забот. Ах, гвоздяга, когда б я фактически встретил где-нибудь детинушку-сиротинушку, двугорбого или хоть поплоше сортом калеку либо увечника какого ни есть, побирушку косноязыкого, продрогшего, без подштанников, как бы я его пригрел, приласкал, к сердцу прижал и прощебетал в немытое его, грубое, но народное ухо песнь свою! Да только черта с два – не выйдет, синтура не даст, шустры ей мать! Когда я пошел к кибер-исповеднику, тот присоветовал мне угашать жажду сердоболия моего синтесантами – синтетическими сантиментами, вместо Жалости Настоящей, слышь, ты, млекосос землистый?! Ох, тогда побежал я немедля домой за канистрой с бензином, чтобы собственноручно этого кибера подпалить, в чем, как ты без труда догадываешься, мне никто не препятствовал. Назавтра там установили нового, стоканального кибер-духовника, для сеанса одновременной исповеди. Тут я понял, что пришло уже время взять НАРОД за рога и что это – Единственное Спасение. О! как же меня ободрило великое это открытие! Спасителем масс, понял я, может стать единственно террорист-зубодробист, который свободы паскудные, захватанные миллионами сальных лап, приструнит, обкорнает, зашпунтует и наглухо заклепает, и из всеобщей развинченности, после жалких стенаний и сетований, восстанет с ужасным ревом Желанный Призрак, что был мне зарею надежды в ночи прогнившего либерализма… О, либералов ошметки, груди эгалитаристов поганых под пятою праведного моего гнева! О, лучезарная даль и оборванцы в струпьях! Гряди, сладчайший дом неволи, сказал я себе, неволи самой что ни на есть простецкой, сермяжной, дубиночной, зубодробительной, зацветайте, цветики в садочке! Сколько на небе звезд, столько синяков пусть будет на теле дарителей вредоносных благ! Так я ушел в подполье. Конкретно к тебе я не имею претензий, и коллеги мои тоже, но ты должен погибнуть, ибо нельзя начинать великое дело с первого встречного. Хорошее начало – половина дела, а для высокой цели и силы найдутся! Если не мы, все утонет в киберсале с сахарином. Ничего не попишешь – надобно резать! Каждый великий переворот начинался с этого, даже без всякой идеи, что уж говорить о нашем. Короче, больше дела, меньше слов!
– Неужто вы, сударь, – закричал я так, что цепь на мне зазвенела, – вознамерились лишить меня жизни?
Сам не знаю, почему я сказал это как-то ненатурально. А тот субъект, вместо того, чтобы приступить к исполнению кровавых своих обещаний, побледнел, зашатался и упал на руки товарищей, которые принялись его утешать, а он только тяжело дышал, словно с непривычки. Следующий оратор вошел в круг и, воздев руки к амурчикам с закусками, мистическим шепотом произнес:
– Погибаем, господин Тихий!
Так это он горестно прошипел, что, несмотря на ошейник, мне как-то стало его жаль, и я спросил:
– Это отчего же и почему?
– Из-за благоденствия…
– А разве оно обязательное?
Он прямо-таки зашелся ядовитым саркастическим смехом, который, однако, перешел в рыдание. Прочие похитители тоже украдкой утирали глаза.
– Нет, отнюдь, – простонал он, но хоть бы даже райский хлебушек комом в горле застрял, по доброй воле никто его не отдаст. Абсолютное блаженство развращает абсолютно! От народа спуску не жди! Можешь рассчитывать на него, когда ему нужда докучает, но не когда его роскошь насилует. Не хочет он, чтобы было иначе, ведь иначе – значит уже хуже, а не лучше! Конечно, был некогда в моде аскетизм – похлебка из кореньев лесных, избушка под соломенной крышей, курдль в хлеву, соха да сермяга, богачи босиком, но все это синтетическое, коренья трюфельные, курдль на колесах, из нейлона солома, соха-самоходка на транзисторах, липовый это был аскетизм, и приелся он быстро. Ах, чужестранец, знал бы ты, как народ мучится! При одном только виде выборокибера, расхваливающего очередную усладу, граждан сотрясает буриданова дрожь, и многие разбивают или разбирают его, да что толку – он тут же саморемонтируется. Страшней всего то, что нас, радетелей за народное благо, народ ненавидит, не желая понять, что завис на крючке погибели. Поэтому, к сожалению, мы должны прикончить тебя, почтеннейший чужестранец…
Возможно, это был их представитель по делам печати – не знаю, во всяком случае, он не удовлетворил их этим коммюнике. Ты забыл добавить, наперебой кричали они, что великое дело требует великой жертвы! Ты недостаточно заострил историческое значение того, что сейчас наступит! Что именно? Шкурничество. В том смысле, что с меня снимут шкуру. Перспектива Тихобития (повторяю за ангелом, который с ходу переводил), собственно, не испугала меня еще больше, конкретную угрозу я предпочитаю смертоносным намекам, щекочущим позвоночник; мышление мое обострилось, и я весь собрался, прикидывая возможности обороны, ибо я не намерен был дешево продать свою шкуру; одновременно я вдался в дискуссию с ними, нажимая на то, что нельзя подкреплять возвышенную идею убийством, но это был диалог с глухими. В их идеалистически вытаращенных глазах горел такой фанатизм, что легче было бы рождественскому индюку убедить кухарок отказаться от своих кровожадных намерений, чем мне разубедить этих энтузиастов, которые, убив меня, хотели отвоевать неведомо что, неведомо как; я потянулся за перочинным ножом в брючный карман, но тут меня ждал новый сюрприз: то, что я считал эпилогом, оказалось всего лишь прологом настоящего разбирательства. Они по очереди требовали слова, председатель – теолог или антипастырь – составил список ораторов, затем была принята повестка дня и утвержден состав комиссии по рассмотрению предложений; вслушиваясь в их выступления, я наконец уяснил суть дела. Само по себе убийство было делом решенным – но не его толкование. Теперь обсуждалось, с каких позиций свершится то, что должно было свершиться. После бурных дебатов на середину вышел Портретист-Экстремист, поклонился и заголосил:
– Достопочтеннейший Пришелец, да погибнешь ты от моей руки! Почитаю долгом своим объяснить, почему я бросил любимую палитру ради тебя. Крови ли я хотел? Никогда! Так чего же я жаждал? Творить. Живописать! На грубый холст накладывать краски, исповедуясь в собственных снах, и чтобы кто-нибудь, кто угодно, хоть раз взглянул бы и вскрикнул от восхищения. И это все, клянусь честью. Но посмотри-ка: как тут писать картины, если достаточно захотеть и стена, благодаря своему орнаменту на интегральных микросхемах и читчику желаний, сама, живо и ловко, фресками себя покрывает??? Поэтому, когда я ребенком выказывал охоту к живописи, меня ставили носом к стене. Что оставалось мне делать? Какое-то время я поручал это ей, но жалость жгла сердце. Впрочем, вскоре стенам пришел конец, потому что возникло новое течение – картиноречие. Течение было не хуже других, но что же? Не успел я в это дело втянуться, как оно всего за квартал само скомпьютеризировалось. А потом, в каких-нибудь шесть недель, народился у нас дублизм. Ну, если картина может сама с собой вести разговоры, то может и сама себя написать, так ведь? Но я был человек упорный, я ждал, и вот возник экскрементизм. Столовая ложка растительного масла на одно полотно или четыре – на шесть. Если вдохновения нет – касторка. Как устоять перед Тиранией Искусства? Вот мы и травились цинковыми белилами и слоновой чернью, все как один, однако это быстро вышло из моды. И пришел суицидизм, называемый также самизмом. Сперва было брюхачество – художник шел и выставлял свой живот, лакированный и с разными штуковинами, которые держались на пластыре или вживлялись, но и это приелось публике; поэтому на вернисаже стали оставлять голую бетонную стену, а художник, обильно полив себя фиксатуаром, брал хороший разбег и головой в стену, чтобы так уже и остаться – натюрмортом в суицидальном стиле. Хотя удавалось это один только раз, нашлись мученики искусства! У меня, однако, череп был слишком крепкий, впрочем, бетон вскоре размяк, известное дело, – шустры о нас пекутся… А когда пошел мне двадцать восьмой годочек, был уже в моде генизм. Берем, значит, миксер и смешиваем разные гены, от гуся до гиены, чтобы получился monstre pittoresque,[66]66
живописный урод (фр.)
[Закрыть] но и это прошло, скотинокартины вышли из моды. После был деструкционизм, или угробианство коллег, но и оно уступило место новому течению, креационизму. Это вам не какое-нибудь ковырянье в глине и гипсе, но творения, достойные своей эпохи, – спутники в виде золотых алтарей с аквариумами, в которых каждой акуле самочист зубы чистит, или полицерковная безгравитационная урбанистика, когда орбитальные храмы вытягивают свои телескопические башни и колокольни в пустоте, как омары; но все это, увы, без наития, без веры, и совершенно приватное, единоличное; каждое такое творение надо было немедленно залить черной стекловидной массой, чтобы уберечь от чужого глаза, а еще лучше – пустить в распыл, но и это плохо крепило ослабленную волю к творчеству…
– Кситя, не мелочись! – надсаживались они. – Лепи сразу в девятку! Ну же! Смело, без деталей, вовсю! Мы с тобой! Держись, кореш, не лопайся прежде времени!
– Я и не лопаюсь, уже рычал он, – ars pro arte,[67]67
искусство для искусства (лат.)
[Закрыть] ланца-ца, ты сыграешь мертвеца, богоид, ату его, землеца-подлеца, уж я его разукрашу!!!
– Шкуру драть, шкуру драть! – загремели остальные, вскакивая; верно, это был их гимн; они побежали за занавеску, должно быть, за инструментами, я тоже вскочил, и цепь зазвенела.
– Вы что, спятили! Стой! – закричал я, заметив краешком глаза, что ангел перевел приказание, отданное ему художником, но не двинулся с места. Он стоял, выше нас на две головы, мерно шелестя крыльями. Несмотря на такую усиленную вентиляцию, мне стало душно.
– Богоид, что это? – кричали они. – Держи землеца… Не хочет?.. Кримистор сгорел? Тогда мы сами поможем! Кситя в форме, эй, ухнем, навались, ребята пернатые, стройся клином!
И правда, они построились треугольной фалангой и ринулись на меня, но, странное дело, задом, толкая перед собой художника с ножом в руке. В моей руке блеснул перочинный нож. Если мне память не изменяет, похожее построение использовал Александр Македонский, но с лучшими результатами, потому что у тех ноги на полпути разъехались, словно ковер был катком, и они покатились к моим ногам один за другим. Первым с визгом вскочил толстый председатель антиписателей, – падая, он зацепился брючиной за острие моего ножика. Я лишь слегка оцарапал ему седалище, да и то, в сущности, неумышленно, но вопил он как зарезанный. Остальные были в таком отчаянии от своего фиаско, что даже не спешили вставать. Лежа кто где грохнулся, они тихонько стонали:
– Не было веры…
– А все из-за Ксити. Трус, мокроштанник!
– Неправда! Это все из-за вас! Из-за вас! – зашелся рыданиями экстремальный художник.
– Что-о? Удались отсюда немедленно, мокрая курица! Ноги в руки!
– Чуял я, что мазила дело угробит, сойка его забодай!
Художник вскочил и начал срывать с себя одежду.
– Кситя, брось! – рявкнул их председатель по делам печати. – А вы от него, от бедняги, отцепитесь. Гагусь, выходи – твой черед!
– Да, да, Гагусь! – закричали они с энтузиазмом. – Ну-ка, вдарим по старому миру! Гусик, заткни за пояс артиста-портретиста! А мы тебе на растопку дровишек подкинем!
– Врежь ему, Гусенок, до самых печенок!
– Попробуй с канифолью, чтобы не сковырнуться с копыт…
– Канифоли мало, тут виброподошвы нужны…
Ангел переводил взахлеб, экстремисты перегруппировались, опозоренный художник исчез, а ко мне подошел тот, кого называли Гагусем, плечистый урод отвратного вида, – нос у него сплющился и съехал куда-то под левый глаз, должно быть, из-за всеобщей свалки. Значит, все-таки это маска, подумал я, и у других – тоже; но надо было сосредоточить внимание на новом противнике.
– Тихо! – рявкнул он, хотя все уже и так замолчали. Он переступил с ноги на ногу и несколько раз качнулся на пятках взад и вперед, а тем временем его нос возвращался на прежнее место. – Ты, млекосос! – продолжал он гробовым голосом. – Пупочный пупон, состряпанный разбрызгивателем, волосатая твоя топь, узнай на те несколько минут, которые тебе еще суждено прохрипеть, с кем ты имеешь дело! Я курдлист-идеалист, автор гимна, что славит Великоход. Да здравствует курдль, строй до упора социальный, а притом органически светозарный! Я знаю, если б ты мог дать отсюда деру, то сразу бы помчался доносить на меня, но ошейник исторической справедливости, цепи прогресса держат тебя мертвой хваткой, и никакие шустры тебе уже не помогут, ты, приблудный козел! Оковы позорного благоденствия падут с моего народа, подобно тому, как отвалится от твоих костей говядина; и двинется он на коллективных ногах в светлое будущее! Близится час расплаты за все поклепы, возводимые на благородные идеалы, за ведра лживых помоев, вылитых на головы политоходов, и ждет тебя святая месть, святая месть за нашу честь, дайте мне силу, дружки-ястребки, спровадить в моги…
– Слабовато что-то, – сказал я.
Даже кирпич не огорошил бы его до такой степени.
– Что? – гаркнул он. – Да как ты смеешь?.. Цыц, недотепа!
– Ти-ли ти-ли травка, – возразил я. – Сбоку бородавка. А твоя кузина вымыла пингвина…
Он весь затрясся, а прочие просто задрожали от ужаса. Не так-то легко объяснить, как я додумался до этой импровизации, ведь, в сущности, я понятия не имел, что именно мешает им провести скорую и кровавую экзекуцию; но чутье мне подсказывало, что им надо было взвинтить себя коллективной самонакачкой, словно успех их убийственного предприятия зависел от нагнетаемой до нужного уровня атмосферы кошмара.
– Подойди-ка сюда, господин птенчик, – добавил я, – я тебе кое-что на ушко скажу…
– Кляп ему в рот! Живее! – взвизгнул Гагусь-курдофил. – Я так не могу, этот висельник сбивает меня с панталыку…
– Зачем тебе кляп, – с отчаянием в голосе отозвался антипредседатель писателей. – Врежь ему пониже спины, и дело с концом…
– Я, Гагусь, ничего не боюсь… – прошипел курдофил, выхватил из-за пояса кожевенный нож и бросился на меня. Цепь резко звякнула и задрожала, словно струна, – это я отпрыгнул за спину ангела, тот покачнулся, задетый ножом, Гагусь споткнулся и осел на колени перед ангелом.
– Я сейчас… я еще раз попробую… – потерянно бормотал он. Он был настолько ошеломлен, что мне ничего не стоило бы забрать у него нож или заехать в его птичье ухо, но я даже не шевельнулся. Теперь я уже присматривался к трем молодчикам, которые, потихоньку отворив радужные двери, слушали нас, стоя на пороге. Никто, кроме меня, их не видел – все остальные смотрели в мою сторону, – а я, вынуждаемый к этому ошейником и общим положением дел, подпирал стену. Поначалу я было решил, что это еще какие-то артисты-экстремисты, но я ошибался.
– Ни с места! Это налет! – бросил самый высокий из них, входя в комнату. Курдофил осекся и замер, и только две толстые слезы, приготовленные им в заключение понесенного поражения, стекли по его лицу. Одна из них расплылась на лацкане пиджака, вторая капнула на ковер. Один Бог знает, почему память удерживает такие дурацкие мелочи – и притом в таких обстоятельствах. Мои похитители вскочили, протестуя; разгорелась жаркая ссора. Ангел по-прежнему переводил каждое слово, но они так остервенело лезли друг на друга и так вопили, что я перестал что-либо соображать. Суть спора дошла до меня лишь в самых общих чертах. Чужаки были экстремистами из какой-то другой группировки, не имевшей ничего общего ни с искусством, ни с теологией, ни с общей теорией бытия. Драка (они уже дали волю рукам) шла из-за меня. Превосходство профессионалов над любителями, которыми, в силу вещей, были люди искусства и прочие гуманитарии, сказалось немедленно. Дольше всего защищался председатель союза антиписателей, загнанный в угол с инструментами – там он вооружился шкуросдирательными щипцами и действовал ими как палицей; тем не менее всего через несколько минут пришельцы оказались хозяевами положения. Сразу было видно специалистов. Они ничего не обосновывали, не теоретизировали, не церемонились, каждый, видимо, имел заранее намеченное задание, которое выполнял на удивление четко, и в других обстоятельствах я, может быть, пожалел бы своих экстремальных художников. Затихшие, в истерзанных костюмах, из которых вместо камерной музыки раздавалась жалкая какофония, они были усажены на пол лицом к стене, совсем рядом со мной, – поистине, удивительная перемена участи. Только антипредседатель еще отражал атаки, но и он терял силы. В схватке кто-то приложил ангелу, тот свалился в угол и перестал переводить. Зато на его неподвижном доселе, небесном лице появилась странная улыбка, а чуть пониже груди, на алебастровом торсе, неведомо как начали зажигаться и гаснуть разноцветные надписи: «Дидр беунс ганатопроксул? Форникалориссимур, Доминул? А дрикси пикси куак супирито? Милулолак, господин начальник?»
Одновременно ангел взял меня за руку и потянул с таинственным выражением лица так сильно, что я чуть не задохся, когда цепь кончилась. «На помощь!» – хотел я крикнуть, но не мог, – ошейник сдавливал горло. К счастью, победитель председателя поспешил мне на выручку. Уж не знаю, что такое он и его высокий товарищ сделали с ангелом, но когда я открыл глаза, тот снова стоял по стойке «смирно», помахивал крыльями и переводил. Впрочем, переводить было, в общем-то, нечего – мои новые похитители оказались людьми действия. Они отодвинули меня от крюка, из принесенного с собою портфеля достали необходимые инструменты, и крюк – без малейшего жара, чада и дыма – вышел из стены, словно из куска масла. Я воздержался от слов благодарности, и правильно сделал, потому что дальнейшее их поведение ничуть не походило на поведение освободителей. Один тянул меня за цепь, двое других подталкивали, без какого-либо намека на деликатность, к которой я начал было привыкать в обществе художников. Из дворца мы выбрались не через анфиладу великолепных покоев, но, скорее всего, через шахту кухонного лифта, и мне было трудно ориентироваться. Снаружи царила кромешная тьма, ночь была холодная, и я в своих шелковых носках сразу промочил ноги в какой-то луже. Пока на ногах у меня были лакированные туфли, я страшно мучился: я по натуре необычайно чувствителен, прямо-таки безоружен против неразношенной обуви, а в эти туфли переобулся перед самой посадкой, в предвкушении банкета, но, как видно из вышеизложенного, не все пошло так, как я того ожидал. Туфли впивались в меня, пока я сидел на цепи, поэтому, выслушивая одно заявление за другим, почти по щиколотку утопая в пушистом ковре, я незаметно стащил их с себя, решив, что раз уже предстоят, в некотором роде, мои похороны, вряд ли стоит во что бы то ни стало придерживаться этикета. Я совершенно забыл об этом, ошеломленный новым налетом. При свете луны я заметил в петлице у одного из налетчиков розетку-переводилку и воспользовался этим, чтобы попросить о небольшой отсрочке: мол, только заскочу на минутку за туфлями. Что-то я ему объяснял о возможности подхватить насморк, но этот малокультурный (что ощущалось совершенно ясно) тип хрипло засмеялся и сказал:
– Какой еще насморк? Ты не успеешь его схватить, зраз ты этакий.
Как видно, прозвища из мясного меню имели здесь не меньшее хождение, чем в Италии. Меня запихнули в какой-то ящик или, может быть, сундук, и вот, позванивая на ухабах цепями – как видно, мы ехали по бездорожью, – через четверть часа, не раньше, я оказался в бетонном подвале, полуудушенный. Не знаю, как въехал туда самоезд похитителей. Его и след простыл. Низкие голые стены настраивали на мрачный лад. Все убранство состояло из нескольких трехногих табуретов, колоды для рубки дров с вбитым в нее наискось топором, груды поленьев, простого деревянного стола на крестовине и, разумеется, вцементированного в стену кольца, в которое сразу же была продета моя цепь. Значит, я поступил правильно, не раздувая в себе искру надежды. У стола стояла лавка; я сел и снял промоченные носки, прикидывая, где бы повесить их для просушки; но мой новый похититель, тот самый, что уже успел нагрубить мне, буркнул:
– Напрасный труд.
Скинув с себя суконную куртку, он достал из печи пригоревшую лепешку и жадно впился в нее зубами. Странное дело – я знал, что лица энциан не похожи на наши, но так привык уже к человеческому обличью первых моих похитителей, что не мог отделаться от мысли, будто охранявший меня грубиян был в маске – хотя на нем-то как раз ее не было. Облик энциан столь же противен человеку, как им – человеческий облик. В их вытянутом вперед лице, с ноздрями, расставленными так широко, как и их круглые глаза, больше, пожалуй, сходства с клячей или тапиром, чем с птицей. Впрочем, никакое описание не заменит очного знакомства. Насытившись, мой стражник несколько раз постучал по своей бочкообразной груди, поистине гусиной или страусиной, ибо ее покрывал белесый и плотный, как шерсть, пух, и начал чесаться под мышками, выщипывать у себя мелкие перышки (похоже, они щекотали его ноздри), а напоследок – сосредоточенно ковырять в носу. В конце концов он – верно, со скуки – разговорился, причем сперва обращался как бы не ко мне, а неизвестно к кому, расставляя акценты ударами кулаком по столу. Я продолжал молчать, а этот энцианский мужлан, выпрямившись, заявил, что традиция, собственно, требует объяснить похищенному, кем и за что он будет пущен в расход, и хотя я особо вредоносная тварь, недостойная его слушать, он снизойдет до меня, ибо я чужеземец. Те все еще не приходили, а он вынул из кармана листок и, поминутно заглядывая в него, приступил к делу.
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВАРЯ ВТОРЫХ ПОХИТИТЕЛЕЙ
Слушай в оба, землистолицый, я ведь долго говорить не привык. Столетья назад никакой тут Люзании не было, только Гидия, но пришли чужаки и отняли землю предков. Мы красноперые гидийцы, а не видать того, затем что выцвели мы от подземного прозябания. Земли над нами все были наши, по правде и по закону. Великий Дух велел нам подстерегать Злых, и мы их ловили и приглашали на последний танец. А теперь – ничего, только лучшего чаем, считаем часы да газеты читаем. А намедни дошло до нас, будто брат прибывает к нам, на наше тело небесное, чужой, издалече, однако же брат по разуму. И спросили мы ученых родичей наших, сидящих в приказах, что-де за брат такой является гостем в страну наших предков? Они же, хоть пух у них побелел, по-прежнему красноперы душою, и поведали как на духу, кто такой прибывает и откудова. Что чествовать его будут с великою славой, оттого что со звезд он, и не птичьего рода, а будто совсем напротив. А что за таковые почести и слава великая, за какие заслуги? Пишут: посланник, а посланничество его от кого? И открыли они нам, кто вы такие. Войны любите, оружие копите, с виду мир, а в груди измена. И все-то воевание ваше – сплошное коварство, ибо изготовили вы уже восемнадцать атомных топоров на каждую свою голову, и вам того мало. Дальше вооружаетесь, яды смертельные варите, без роздыху, без перерыву, а ежели что, усмехаетесь, мы-де людишки мирные – затем что на уме у вас не честное ратоборство, а хитрости да измена. Соседей мучаете, самих себя травите, а ныне вздумалось вам в гости пожаловать ради подглядывания, вынюхиванья да выслеживанья, где какая добыча. А мы что на это? Мы (он уже ревел, колотя кулаком по столу) тоже собрались тебя поприветствовать, разбойный посол! Слышал ли кто в целой Галактике, млечная ее гать, чтобы Землистолицые, те самые, что пускают в расход соплеменников, и даже малых детишек, по расстеленному ковру мира лезли на глаза доблестным гидийцам, которые наставления отцов о ворогах чужеземных не забыли? Думали кротостью мнимой люзанцев-олухов поймать на крючок, да мы-то не таковы! Нас на этой мякине не проведешь! О, жестоко обманется разум твой высший, падалью вскормленный! Что, не хватает уже у себя желтолицых, зеленолицых, чернолицых для истребления? Сидел бы ты в своей тундре, у этих своих могил, тогда, глядишь, и уберег бы свою лысую, не стоящую выделки шкуру, но не здесь, где бдит красноперый муж! Побили, порезали, пограбили соплеменников, а после – покойников в землю, одежонку получше – на себя, и айда на посиделки с «братьями по Разуму», так, что ли? Ну так красный братишка по разуму тебе растолкует, уж брат постарается, выкопает военный топор и закопает мертвеца-землеца, выпишет на братской шкуре счет и засушит ее на память… Ну что, Землистолицый, слушаешь красноперого брата по разуму? Вижу, что слушаешь… И молчишь?.. Слышу, что молчишь… Так вот: теперь красноперый брат своими руками прикончит брательника-висельника, спровадит его в Страну Вечного Бесчестья, куда немало уже отправили Злых, но такого, как Землистолицый, покамест не было…
Сам не знаю, как и когда он опрокинул лавку вместе со мною, прыгнул через стол, отшвырнул ненужный уже листок с диспозицией и, пустившись вприсядку, жутким, диким голосом грянул: