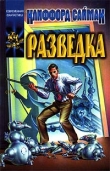Текст книги "Осмотр на месте"
Автор книги: Станислав Лем
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
День второй
На этой планете творятся невероятные вещи. Вернее, омерзительные. Я еще не оправился от потрясения. Я собственными глазами видел, как большой курдль подошел к курдлю поменьше – это было в чистом поле, довольно даже сухом, заросшем рыжеющей травкой, в какой на Земле водятся рыжики, – так вот, значит, подбежал он к этому малышу, который спокойно пасся себе, тщательно обнюхал его, и тут великана вырвало, а тогда тот, маленький, припал сперва на передние, потом на задние колени, в точности как верблюд (по размерам больше кита), съел все это, облизнулся и завыл. И завыл он так дико, глухо, хрипло и так тоскливо, так безнадежно и мрачно, словно голосили эти вечно пасмурные просторы, – у меня просто мороз прошел по телу, еще переполненному омерзением. Тогда тот, побольше, схватил коленопреклоненного за ухо и, оборвав его одним щелканьем пасти, начал жевать, методично чавкая и шевеля губами вверх-вниз, как корова, обгрызающая молодые побеги. Потом надгрыз тому второе ухо, но сразу же выплюнул, словно оно ему не понравилось. Тогда малыш, припавший к земле, зашевелился. Его явно тошнило. Большой и маленький курдли, глядя друг другу в стеклянные вылупленные глаза, зарычали так, что у меня волосы стали дыбом. Затем поднялись, стали рыть землю задними ногами и разошлись без спешки в разные стороны. Что бы это значило? Я осторожно приблизился к затоптанному месту, с поистине колодезными ямами – следами их ног; ноги у них расширяются у пятки, и каждая шире небольшой виллы. Из зеленоватой лужи величиной с пруд тишком, молчком вылезали низкие, сгорбленные существа, вполне гуманоидные, двуногие, но сзади у каждого имелась лишняя пара куцых конечностей, по которым стекала не то чтобы вода, а, скорее, жижа, о происхождении которой я предпочитал не задумываться. Они были явно знакомы с цивилизацией, потому что носили одежду, и притом двубортную, с пуговицами спереди и сзади, а также широкие хлястики – в точности как у реглана; а эти их добавочные отростки были вовсе не ноги, но полы одежды, напоминающей сшитый из двух половин фрак. Я принял их за конечности, потому что они мешкообразно оттопыривались и размеренно покачивались на ходу; но потом кто-то из них сунул туда руку, и в ней появился бурдючок, который был немедленно приложен ко рту. Значит, это были карманы для еды и питья. То и дело прикладываясь к своим бурдючкам, они понабирали в мешки водорослей, плавающих в луже, затем один, повыше ростом, что-то прокашлял, все выстроились в длинную шеренгу, и откуда-то – понятия не имею, откуда – появился письменный стол. Должно быть, складной, и кто-нибудь нес его на спине, как рюкзак. Тот, повыше, уселся за стол, и образовавшаяся на моих глазах длинная очередь начала медленно продвигаться вперед; проходя перед сидящим – каким-то чиновником, в этом я уже не сомневался, – каждый поочередно предъявлял ему белый треугольник, зажатый в руке, то ли удостоверение, то ли просто карточку из плотной бумаги или пластика. Чиновник, рассевшись с широко расставленными и согнутыми назад коленями, со всеми вел себя одинаково: смотрел на карточку, потом на лицо проверяемого и наконец заглядывал в небольшую, но очень толстую, мокрую, грязную книгу или тетрадь, водя пальцем по страницам, как если бы искал там нужный номер. Затем брал треугольник, клал на стол, шлепал печатью и издавал отрывистое покашливание, а я не мог взять в толк, как это он может делать все сразу: ведь чтобы листать книгу, требовалась третья рука, а у него, безусловно, были всего лишь две, но тут я заметил, что сидит он не на стуле, а на одном из своих собратьев, и тот, согнувшись под тяжестью чиновника, поминутно подсовывает ему какой-то список или каталог. Шло это довольно гладко, но у меня занемели ноги от стояния в неудобной позе за кучей грязи; наконец проверка кончилась, стол со сложенными ножками взвалили кому-то на спину, все построились в колонну по трое и зашагали прямо к линии горизонта, туда, где синел густой лес. Я все это время сидел пригнувшись, не решаясь высунуть носа. Вернувшись в ракету, долго мылся, чистил и драил одежду, особенно обувь, и размышлял об увиденном.
День третий
Многое дал бы я, чтобы понять то, что мне довелось сегодня увидеть. Я отошел от ракеты на добрых пятнадцать узлов, места там гораздо суше, но из расположенного по соседству болота плывут над самой землей белесые полосы тумана. Сперва я встретил одинокого курдля-самца – он спал на солнце, которое висело еще довольно низко. Должно быть, сны ему снились плохие, потому что он ужасно хрипел, а когда вздыхал, из его полуоткрытой пасти вырывался настоящий вихрь, разгонявший влажные испарения. Вонь едва не свалила меня с ног, поэтому я выполнил обходной маневр и зашел с наветренной стороны, чтобы сделать несколько снимков. Это удалось бы как нельзя лучше, но, увы, при перезарядке кассеты упали в яму, заполненную до краев водой и грязью, – след его ног, но я не решился нырнуть в эту липкую лужу. Этот курдль был настоящий колосс. Издали я было принял его за какой-то корабль, выброшенный бурей на берег, пока не увидел, как раздуваются от дыхания его бока. Со спины у него свисали лохмотья линяющей шкуры. Большой части хвоста недоставало. Потом в путеводителе я нашел описание таких особей – они теряют хвост, потому что сами его надгрызают. Такой курдль, обычно уже поседевший и серьезно пораженный склерозом, зовется плешехвостом. Как я вскоре убедился, старик был обитаем. Я снимал его с разных сторон, записывал на пленку его стоны во сне, а после, проголодавшись, подкрепился сухим провиантом, который взял с собой. Уже темнело, когда во все еще раздвинутой пасти засветились огни. Значит, курдли все-таки извергают огонь, подумал я, полагая, что это самовозгорание; но то были фонарики идущих друг за другом существ, таких же, как встреченные мною накануне. Однако эти одевались немного иначе. На них были треуголки a la «пирожок», несколько, осевшие от влаги, и маленькие фраки, перехваченные шарфами разного цвета. На шарфах что-то блестело, возможно ордена или медали, но с каждой минутой становилось все темнее, и даже с помощью полевого бинокля я не смог разглядеть получше из своего укрытия. На этот раз существ выпало из курдля очень много, чуть ли не две сотни. У меня на глазах они побежали навстречу друг другу, словно в атаку, но вместо того, чтобы сразиться, начали карабкаться друг на дружку, подскакивая и выгибаясь. Выглядело это как акробатический номер: они образовали четыре центра влезания, четыре столба из вцепившихся друг в дружку существ сотрясались от напряжения неподалеку, от спящего великана, а другие все прыгали на них и поспешно лезли наверх, словно бы решив, в коллективном помешательстве, соорудить из самих себя лестницу до самого неба, живую Вавилонскую башню; наконец с верхушек четырех телесных колонн они начали перебрасывать арки, сплетая руки и ноги, и тут меня словно током ударило: я понял, что они, собственно, делают. Из собственных тел они создали подобие курдля! Но безумием это вовсе не было, а если и было, то в их безумии имелась своя система, потому что один из них, покрупнее, весь обвешанный шарфами и знаками отличия, покрикивал в рупор мегафона; он явно руководил их усердным хватательным восхождением. Припомнив о том, что я вычитал в библиотеке МИДа в самых старых отчетах об экспедициях, я решил, что псевдокурдль двинется с места, хотя в то же самое время сознавал, что это невозможно физически. Тем временем взошла луна, и хотя вообще-то я не испытывал к ней симпатии – она напоминала мне о прежнем конфузе, – теперь она помогла мне своим сиянием. При полной луне я до тех пор разглядывал лжекурдля в ночной бинокль, пока не обнаружил в его конструкции любопытные закономерности. У члаков, изображавших ноги, шарфы были довольно узкие, неопределенного темного цвета – вернее всего, просто грязные. Те, что вскарабкались выше, носили шарфы пошире и посветлее, должно быть, желтые или светло-оранжевые, а члаки, лежавшие на самом верху, изображая лопатки и хребет, были перепоясаны крест-накрест двумя лентами, блестевшими так, словно в них были вплетены серебряные нити. Впрочем, эта живая постройка не могла стоять долго – ноги и брюхо все явственней дрожали от напряжения; но их командир, или дирижер, окруженный небольшой свитой, все еще властно покрикивал, а затем по его знаку появились трубачи, и в сопровождении труб раздалась приглушенная, но вполне различимая песнь. Впечатление было необычное и очень сильное, и я терялся в догадках, к чему им, собственно, все это. Что это: цирковой номер, государственная церемония, военный парад на месте или, наконец, ритуальный обряд наподобие религиозного? Впрочем, с тем же успехом это могло быть что-то совершенно иное, чему у нас и названия нет. Время от времени кто-нибудь из актеров отваливался от псевдотуши и украдкой, на четвереньках уползал в темноту, словно бы крайне пристыженный или испуганный своим невольным отступничеством. Продолжалось это с полчаса, а может и дольше, пока курдль не начал понемногу просыпаться. Тогда счетверенная пирамида мгновенно рассыпалась, сотни тел разлетелись в разные стороны, заиграли трубы, и четыре шеренги члаков поспешили к зевающему гиганту, чтобы при свете скачущих фонариков исчезнуть в его пасти. Туча закрыла луну, и я, уже мало что видя, все же успел разглядеть, что градоход постепенно встает сначала на задние, потом на передние ноги и торжественно трогается в путь. В брюхе у него так бурчало и громыхало, словно он страдал несварением желудка. Я возвращался к ракете в темноте, исполненный изумления. Ведь вот говорят, будто все уже было под солнцем, что нет ничего непонятного, раз законы Природы универсальны; тогда почему же они сперва вылезли из этого мерзкого старикана, а потом залезли обратно? Почему такое множество их так старалось на время превратиться в курдля? Что это было? Блуд? Блеф? Бред? Биомы? Ритуал? Адаптация? Государственные интересы? Генетический дрейф? Полицейский приказ? Голова у меня раскалывалась, главным образом от любопытства. В путеводителе о чем-либо подобном не было ни слова, ведь сочиняли его специалисты, не верившие, будто градоходы могут быть курдлями, живыми и обитаемыми одновременно. Впрочем, я уже понял, что гораздо больше надо доверять собственным глазам и ушам, чем взятой в дорогу литературе.
День шестой
Кратко отмечу, что сегодня наблюдал: А) столкновение двух градозавров; из одного выпала чуть ли не целая семья с парализованным дедушкой; В) нападение четырех малышей на великана; путем бодания в слабину они вынудили его к позорному бегству; по дороге он содрогнулся в судорогах и извергнул курдленка, который тут же вымазался в луже, встрепенулся, взбрыкнул и весело умчался в лес, так что это напоминало братскую помощь малышей проглоченному; С) падаль на прогулке.
Последний феномен стоит описать подробнее. Обливаясь седьмым потом, я продирался через высокие камышовые заросли между двумя рядами пологих холмов и на фоне неба, на верхушке одного из этих лысых пригорков, заметил силуэт курдля. Он не привлек моего особого внимания, – он ничем не выделялся, а просто шел примерно в ту же сторону, что и я, но на расстоянии в добрую милю от меня. Впрочем, сражаясь с камышом, который цеплялся за рюкзак, кислородный аппарат, футляры с кассетами и камеру, я меньше всего думал об этом одиноком колоссе – скорей уж о том, как выбраться на более твердое место; я просто тонул в тине, вонь которой, конечно, до самой смерти будет сопутствовать моим воспоминаниям об этой будто бы столь высоко развитой планете. Наконец, совершенно обессилев, я остановился, чтобы отдышаться, и лишь тогда шагающий далеко впереди курдль показался мне каким-то странным. Шел он, правда, довольно плавно, но иначе, чем те, которых я уже видел. Голову на длинной шее он держал жестко, словно проглотил палку, или, скорее, падающую пизанскую башню, хвост волочился за ним словно перебитый, а ноги он расставлял широко и на каждом шагу накренялся, иногда так сильно, словно вот-вот, упадет, но в последнее мгновение опять восстанавливал равновесие. Должно быть, больной, ведь у всех них тут полжизни уходит на извержение съеденного, подумал я и, вытерев пот со лба, двинулся дальше в камыши – впереди в них виднелся просвет. Теперь я уже чаще поглядывал в сторону курдля и не пропустил важного момента, когда он остановился – да так резко, что все четыре ноги у него разъехались, – и начал выполнять полный разворот назад, очень неуклюже, путаясь в собственном хвосте, который, поистине, только мешал ему, как колода под ногами. Развернувшись, курдль опять пошел в точности той же дорогой, по которой приковылял, а когда он спотыкался на неровностях почвы, голова у него подскакивала, словно и в самом деле вместо эластичного позвоночника в шее у него была стальная балка или что-нибудь в этом роде. Ну до чего же мертвый у него хвост, подумал я, и где это его так угораздило? Достав из футляра бинокль, я навел его на великана. Тот колыхался, словно корабль при сильной боковой волне, а между его лопатками, в широкой пролысине шкуры – там она была совершенно вытерта, – виднелось что-то разноцветное и полосатое; наведя фокус, я остолбенел от изумления. Там, на самой вершине курдельного хребта, между огромными шпангоутами работающих на марше лопаток, загорали на лежаках несколько члаков. Когда, же я навел бинокль на голову этого удивительного курдля, мое изумление перешло в ужас: я увидел выглядывающий из-под прогнившей шкуры череп, вместо глаз зияли черные ямы, а то, что я поначалу принял за недоеденный кусок, ветку с листьями или березку, свисавшую у него изо рта, было ужасным обрубком языка. Значит, это был труп, однако он двигался, и притом довольно бодрым шагом; я наблюдал его долго, пока наконец ветер не донес до меня мерные звуки, и вдруг я узнал в них барабан – или какой-то другой музыкальный инструмент. В курдле – а где же еще? – играл оркестр. Курдль шагал в такт ударам барабана, разумеется приглушенным, ведь они доносились из глубины брюха. Вернувшись на базу, я со стаканом персикового компота в руке (запас которого, к сожалению, уже вышел) принялся составлять план действий. Ракета ушла в землю на треть и больше не оседала, так что я мог бы оставаться здесь и дальше, ведь благодаря защитной окраске она почти невидима; но похоже было на то, что дальнейшее пребывание в этой местности немного мне даст. Поэтому я решил предпринять еще одну, последнюю рекогносцировку с целью добыть языка, впрочем, не особо надеясь на успех: курдляндцы не появлялись в одиночку, и мне ни разу не попался отряд меньше чем в тридцать члаков, а с такой ватагой я предпочитал не вдаваться в какие-либо разговоры; чутье мне подсказывало, что добром бы это не кончилось. Но я не так-то быстро отказываюсь от исследовательских проектов, за возможность осуществления которых заплачено веками ледяного сна, настоящей обратимой смерти; поэтому я собрал силы и приготовил ночное снаряжение, то есть ноктовизор, фонарь, немалое количество шоколада, термос с питьем, а также переводилку, модель, если верить фирменному каталогу, необычайно удобную, но нельзя сказать, чтобы легкую словно перышко, если вам нужно продираться сквозь болотные заросли, весила она почти восемь кило. Зато это была модель «первого контакта», рассчитанная, кажется, на восемнадцать верхне – и нижнекурдляндских диалектов, и уж если я собрался рисковать жизнью и здоровьем, она была в самый раз. Трудно сказать почему, но при восходе луны я направился на северо-запад, туда, где днем увидел шагающий по лысогорью труп. Однако, видимо сбился с пути, хотя и шел по азимуту, потому что забрался в чащу, о которой могу сказать лишь то, что там жутко воняло, а ветки стегали меня по лицу, и если бы не кислородная маска, закрывающая глаза, мне пришлось бы повернуть обратно несолоно хлебавши. Все же я продрался через эти дебри и взошел на какой-то одинокий курган, чтобы осмотреться при свете полной луны. Было тихо, над лугами стелился туман, что сверещало – как насекомое, не как птица; и, лишь далеко-далеко, почти у черного горизонта, было заметно какое-то движение. Быстро к ноктовизору – и уже не в первый раз за время моего пребывания здесь, сперва с удивлением, а потом со все большим испугом я глядел на вытянувшуюся через эти трясины цепь курдлей, шагающих прямо на меня растянутым полумесяцем; между ними то и дело поблескивали огоньки – по всей видимости, фонариков в руках спешенных члаков. Я почему-то сразу решил, что это облава. На меня или не на меня – об этом я не стал размышлять, такие тонкости сейчас не имели значения. Надо было укрыться, и притом хорошенько. Курдли, правда, шли шагом, но их шаг стоит моей рыси. А всего опаснее были пешие с фонарями, ведь в проворстве они мне не уступали. До передних оставалось каких-нибудь две тысячи шагов, а то и меньше, так что надо было либо немедленно начать отступление, либо решиться на встречу – с непредсказуемыми последствиями. Бог весть отчего особенно ужасало меня воспоминание о курдлите, восседающем с печатью в руке на подчиненном. Именно эта картина словно придала мне крылья. Этой ночью я, наверное, установил личный рекорд в кроссе по пересеченной местности. Я несся, падая и снова вставая, точно на север, где обрывалась линия облавы, рассчитывая обойти ее по большой дуге и до наступления рассвета исчезнуть в камышах. Это мне, к счастью, не удалось. Я говорю «к счастью» по двум причинам: во-первых, я почти наверное не успел бы и очутился в мешке, а кроме того, не встретил бы существо, о котором мне приятно вспоминать и поныне, как о своем Пятнице. Я понятия не имел, что мчусь прямо на территорию, заминированную и источенную старыми, развалившимися землянками на месте сгнивших пней, и что именно это – единственный путь к спасению; астронавтика, как впрочем и многие другие занятия, кроме сообразительности требует еще и капельку везения. Сопя как паровоз, я несся из последних сил, отчаянно высвобождая ноги из-под каких-то кривых, склизких корней, в полной уверенности, что, если я подверну ногу, хорошего будет мало, как вдруг земля подо мной расступилась и я полетел в черный провал; илистая грязь смягчила удар, и почти в то же мгновенье в этой египетской тьме я столкнулся с каким-то существом, существом разумным, с туземцем: когда оба мы закричали от неожиданности – или от страха, – под рукой у себя я почувствовал промокшую, тяжелую, грубую ткань одежды. Вот тебе и «первый контакт»! Ни я не мог увидеть его, ни он меня. Мы отскочили друг от друга как ошпаренные. Наверное, он тут же сбежал бы – только бы я его и видел (точнее, трогал); он прятался в этих норах давно и знал их, как собственные карманы; однако моя многолетняя выучка не прошла даром. Я включил переводилку и сказал, вернее, прохрипел в микрофон: «Не убегай, чужое существо, я твой друг, прибыл издалека, но с добрыми намерениями и не сделаю тебе ничего плохого». Что-то в таком роде, потому что с инозвездными существами не следует вдаваться в подробности; нетрудно представить себе, каково пришлось бы высокоразвитому люзанцу, который ночью высадился бы, скажем, в Иране или где-нибудь еще в Азии: он мог бы считать себя счастливчиком, отделавшись полугодом тюрьмы. По правде, я не рассчитывал на благоприятную реакцию соседа, и то, что он вдруг затих, было для меня приятной неожиданностью. «Кто ты?» – спросил я осторожно и добавил, что сам я ученый исследователь и прибыл сюда для изучения жизни курдлей. Он не сразу избавился от подозрений, но в конце концов внял моим уговорам и ощупал меня, проверяя, какое на мне снаряжение; как ни странно, он опознал ноктовизор, хотя такой модели он знать не мог – модель как-никак была японская. Слово за слово, не без, многочисленных недоразумений, мы все-таки нашли общий язык, и вот что я услышал от своего ночного товарища по несчастью. Он был молодым и многообещающим курдляндским научным работником, абсолютно преданным Председателю, а равно идее политохода, поэтому власти позволили ему продолжать учение в Люзании. После каждого семестра он возвращался домой, то есть в своего курдля. На беду, во время последнего возвращения он дал промашку и схлопотал пять лет Шкуры. Он не подал апелляцию, поскольку апелляция, как свидетельство особого упорства в заблуждениях, ведет обычно к ужесточению приговора. Я ничего не понял. Переводилка работала безупречно, но переводила она слова, а не стоящие за ними общественные явления. Мы сидели бок о бок в непроницаемом мраке, на пне, выступавшем из ила, и ели шоколад, который очень пришелся ему по вкусу. Он заметил, что нечто подобное ел в Люлявите – в университете этого люзанского города он работал над диссертацией по астрофизике. Медленно и терпеливо он объяснил мне, в чем заключалось его несчастье. Курдляндская пресса, правда, доходит до Люзании, но «Голос курдля», который он читал регулярно, о любых неприятных фактах умалчивает; поэтому он не знал, что на родине уже новый Председатель, а предыдущий вместе с тремя другими Суперстарами (Самыми Старшими над Курдлем) образует так называемую Банду Четырех, или ПШИК (Преступная Шайка Извергов и Кретинов). Едва лишь успев выкрикнуть обычное приветствие «О-ку-ку!», которым приветствуют Отцов и Кураторов Курдляндии, перечисляя в правильной очередности их титулы, награды и имена, он был немедленно арестован. Объяснения не помогли. Впрочем, он знал, что они никогда не помогают. Он получил пять лет Шкуры (Штрафного Курдля) и сбежал оттуда две недели назад. Курдль, из которого он бежал, воспользовавшись ротозейством охранников (они очень распустились на службе, говорил он, им все бы только солнечные ванны принимать на хребте), – действительно труп, трупоход, или курдьма, как говорят заключенные, которые приводят его в движение собственными усилиями, как галеру. Тут я начал припоминать, что о чем-то подобном читал в архиве МИДа. Однако я ни о чем не спрашивал – пусть выговорится. Будучи ученым, да еще астрофизиком, весть о моем земном происхождении он воспринял без особых эмоций. Он, впрочем, слышал о Земле и знал, что у нас никаких курдлей нет, в связи с чем выразил мне свое сочувствие. Я было решил, что это горький сарказм, но нет, он говорил совершенно серьезно. Интересно, что он никого не винил в своей участи, не сетовал на приговор и каторжные работы, хотя и жаловался, что масло для смазки суставов охранники почти целиком сбывают налево, из-за чего хребет прямо-таки лопается, когда чудовищные мослы приходят в движение, а скрипу и скрежету при этом столько, что можно с ума сойти. Что же касается нациомобилизма, он по-прежнему стоит за него стеной. Он лишь считал, что посылаемых за границу стипендиатов следует перед возвращением информировать в курдляндском посольстве; разве это по-государственному – заставлять таланты терять столько лет в Шкуре? Никто не должен быть подвергнут незаслуженной ломке карьеры! В Люзании, уверял он, полно энтузиастов политоходственности, особенно среди студентов и профессорско-преподавательского состава. Они там просто чахнут от всеобщего счастья.
Шоколад или что-нибудь в этом роде, конечно, лучше, чем бррбиций (похлебка из гнилых мхов и водорослей), но отдельные факты нельзя рассматривать в изоляции от Целого. Я осторожно заметил, что если бы «Голос курдля» давал добросовестную информацию, никто не рисковал бы кончить так, как кончил он. Он всплеснул руками. Я не видел этого, но почувствовал, ведь мы прижались друг к другу на этом прогнившем пне, спасаясь от пронизывающей ночной сырости. Но тогда, сказал он, пришлось бы расписывать и о люзанских лакомствах, а простой люд, у которого ум за разум зашел бы, пустился бы в повальное бегство из курдлей, и что стало бы с идеей политохода? Допустим, заметил я, ну и что, мир перевернулся бы из-за этого? Эти слова сильно его задели. Как же так, повысил он голос, полтора века идейных исканий, дезурбанизации и онатуривания общества, – все это должно пойти впустую потому лишь, что где-то есть что-то вкуснее бррбиция?
Чтобы его успокоить, я спросил об облаве. Он отвечал своим прежним, ровным, несколько грустным голосом, а переводилка скрежетала мне в ухо его слова. Ну конечно, он знал об облаве, как раз потому он здесь и спрятался, раньше это был политический полигон, он сам прошел здесь курс обучения три года назад, так что изучил местность до последнего бугорка. Знал он и как пройти через минные поля, ведь он сам укладывал эти мины. То, что я не взлетел на воздух, несколько его удивляло, но у него были заботы поважнее. Мы проболтали так полночи. Облава нас миновала; луна зашла, и стало тихо, словно в могиле. Я называл невидимого экс-шкурника Пятницей – его настоящее имя мне никак не давалось, хотя он произнес его по слогам раз шесть. Впрочем, какое это имело значение? Он обращался ко мне «господин Тоблер». Почему Тоблер? Так называлась фирма, выпускавшая шоколад с орехами, которым я его угостил, а он счел это моим именем. Имена собственные доставляют переводилкам больше всего хлопот. Мне показалось, что мое настоящее имя он считал определением моего характера (тихоня, или тихий омут). Я, впрочем, не разуверял его, мне не терпелось услышать побольше о нациомобилизме. Как можно заниматься астрономией в курдле? Разумеется, нельзя, ответил он снисходительно, но политоход – это прежде всего идея, а на одной идее долго не проживешь, нужно что-то конкретное на каждый день. В данном случае – курдли. Впрочем, жизнь в курдле – превосходная школа, формирующая esprit de corps, дух сотрудничества в тяжелых условиях, и открывающая перспективы на будущее. Какие? Ну, распрощаться с курдлем и поселиться где-нибудь под Кикириксом (или, может, Риккиксиксом); климат там очень здоровый, трясин никаких, курдлей тоже, в центре – правительственный квартал, но сам Председатель, а также Совет Суперстаров живут где-то в другом месте. У меня создалось впечатление, что ему известен адрес высшего курдляндского руководства, но он, хоть и побратался со мною в этой черной глуши, все же не до конца доверял мне. Говорят, сообщил он мне по секрету, что ни один из Суперстаров в жизни не видел живого курдля, а только Взгромоздонтов, то есть красочные композиции этих могучих животных, образуемые гражданами во время государственных праздников перед почетной трибуной, на которой стоит сам Председатель. Видимо, перед тем, ночью, я видел репетицию такого показа, ведь нужно немало потрудиться, чтобы проявить себя во всем блеске перед руководителями, под звуки гимна и шелест знамен. Ему самому посчастливилось когда-то быть верхней частью левой задней стопы такого Взгромоздонта. Он замечтался и тяжко вздохнул. Рискуя навлечь на себя его гнев, я спросил, что прекрасного, собственно, он видит в этой страшноватой твари? Вместо того чтобы возмутиться, он иронически рассмеялся и сказал, что не настолько уж он темен по части земных дел, каким я его, безусловно, считаю. У вас ведь есть государственные гербы, не так ли? Львы, а также орлы и прочие птицы. И что же прекрасного в этих оперенных тварях? Или вам неизвестно, что орел разрывает своими когтями и клювом всевозможные невинные создания, а также делает под себя в гнезде? Разве это мешает вам склонять голову перед его изображением? Но мы, возразил я, не живем ни в орлах, ни во львах. Не живете, пожал он плечами, потому что не поместились бы. Нам просто больше повезло. Нациомобилизм – это освященная временем традиция, курдль – ее воплощение, его биология – наша государственная идеология, а тот, у кого есть шарики в голове, не окончит свои дни в брюхе, и, если бы не фатальная случайность, он уже через год сидел бы за отличным импортным телескопом под Кикириксом. Впрочем, в здоровом теле – здоровый дух. Ни один люзанец (он говорил «люзак») не выдержал бы и трех дней в такой яме, питаясь кореньями, а он вот живет здесь уже две недели и не жалуется, потому что в Шкуре еда была немногим лучше. Я спросил, как ему показалась Люзания. Ведь там ему жилось хорошо? Конечно, ответил он, и он даже намерен пробраться через границу в Люлявит и продолжить занятия на факультете профессора Гзимкса, его научного руководителя. Он засядет за докторскую диссертацию с тем, чтобы вернуться, когда объявят амнистию или когда нынешний Председатель окажется демоном и чудовищем. Ибо он патриот и следует принципу: right or wrong my country.[64]64
это моя страна, права она или неправа (англ.)
[Закрыть] Впрочем, какое там wrong![65]65
неправа (англ.)
[Закрыть] Каждый, кто сидит в курдле, живет надеждой поселиться под Кикириксом, а эти люзанцы не ждут уже абсолютно ничего. Приходилось ли мне слышать о синтуре, гедустриализации и фелискалации – фелитационной эскалации? Вот именно. Курдля можно покинуть раз в полгода на 24 часа, получив пропуск, а этикосферу, эти путы и кандалы ошустренного счастья – никогда, никоим образом, и если бы я только знал, как завидовали ему его молодые коллеги, когда он возвращался в Курдляндию на каникулы… Я спросил, что бы с ним сделали, если б его захватила облава, и этим страшно его обидел – или же возмутил. Он назвал меня бесстыдным чужеземцем, слез с пня на землю и лег спать. Я посидел над ним какое-то время, потом лег рядом и мгновенно заснул. Проснулся я на рассвете один. Пятницы и след простыл. Он даже не объяснил мне, где проход через минное поле. К счастью, моя собственная тропа застыла в ледяной кашице и, осторожно ступая в свои следы, к полудню я добрался до ракеты, встретив по пути лишь курдля-малыша, барахтавшегося в луже. Благодаря Пятнице я знал, что это либо пустующая жилплощадь, либо односемейные домики функционеров среднего звена. Но я уже был сыт по горло курдлями – любой масти, формата и темперамента. Я устроил стирку, выгладил визитный костюм, слегка перекусил и взлетел на такую высокую орбиту, с которой можно было вернуться на Энцию с космической скоростью – я не намеревался ставить люзанцев в известность о своем пребывании в Курдляндии. Я хотел появиться на их радарах в качестве прибывающего прямо с Земли ее полуофициального посланника. Так было вернее. Установив связь с космодромным диспетчерским пунктом под Люлявитом и приняв пожелания удачного приземления, я приготовился к неизбежным в таких случаях церемониям: мне дали понять, что кроме председателя и активистов Общества энцианско-человеческой дружбы будут представители государственных органов. Бриллиантом первой величины засияла на моем экране столица Люзании – незадолго до наступления полночи; так сложилось, что приземлялся я, когда солнце давно зашло. И двумя великолепными изумрудами в одной оправе с этим бриллиантом вспыхнули его города-спутники Тлиталутль и Люлявит. Посадку я выполнил и на откинутом кресле, уже в своем лучшем костюме, слушал кошачью музыку, гремевшую из бортового репродуктора. Похоже, люзанцы, не разобравшись в моей государственной принадлежности, встретили меня гимнами сразу всех государств – членов ООН. Результат бы чудовищный, но я понимал, что этот шаг был продиктован политическими, а не мелодическими соображениями. В три минуты первого я стоял в открытом люке корабля и в пылающем свете прожекторов, бьющем со всех сторон, под звуки оркестров начал спускаться по ковровой дорожке трапа, улыбаясь собравшимся толпам и приветственно махая руками над головой. При этом я не забыл украдкой взглянуть на корпус ракеты и убедился, что атмосферное трение обуглило ее и скрыло следы грязи, свидетельствующей о моей курдляндской эскападе. Чуть ли не галопом вели меня мимо приветствующих шпалеров все дальше и дальше, – наверное, подумал я, чтобы избавить от настырных телеоператоров и журналистов. От гигантского вокзала в памяти у меня не осталось ничего, кроме гомона и ярких огней. Я даже толком не знал, кто меня окружает; меня бережно вели, направляли, подталкивали, пока наконец я не погрузился во что-то мягкое, и мы тронулись неизвестно на чем, неизвестно куда. Ошеломленный переходом из туманных болотных пространств в водоворот ночной метрополии, я потерял дар речи, с бешеной скоростью несомый куда-то; пандусы, стартовые установки, гул, блеск, визг обрушивались на меня отовсюду, словно я был средоточием хаоса, на волосок от превращения в какое-то месиво; я уже не отличал крыш от дорог, машин от ламп в этом блеске и в этой гонке, напряженной, как готовая лопнуть струна; я съеживался, словно дикарь, с огромным усилием притворяясь спокойным. Не знаю, куда меня привезли, там был парк, подъезд, который оказался лифтом, наш экипаж раскрылся, словно разрезанный апельсин, мы вышли, уши у меня заложило, толстый люзанец с совершенно человеческим лицом воткнул мне в бутоньерку орхидею, которая тут же заговорила – это была микропереводилка, мы прошли сквозь несколько залов, приводивших на мысль дворец и музей одновременно, статуи уступали нам дорогу, – роботы? – нет, богоиды, сказал кто-то; ковры, а может, газоны – это в доме-то? – бронза, алтари (или столы?), кто-то заметил, чтоб у меня нет темных очков, мне вручили их, я поблагодарил, действительно, очень уж много было повсюду золотых слепящих поверхностей, двери открывались, словно вытянутые радужные оболочки кошачьих глаз, сверху сыпалась на нас розовая пыльца, а может, это был какой-то туман; мебель пела – или это были куранты? – но шляпа люзанца, идущего рядом, тоже вроде бы что-то мурлыкала, потому что, когда он швырнул ее богоиды, стало тихо; в полукруглом зале, окно которого смотрело на город, пылающий в ночи своими галактиками, к нам подлетели маленькие амурчики на крылышках, с подносами, уставленными закусками, но прежде чем я понял, что это, один из сопровождающих сделал знак – мол, не нужно; они улетучились, еще один зал, сверху темный, зато светились пальмы или кусты. Меня провели в следующую комнату. Я увидел голые стены, в углу – что-то вроде домашней мастерской, белый ковер, запачканный или прожженный химическими реактивами, крюк в стене, ошейник на цепи, и я остановился, неприятно пораженный всем этим, но они упрашивали меня подойти и взглянуть, один из них взял ошейник, надел на себя, повращал глазами будто от восхищения, снял, остальные смотрели внимательно, с напряжением, как-то скованно улыбались – так что же? мне надеть этот ошейник?