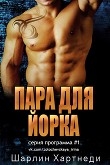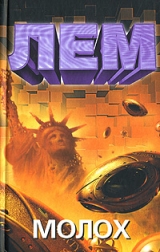
Текст книги "Молох (сборник)"
Автор книги: Станислав Лем
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 63 страниц)
Я не начал эссе с рассмотрения теста Тьюринга, чтобы подойти к нему с другой стороны. Играя в прогнозирование, можно сказать, что в будущем компьютеру проще будет подражать человеку, чем человеку – компьютеру. Космологическое моделирование, результаты которого в свое время были опубликованы в « Scientific American», показывающее, как будет «выглядеть» Вселенная через сто миллиардов лет, ЕСЛИ ее общей массы не хватит, чтобы ее «захлопнуть», то есть она будет расширяться до тех пор, пока весь звездный огонь не сожжет без остатка свою атомную массу, было убедительной демонстрацией таких далеко идущих компьютерных возможностей в области моделирования, которое потребовало бы труда сотен математиков в течение многих сотен лет. Однако уже на нашем горизонте видна перспектива, по-моему, более оригинальная, чем ответ на тест Тьюринга. Речь идет о следующем: компьютерное моделирование эволюционных процессов происходит исключительно «внутри» машин, и огромная пропасть между реальным миром и цифровым миром (между «телом и духом», «материей и информацией») остается, но ее могут начать заполнять новые создания, которые являются одновременно конструкторски и информационно «выращенными» прототипами малых, псевдоживых (мертвых, нафаршированных только электроникой) «творений», используемых сегодня в игре различных «нанологов», инженеров-чудаков, но которые смогут в будущем дать начало такой эволюции, которая самостоятельно стартовать не смогла бы. Это была бы «квазимеханическая эволюция» или, может быть, электронно-информационная и даже квантово-молекулярная, начатая, как я уже говорил, людьми и людьми направляемая и управляемая, но способная на некотором этапе к «принятию эстафеты», то есть к проявлению «самостоятельной инициативы» как следствия укрепляющейся суверенности и возникающих специализированных направлений. ДЛЯ ЧЕГО такая эволюция нужна? Этот вопрос немного опережает событие; так же, как и на вопрос, заданный братьям Монгольфье, «для чего нужен» бумажный шар, уносимый теплом нагретого воздуха, не последовал бы ответ, что он нужен для полетов с континента на континент. Другой, не существующий ныне «континент» МОЖЕТ в будущем стать открытым благодаря человеческим конструкторским увлечениям, и неизвестно, сколько его освоение принесет нам пользы… и проблем. В повести «Фиаско» я об этом намекнул… но лишь односторонне, с военным уклоном, который, к сожалению, больше соответствует агрессивной природе человеческого рода…
12История информатики, развивающаяся от начальной «обработки данных» до современной антропоцентричности и ведущая к будущим возможным достижениям, эта история включает в себя биогенетику, существующую три миллиарда лет и породившую мир многоклеточных, из которых через ветвь гоминидов произошел Человек. Эта огромная, измеряемая уже по геологической шкале целостность, если попробовать ее описать в афористичной форме, могла бы выглядеть следующим образом.
Data processing [33]33
обработка данных (англ.).
[Закрыть]началась с самой простой первобытной самоорганизации, или жизни, а затем продолжилась в молекулярном диапазоне авторепликаторов; из них появился генетический код, который изменялся миллиарды лет, пока не получил тот потенциал проспективной развивающейся силы, породившей и амеб, и динозавров, и нас, а мы, в свою очередь, уже в макрошкале, вначале ПРОВОДИМ data processingв компьютерной среде, где очищенная от телесного груза информация с информацией скрещивается и где информация преобразуется с такой скоростью, которую жизнь «сама» бы не развила. А когда этот этап «автономии информационного эволюционирования» покинет компьютеры, ибо воплотится в созданные благодаря их развитию технобионты, то есть мертворожденные по своей природе элементы, но по своей функциональной активности «как будто живые», причем «живые в развитии», то огромная панорама прошлого, настоящего и будущего окажется компактной логической системой, в которой микрожизнь зачала макрожизнь, породившую в свою очередь «универсальное существование»: от молекул – через организмы – к неведомым нам еще и даже сегодня не имеющим собственного названия «технобионтам». Если так думать и так смотреть, можно признать, что этот путь развития, где человек не цель, а этап панэволюции, ведет в Космос, к которому, как уже мы знаем из основ астронавтики, не только физически, но и чувственно, и психологически мы не очень-то приспособлены, потому что слишком прочно отпечатались в человеке знаки, атрибуты и ограничения, вызванные его исключительно земным, локальным околосолнечным возникновением. Этот взгляд не является прогнозом, он – нечто большее, чем прогноз, предоставляющий фантастические возможности. Правдоподобие исполнения может быть скромным, но высшая цель вначале должна быть всегда. Можно взглянуть на представленную выше картину и как на трагифарс, который случился или может случиться с Разумом человека, вообразившим себя высшей Космической Постоянной, хотя это окажется только прелюдией к следующей, трансантропической фазе «информационного овладения Вселенной». В таком виде это спроектированное целое приобретает горьковатый привкус, как если бы мы должны были признать поражением акт деуниверсализации или свержения с престола смертного Разума…
«Информационный барьер?» [34]34
«Bariera informacyjna?», 1993. © Перевод. Язневич В.И., 2004
[Закрыть]
1В книге «Сумма технологии», которой уже добрых тридцать лет, я ввел метафорические понятия «мегабитовой бомбы» и «информационного барьера». Я писал, что ключом к познанию является информация. Стремительный рост числа ученых во время промышленной революции вызвал известное явление: количество информации, которую можно передавать определенным ей каналом, ограничено. Таким каналом, соединяющим цивилизацию с окружающим миром, является наука. Рост числа ученых ведет к увеличению пропускной способности этого канала. Однако этот процесс, как и любой рост показателей, не может длиться долгое время: когда кандидатов в ученые будет недостаточно, взрыв «мегабитовой бомбы» ударит в «информационный барьер».
2Изменилось ли что-нибудь в этой картине за тридцать лет? Прежде всего хочу заметить, что попытки установления предельной вычислительной мощности компьютеров «последнего поколения» или обнаружение – в сфере информатики – эквивалента известной в физике предельной скорости, приписываемой свету, предпринимались неоднократно, однако результаты оценок серьезно расходились между собой.
С учетом величин, свойственных физике, а именно скорости света и постоянной Планка из принципа неопределенности, было рассчитано, что наиболее производительный компьютер, который может обрабатывать данные с предельно допустимой скоростью, будет размером с куб (шестигранник) со стороной в 3 см. Однако предпосылкой, о которой не было сказано в основных положениях, был исключительно последовательно-пошаговый, итерационный способ выполнения команд, в наипростейшем виде характерный для автомата Тьюринга, принимающего только одно из двух состояний: 0 или 1. Так что любую команду компьютера шагового (последовательного) типа можно выполнить этим простейшим автоматом, только на то, что какой-нибудь Crayвыполнит в доли секунды, автомату Тьюринга понадобятся эоны времени.
Но вскоре стало ясно, что можно также конструировать компьютеры с параллельно выполняемыми программами, хотя их программирование и функционирование ставит серию очень трудных для решения проблем. Доказательство, что такие компьютеры можно сконструировать, мы носим в собственной голове, потому что мозг в основном, хотя и не только по своему строению, является своеобразным видом параллельного компьютера, состоящего из двух больших подотделов (полушарий), а в них, в свою очередь, царит также очень странная для человека-конструктора «стратегия размещения» подотделов низшего порядка.
Для нейрофизиологов это был настоящий хаос, состоящий из одних загадок, а явления выпадения отдельных функций, например при афазии, амнезии, алексии [35]35
Потеря речи, памяти, способности читать соответственно.
[Закрыть]и т. д., эти исследователи могли констатировать, но не могли объяснить их причину и механизм. Впрочем, очень много таких и подобных явлений, происходящих в нашем мозгу, мы по-прежнему не понимаем как следует. Мозг может воспринимать информацию со скоростью от 0,1 до 1 бита в секунду, в то же время сегодня поток новой информации проникает в него со скоростью между тремя и двадцатью битами в секунду.
Объем человеческих знаний удваивается примерно каждые пять лет, причем время этого удвоения постоянно уменьшается. На переломе ХIХ—ХХ веков период этот составлял около пятидесяти лет. Ежедневно в мире публикуется 7 тысяч статей, печатается более 300 миллионов газет, а книг – 250 тысяч, радиоприемников и телевизоров эксплуатируется уже около 640 миллионов. Поскольку эти данные четырехлетней давности, они наверняка являются заниженными, особенно из-за стремительного роста знаний благодаря спутниковому телевидению.
Количество уже накопленной человечеством информации составляет 10 14битов и к двухтысячному году удвоится. Несомненно, что информационная восприимчивость мозга уже исчерпана: за пределами науки проявления этой «информационной астении [36]36
бессилие.
[Закрыть]» можно легче заметить, нежели в самой науке, особенно если ограничиться точными науками. Их окружает «нимб» в виде псевдо– и квазинаук, которые везде пользуются большой популярностью, поскольку речь идет, как правило, о «знаниях» ничего не стоящих и фальшивых (астрология, знахарство, сектантские чудеса типа « Christian Science» и все «психотроники», такие как телепатия, телекинезия, «тайные знания», сведения о «летающих тарелках» или «тайнах пирамид» etc.), но милых простыми, манящими обещаниями объяснения человеческой судьбы, смысла существования и т. д. и т. п.
Я ограничусь здесь областью точных наук, в которые тоже, впрочем, вторгся уже давно поток мутных фальшивок, не только вредных, но и подрывающих общественный статус науки: обман в науке встречается все чаще, а способствует этому все еще актуальное правило « publish or perish [37]37
опубликовать или погибнуть (англ.).
[Закрыть]». Многие факторы способствуют увеличению информационного потопа. В то же время упоминаемая выше псевдонаучная сфера подвергается информационным самоограничениям, которые зритель, имеющий спутниковое телевидение и желание сравнить программы, легко может заметить. В смысле сюжетных отличий почти все мировые передатчики очень незначительно отличаются друг от друга, что попросту означает, что программы отдаленных друг от друга государств, стран, языковых территорий почти совпадают по сути.
Это не является ни сознательным «сидением на телевизионной диете», ни плагиатом: просто пресыщенная общественность хочет смотреть известные и очередные варианты сюжетов каких-нибудь тарзанов, трех мушкетеров, а в США – войн с индейцами, гражданской войны, в Европе же – последней мировой войны. Информационная аллергия в визуальной области является очень сильной, новаций на передающих станциях боятся больше, чем огня, и в то же время ценят видимость инноваций. Я, конечно, не играю здесь роль критика, поскольку не оцениваю и поэтому не умаляю достоинств программ, что было бы легко сделать, а стараюсь только глубже обнажить причину известного телезрителям по опыту факта, сущность которого заключается в странной схожести множества якобы совершенно различных, независимо создаваемых программ. Поэтому чрезвычайно трудно сориентироваться, если выключить звук, смотрим ли мы программу, транслируемую из Турции, Великобритании, Голландии, Швеции, Дании, Испании и т. д., потому что отовсюду на нашу антенну течет почти одна и та же манная кашка с перцем.
3Поэтому средний человек спасается от информационного потопа, сокращая ливень битов и исключая те, которые не являются «обязательными» для умственной абсорбции. В повседневной жизни это проявляется в усиленном этноцентризме средств массовой информации, в «нарастающей толстокожести» по отношению к содержанию, которое может шокировать или ранить чувства, однако в науке такого рода сдержанность не допускается. Отсюда нарастающий вес подкрепления, которое приносит информатика дивизиону компьютеров. Как любое новое явление, хотя по-настоящему, буквально, уже не новое, компьютеризация стала необходимой и одновременно несущей новые проблемы сферой жизни: в странах, в которых компьютеризация делает только первые шажки (к которым de factoпринадлежит и Польша), хлопотами и дилеммами еще не насладились. Первый же пример прояснит, в чем может состоять суть. В романе SF«Возвращение со звезд» в 1960 году я ввел в сюжет «калстеры» как маленькие приспособления, заменяющие оборот и циркуляцию денег. Конечно, в романе нет места для описания инфраструктуры этого «изобретения»! Но в настоящее время в периодике (например, американской) уже пишут о « smart cards», использующих тот же принцип. Денег в обороте может вообще не быть, оплата чеками тоже может стать прошлым, потому что каждый имеет счет в банке, а в кошельке – « smart card». Расплачиваясь, человек подает эту карту кассиру, который вводит ее в кассовый аппарат, соединенный с банком. Компьютер передает банковскому компьютеру, сколько денежных единиц нужно списать со счета; то же самое происходит по маршруту плательщик (или его компьютер) – банк – плательщик (или его «калстер»).
Все это очень хорошо, но при условии, что к нашему счету никто не доберется какой-нибудь «электронной отмычкой»; но, как известно, уже давно возникли и « computer crime», и «хакеры», которые смогли добраться к наиболее охраняемым компьютерам разных генеральных штабов. Наличные можно закопать, спрятать в сейфе, но банковские компьютеры наверняка будут подвержены многочисленным проводным или беспроводным атакам. Явление «вирусов», в свою очередь, нам уже так знакомо, что не стоит заниматься этой «темной» стороной информационной жизни.
4«Информационный барьер» в науке можно пробить, пользуясь, с одной стороны, компьютерными сетями, в которых компьютеры подобны нейронам мозга (а каждый нейрон, как мы знаем, косвенно или напрямую соединен с десятками тысяч других, поэтому сведения, что в мозгу насчитывается 12 или 14 миллиардов нейронов, являются неким недоразумением, поскольку речь идет о числе соединений, а не единиц, работающих только по принципу flip-flop), а с другой стороны – компьютерами-гигантами, представителем которых может быть мой «Голем ХIV» из рассказа с этим же названием.
Здесь я должен, наверное, объяснить, откуда у меня там взялась и на что опирается концепция увеличения сверхголемной «терабайтовой мощи», разделенная в ходе развития «зонами молчания». По смыслу это не является «чистой фантазией», поскольку я давным-давно выбрал себе путеводной звездой или скорее путеводным созвездием естественную эволюцию жизни на Земле. Может быть, самым характерным в ней был такой процесс поочередного возникновения видов растений и животных, который определялся непостоянным (дискретным) возрастанием сложности. Так как вначале возникли зачатки жизни, о которых нам ничего не известно, кроме того, что на протяжении трех миллиардов лет (по меньшей мере) был создан генетический код с его удивительной созидательной универсальностью; из них возникли водоросли, способные к фотосинтезу, потом – бактерии, простейшие, морская флора, затем – рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и, наконец, – млекопитающие, венцом которых стали гоминиды с человеком во главе. Между этими видами зияли очень существенные пропасти, хотя когда-то между ними существовали переходные формы, скажем, между пресмыкающимися и птицами или рыбами и земноводными, но от них ничего не осталось. Это разделение видов, как и «зоны специального молчания», я посчитал достаточно важными, чтобы «перенести» его в область развития мозга, где они являются следствием первичных, определенных физиологией и анатомией задач, которые должна выполнить нервная система каждого живого существа (если это существо – животное).
5Конечно, концепцию конструирования мощнейшего компьютера как «кубика» со стороной в 3 см следует отбросить. Будет ли создание все больших компьютеров более перспективным направлением, чем производство сетей, подобным нейронным, – покажет только будущее. В настоящее время сравнение мозга с компьютером последнего поколения выглядит следующим образом. Мозг является строго параллельной, многопроцессорной системой, состоящей из порядка 14 миллиардов нейронов, создающих трехмерную структуру, в которой каждый нейрон имеет до 30 тысяч соединений с другими нейронами.
Если каждое соединение выполняет только одну операцию в секунду, то мозг теоретически в состоянии выполнить в это же время десять биллионов операций. Flip-flopнейрона длится миллисекунды. Сложные задания типа распознавания и понимания языка мозг выполняет примерно за секунду, так как требует нескольких расчетных операций, в то же время компьютеру требуется на выполнение аналогичного задания миллион элементарных шагов.
Поскольку нейрон, будучи «простым» устройством типа flip-flop, не может передать другому нейрону какие-нибудь сложные символы, работоспособность мозга зависит от большого числа взаимных межнейронных соединений. Благодаря этому мы легко пользуемся языком или языками и в то же время перемножить в уме два многозначных числа – уже проблема, с которой не каждый справится. Феномен неслыханно быстрых мастеров счета, которые в остальном могут быть даже дебилами, является для меня здесь отдельной загадкой, поскольку свидетельствует о существовании разнообразных подотделов, способных даже – и только ли тогда – к точнейшему действию, когда в общем-то другие нормальные отделы повреждены! (Мозг, говоря в общем, значительно легче переносит повреждения, нежели компьютер.)
Современные суперкомпьютеры действуют (как утверждают эксперты) на уровне развития пятилетнего ребенка (речь идет о внечувственной сфере). Ситуация выглядит скорее парадоксально, когда для симулирования (моделирования) мозга в режиме реального времени понадобились бы тысячи компьютеров самой высокой вычислительной мощности, в то же время для моделирования арифметических расчетов были бы необходимы миллиарды людей…
Элементарная операция нейрона длится (как уже говорилось) около 1 миллисекунды, в то же время компьютер может выполнить ее в течение наносекунды, то есть он работает на шесть порядков быстрей. Тем не менее человек, входя в кафе, узнает лицо знакомого, которого ищет, в долю секунды, а компьютеру потребуется на то же самое несколько минут…
6Едва ли не ключевым для нашего (человеческого) будущего является ответ на вопрос, может ли информационная способность компьютеров в смысле истинного творчества стать созидающей: решение довольно трудного математического задания не много имеет общего с творчеством, которое я имею в виду, поскольку ответ в виде решения уже «таинственно присутствует» в математической структуре поставленной задачи. Позволю себе вернуться к книге, которую процитировал в начале. Я писал в ней, что переход от истощающихся источников энергии к новым, то есть от силы мышц, животных, ветра, воды к углю, нефти, а от них, в свою очередь, к атомной энергии требует предварительного сбора информации. Только когда (благодаря методу trial and error [38]38
метод проб и ошибок (англ.).
[Закрыть]) количество этой информации перейдет определенную «критическую точку», опирающаяся на нее новая технология откроет нам новые виды энергии и деятельности. Если бы (как я писал) ресурсы топлива (угля, нефти, газа) были исчерпаны, например, к концу ХIХ века, то сомнительно, смогли ли бы использовать атомную энергию в середине ХХ века, поскольку ее высвобождение требовало огромных мощностей, полученных вначале лабораторно, а затем в промышленном масштабе. Однако (писал я тогда) человечество (даже и сегодня) совершенно не готово перейти на эксплуатацию исключительно атомной энергии…
Объявленная же Флейшманом и Понсом « cold fusion» (холодная диффузия) дейтерия в гелий быстро дискредитировала себя как ошибочная, хотя в последнее время японцы (главным образом) снова приступили к экспериментам в этой области, так что пока «ничего определенного не известно». Говорю об этом в контексте информатики потому, что мы уже можем смоделировать или сымитировать на компьютере вид Космоса через сто миллиардов лет (это уже делалось), но только при установлении таких стартовых параметров, которые соответствуют современным знаниям космологии, и при этом мы не можем получить из этой модели неожиданных сведений – неожиданных потому, что их не хватает в исходных (стартовых) данных. Ниже приведу пример, который может удивить не одного читателя.