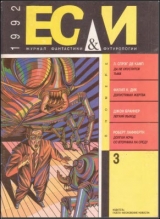
Текст книги "Журнал «Если», 1992 № 03"
Автор книги: Станислав Лем
Соавторы: Филип Киндред Дик,Лайон Спрэг де Камп,Элвин Тоффлер,Роберт Лафферти,Ярослав Голованов,Джон Бранер,Евгений Попов,Борис Пинскер,Геннадий Жаворонков,Виктор Гулъдан
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Станислав Лем
«Do yourself a book»

Написание истории восхождения и упадка «Do yourself а book» было бы занятием весьма поучительным. Это новообразование издательского рынка стало предметом полемики столь ожесточенной, что она заслонила само явление. Поэтому причины, из-за которых предприятие потерпело крах, по сей день остаются неясными. Никто так и не отважился изучить общественное мнение по этому поводу. Что, кстати, вполне объяснимо: вероятно, публика, которая в конечном итоге и определила судьбу предприятия, этого так и не осознала.
Изобретение это висело в воздухе в течение добрых двадцати лет, и остается только удивляться, почему его не осуществили раньше. Помню первые экземпляры «Постройте повесть!» Это была коробка в виде довольно объемистой книги, содержащая инструкцию и список «строительных элементов». «Стройматериалами» служили полоски бумаги неодинаковой ширины с напечатанным текстом – отрывками прозы. На полях каждой полоски были отверстия для удобства переплета и несколько цифр, нанесенных разными цветами. Уложив все полоски в соответствии с нумерацией в основном, черном, цвете, вы получали «выходной» текст, который состоял, по крайней мере, из двух произведений мировой литературы, соответствующим образом сокращенных.
Но если бы идея ограничивалась только этим, она была бы лишена коммерческой ценности. Весь смысл заключался в возможности тасования элементов. Обычно инструкция давала несколько примерных вариантов комбинаций, подсказанных цветными цифрами на полях. Идею запатентовал «Universal», посягая на книги, на которые давно уже не распространялось авторское право. Это были произведения классиков: Бальзака, Толстого, Достоевского, сокращенные анонимным штабом издательства. Изобретатели адресовали подобную кашу тем, кого могло бы поразвлечь уродование шедевров (а скорее, их примитивных версий). Берешь в руки «Преступление и наказание», «Войну и мир» – и можешь делать с персонажами, что пожелаешь. Наташа способна промотать состояние перед свадьбой, Свидригайлов – жениться на сестре Раскольникова, а тот избежать возмездия и уехать с Соней в Швейцарию, Анна Каренина – изменить мужу не с Вронским, а с лакеем и т. д. Критика в один голос ополчилась на такой вандализм; издатель, как мог, оборонялся, и нередко довольно ловко.
Приложенная инструкция утверждала, что таким образом можно научиться искусству компоновки беллетристического материала («великолепная школа для начинающих писателей!»); можно также использовать игру как проекционный психологический текст («скажи мне, что ты сделал с «Аней из Зеленого Взгужа», и я скажу, кто ты»).
То есть, издатели умело создавали вид, что далеки от цинизма. Они даже предостерегали в инструкции от применения «бестактных» комбинаций. Речь шла о перестановках текста, которые придавали сценам первоначально чистым, как снег, коварный смысл: один лишь новый акцент привносил в невинный разговор двух женщин лесбийский оттенок; с помощью ряда фраз можно было подвести к выводу, что в благородных семьях Диккенса занимались кровосмешением. «Предостережение» издателей было, разумеется, поощрением к действию, сформулированным так, чтобы никто не мог обвинить производителей в оскорблении нравственности. Но коль скоро инструкция предупреждала, что так делать не следует…
Разъяренный бессилием (с юридической точки зрения позиции издателей были неуязвимы), известный критик Ральф Саммерс писал тогда: «Итак, современной порнографии уже недостаточно. Нужно тем же способом надругаться надо всем, что создано гением не только свободным от грязных стремлений, но именно им противостоящим. Эта нужда в суррогате Черной Мессы, которую каждый может разводить в домашнем уединении на беззащитном теле побитых классиков и всего за четыре доллара – настоящий позор».
Вскоре оказалось, что Саммерс переборщил в своем кассандровом выступлении: интерес в целом был не столь велик, как ожидали издатели. Те рассчитывали, например, на такие пункты «инструкции»: «Do yourself a book» позволяет Вам приобрести такую же власть над судьбами людей, подобную власти Бога, которая до сих пор была привилегией только величайших гениев мира!» По этому поводу Ральф Саммерс в одной из своих статей писал: «Можешь своей рукой низвергнуть все возвышенное, испаскудить все чистое, причем, твоей работе будет сопутствовать приятная уверенность, что ты не должен больше выслушивать, что именно тщился сообщить тебе какой-то там Толстой или Бальзак, потому что можешь в этом хозяйничать, как только пожелаешь!»
Но кандидатов в «засорители» оказалось на удивление мало. Саммерс предвидел» расцвет «нового садизма, проявляющегося как агрессия против прочных ценностей культуры», а тем временем «Do yourself a book» едва удавалось сбыть. Неужели, как предполагали некоторые (очень уж редкие сегодня) идеалисты, публика отказала предприятию в «издевательстве над шедеврами»? Приятно было бы верить, что публикой руководила «та естественная доля рассудка и праведности, которую субкультурные судороги нам успешно заменили» (Л.Эванс). Но пишущий эти слова не разделяет – хотя желал бы! – мнение Эванса.
Что же все-таки произошло? Все оказалось гораздо проще, чем можно было предположить. Для Саммерса, Эванса, для меня, для нескольких сот критиков, ушедших в ежеквартальные университетские журналы, и еще для нескольких тысяч далеких «яйцеголовых» по всей стране – Свидригайлов, Вронский, Соня Мармеладова или же Ваутрин, Аня из Зеленого Взгужа, Растиньяк – персонажи знакомые, близкие, нередко даже более рельефные, чем множество реальных лиц. Для широкой публики это пустые звуки, имена без содержания. В то время, как для Саммерса, Эванса, для меня соединение Свидригайлова с Наташей было бы актом чудовищным, публика видела в этом лишь союз г-на X с г-жой Эпсилон. Не будучи для широкой публики устоявшимися символами – что благородству учить, что разврату – персонажи не приглашали ни к растленной, ни к какой другой игре. Они были абсолютно, великолепно, совершенно индифферентны. Они никого не волновали.
Итак, издатели, несмотря на циничность, именно до этого не додумались, потому что на самом деле не ориентировались в ситуации на рынке литературы. Равнодушие к ценностям культуры простиралось значительно дальше, чем представляли себе авторы игры. В «Do yourself a book» не желали играть не потому, что благородно воздерживались от унижения шедевров, а просто потому, что не видели никакой разницы между книжкой четвероразрядного писаки и эпопеей Толстого. Одна точно так же оставляла читателя равнодушным, как и другая. Если даже и тлело у публики «желание попрать», то, с ее точки зрения, «для попрания не было ничего интересного».
Усвоили ли издатели этот урок? В определенном смысле, да. Не думаю, что они уяснили суть дела, но – руководствуясь инстинктом, нюхом, чутьем – все-таки начали поставлять на рынок такие варианты «строительства», которые раскупались лучше, поскольку позволяли стряпать уже чисто порнографические «складанки». Видя, что, по крайней мере, священные руины шедевров оставили, наконец, в покое, критики вздохнули с облегчением. И сразу проблема перестала их интересовать: со страниц элитарных литературных ежеквартальных изданий исчезли статьи, в которых головы (яйцевидные) посыпались пеплом.
Олимп пробудился еще раз, когда Бернард де ла Тэйл, соорудив повесть из переведенного на французский «Do yourself a book», получил за нее «Приз Фемина».
Привело это, впрочем, к скандалу, так как сообразительный француз не известил жюри о том, что его повесть не является целиком оригинальным произведением, а представляет результат «строительства». Повесть де ла Тэйла («Война впотьмах»), тем не менее, не была лишена достоинств, но строительство ее потребовало столько же способностей, сколько и увлеченности, которых обычно покупатели составов «Do yourself a book» не проявляют. Этот исключительный случай ничего не изменил; с самого начала было ясно, что предприятие колеблется между глупым фарсом и коммерческой порнографией. Состояния на «Do yourself a book» никто не сколотил. Критиков радует сегодня хотя бы то, что фигуры из бульварных романов не ступают по паркету толстовских салонов, а благородных девиц, типа сестры Раскольникова, не принуждают волочиться за ублюдками и вырожденцами.
В Англии бытует еще фарсовая версия «Do yourself a book»: доморощенный литератор тешится тем, что в его мининовелле в бутылку вливают целое общество вместо сока, сир Галахад устраивает роман с собственным конем, во время обедни капеллан пускает на алтаре электрические цепочки и т. п. Видимо, это забавляет англичан, коль скоро некоторые журналы ввели даже постоянный уголок для подобных экзерсисов. На континенте же, однако, «Do yourself a book» практически перестали появляться. Можем процитировать предположение одного швейцарского критика. «Публика, – сказал он, – уже чересчур ленива, чтобы ей хотелось собственными руками даже изуродовать, раздеть или помучить. Это все теперь делают за нее профессионалы. «Do yourself a book», возможно, имели бы успех 60 лет назад. Но они появились слишком поздно». Что же можно добавить к этому заключению, кроме тяжкого вздоха?
Перевела с польского Лариса АНАСТАСЬИНА
Геннадий Жаворонков
ГРАФОРОМАНТИКА
И все же язвительно-горькийприговор Станислава Лома выглядит слишком категоричным, чтобы воспринимать его иначе, чем игру, затеянную считателем. Однако включаться в нее нам представляется занятием не менее мрачным, чем играть в «Dоyourself a book». Поэтомумы предложили нашим авторам обратить внимание надругую тему, скрытую в рецензии-мифе, – проблему творчества человека, обделенного литературными способностями.
Свое мнениевысказывают публицист, обозреватель «Московских новостей» Геннадий Жаворонков,писатель Евгений Попов, а также, пожалуй, самый серьезный специалист в этом вопросе, президент единственного в стране Союза графоманов Сергей Ширинянц.
С ергей Ширинянц был элегантен, спокоен и полон достоинства. Он никакие походил на крикливых, истеричных людей, возомнивших себя непризнанными гениями. Он был президентом. И предпринимателем. И директором торгового дома «Цветметавтоматика».
Видимо, славы и денег ему хватало. И все-таки он был графоманом. Это было какое-то наваждение, чертовщина какая-то…
«Графомания – сумашествие (медицинское); психическое заболевание, выражающееся в пристрастии к писательству у лиц, лишенных литературных способностей». (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н.Ушакова).
Ничего этого в Сергее, президенте недавно созданного в Москве Союза графоманов, не было. Он молча протянул мне устав Союза, зарегистрированный заместителем начальника управления юстиции Мосгорисполкома.
Устав был само совершенство:
«Союз Графоманов (далее Союз) добровольная независимая общественная организация, объединяющая непрофессионалов всех направлений…»
Есть у Союза и спонсоры: акционерное общество и малое коммерческое предприятие «Граф».
Нашей и без того бестолковой и суетливой жизни скоро грозит еще одно потрясение – выход в свет первого номера графоманского журнала «Золотой век». Только дефицит бумаги сдерживает его появление на прилавках Союзпечати.
Но даже самые первые страницы «Золотого века» меня, признаться, смутили. Вот, к примеру, рассказ Михаила Романенко-Кушковского «Кукла». Война. Солдат находит в грязи на дороге куклу. Привозит ее в детский дом:
«Кто-то потерял, – тихонько с огорчением проговорила наконец девочка. Мальчик, помолчав, серьезно добавил: – Жалко, что тут нема детей».
Меня обманули! Какая же это, черт возьми, графомания? Это проза. Ломкая, «непрофессиональная», но проза. Да попадись мне этот рассказ в журнале «Литературная учеба», я бы решил, что передо мною лишь очередной начинающий автор. Отличие (правда, существенное) лишь в том, что от своего творчества он не ждет прибыли.
Графоманы бескорыстны. Их журнал безгонорарен и убыточен. Они любят искусство, не надеясь на взаимность.
У журнала есть свои принципы. Во-первых, «Золотой век» не терпит политики, которую считает делом грязным. Во-вторых, ограничивает объем рукописей (графоманов много, а журнал один). В-третьих, он интернационален.
Сергей Ширинянц авторитетно утверждает, что первым графоманом был неандерталец, позволивший себе выбить на скале портрет любимой женщины.
Возможно, и так. Но тогда от кого же пошли художники?
Впрочем, как говорил отец русской демократии, торг здесь неуместен…
Президент честно признался, что графоманы бывают воинствующими. Но чаще они милы и стеснительны. Графоманство может сплотить семью. Но чаще вносит в нее смуту.
Двенадцатилетняя Маша Куб– лик рисует маслом с четырех лет. Ее отец, профессиональный художник, к творчеству Маши относится скептически (впрочем, дочь платит ему тем же). Оценивая ранние работы Маши, специалисты находят в них подражание Сезанну, Матиссу (правда, в то время Маша понятия не имела об этих художниках).
Есть среди графоманов и философы. Например, Маркитан. Это значит, что у графоманов существует и целое философское направление – маркитанство. Кто хочет – верит в него, кто хочет – нет.
Союз графоманов готов принять в свои ряды Осенева-Лукьянова, бывшего Председателя Верховного Совета СССР. Но только тогда, когда он выйдет на свободу, и только с условием, что он прекратит, наконец, заниматься политикой.
Вход в Союз свободный, беспошлинный. Выход тоже. Почувствовал себя профессионалом – уходи, никто тебя не упрекнет.
Союз уже собрал солидный архив. названный не без претензии, но с самоиронией «Золотой фонд». На папках надпись «Хра нить вечно». А вдруг потомкам что-нибудь покажется гениальным. Кто определил критерии истинности искусства?
Графоман – понятие общемировое. Союз, например, обнаружил своих собратьев в Польше, где выходит газета «Графоман». Наверное, подобные общества и издания существуют и в других странах. Пора оформляться, пора создавать международную ассоциацию, растить своих переводчиков.
Я предчувствую, какой наитруднейшей профессией станет перевод. Ну, как перевести строки Никоновой:
«У забора злобно дико зеленеет ежевика».
Или вот это, по-нашенски совковое, – Александра Самойлова:
Один мужик купил обои.
Сидел в метро,
Кого-то ждал.
Тут подошли карабинеры
И отобрали – 2 (два)
мешка.
По утверждению Союза графоманов: «Наше мнение не обязательно совпадает с чьим– то мнением».
Например, Союз декларирует: «Да, каждый человек в душе графоман, если понимать это слово в добром смысле, как бескорыстную увлеченность чем-то. Ведь это слово из семьи таких слов, как меломан и балетоман – вот пусть и вернется блудный сын в родные пенаты».
А что? Ведь графоман – не пришелец с другой планеты, он сын человеческий. Но однажды заклеймив его и изгнав, мы нарушили одну из самых важных библейских заповедей: «Не судите, да не судимы будете».
Есть ли у графоманов будущее? Будущее, наверняка, у них есть. Хотя бы потому, что они за века не погибли в изгнании, не согнулись в опале.
Наверное, «Золотому веку» никогда не познать миллионных тиражей. Да и надо ли?
Мы так устали идти миллионной толпой, мыслить миллионным единством, жить в городах с миллионным населением.
А графоманы – романтики. Таких во все века было не так уж много. Таких вот – графоромантиков, приходящих друг к другу, чтобы сделать лепным идеально плоский потолок, чтобы избавить стены нашего дома от привычной унылости.
Чтобы спеть, сплясать или что– то приготовить из ничего…
Я больше не боюсь графоманов…
Евгений Попов
ЧУДО ПРИРОДЫ
О ни идут. Они подходят и выкладывают листки.
– Где тут принимают литературные произведения, а?
– Здесь, – отвечаю я, вздыхая. – Здесь. Вот именно – здесь.
И читаю, и отвечаю, и поясняю. Все жду, когда Пушкин придет. Не идет.
Но однако что это я приуныл. Эй, да нет! Все совсем не так, все не так. Что там графоманы. Я не о том хочу рассказать. Я хочу рассказать вам не о самих графоманах, а о графоманских борщах.
Я очень уважаю графоманские борщи. Они наваристы, они жирны, они приготовлены со всеми необходимыми специями, к ним часто подается…
Каждый графоман имеет свой борщ. Человек он не от мира сего, и единственная его связь с миром – это борщ, так же, как единственная услада – литтворчество.
И как они все успевают? И добиться успехов по службе, и исписать тысячи страниц неразборчивым почерком, и борща, вдобавок, наварить? Энергия! Энергия графомана значительно превышает лошадиную силу. Я удивляюсь и не пойму этого никогда.
Ах, вялый я человек, безвольный. Пропаду я! Другой бы как гаркнул: «Пошел, дескать, вон!» Или еще куда-нибудь. А я все сижу, посматриваю в окошко.
– Да, – говорю. – Да. Я вас очень внимательно слушаю. Что вы, что вы, я все понимаю…
Ах, как грустно!
Но, однако, что же это я? Опять разнылся? Что-то точит меня. Все точит и точит.
Дождь ли за окном льет, или солнце сияет, а меня все что-то точит и точит.
Вот графоманов ругаю. А зачем? Графоманы, в сущности, очень милые люди. У них случаются такие прекрасные перлы, что, собравши эти самые перлы со всех концов страны и света, мы свободно можем получить нового коллективного гения, силой равного Толстому, Достоевскому и Шекспиру, а духом – всем им троим вместе взятым.
И вообще – не смейте обижать графоманов! Они – мои. Я их отныне беру под защиту, как меньших братьев своих, которые заблудились в лесу. Я считаю, что графоманы не только имеют ценность, но и крайне необходимы цивилизованному человечеству, поскольку гениальные писатели произошли от графоманов, как люди от обезьян. И скверные писатели – тоже. Я вот только не понимаю, от кого произошли средние писатели. От кого и откуда. Мне кажется, что они имеют минеральное происхождение.
Так вот, значит. Один мой очень милый знакомый графоман пригласил меня в гости, где он проживал один, без жены, родственников или родителей. Проживал, днями работая на службе, а по вечерам – творя и верша.
– Прошу тебя, – сказал он. – Я вчера купил баранью ногу. Я сварил. У меня борщ.
Ты приходи, друг.
Вялый я человек. Слабый. Безвольный.
– Прошу тебя, – сказал он, передавая полную до краев тарелку.
– Но и ты тоже, – защищался я.
– Ну, конечно, – успокоил меня графоман. И мы стали кушать. Плавал лучок, укроп. Утонул кусок баранины, и в жировых блестках отражалось электричество.
– А теперь… – торжественно провозгласил графоман, и я поудобнее устроился в кресле
Уж вечер. Славой осиянный
Я из заводу выхожу.
Сам я – продукт эпох гуманный.
На мир я с нежностью гляжу
Воцарилось молчание.
– Ну и как? – повторил он, дрогнув голосом.
– Что, «как»?
– Как стихи.
– Э-э, у-у, м-ммм. Ты знаешь, старик. Как-то, э-э… Слушай, ты давно пишешь?
-Давно, – сухо отвечал графоман, закуривая длинную папиросу. – А что, плохо?
-Да нет, что ты! Интересно! – Я приходил в волнение. – Очень интересно. Бьется поэтическая жилка. Но тебе обязательно нужно больше писать. Обязательно!
– Вот. Вот! Я тоже так думаю Я напишу, – суетясь, радовался графоман. – Я, я…
(Тут его голос сипнет, и он от избытка чувств ничего больше не может сказать).
И так – сколько раз. Эх, много, много, много раз и много графоманов. Я однажды одному по глупости ляпнул не то, что надо. По неопытности.
– Зачем ты это делаешь? – спросил я.
– Тяга. Тяга простого человека к культуре, – значительно ответил графоман, строго глядя в окно.
– Вот и читал бы хорошие книжки, раз тяга.
И тут графоман развернулся от окна пружинно. Глаза его, можно сказать, как молнии блистали.
– Я… много лет. Поглощал. Я поглощал, а теперь я хочу отдавать, испускать. Понимаете, – сказал он, переходя на «вы» и глядя на меня, как на Дантеса. – И отдам, отдам. Испущу, понимаете?
– Понимаю, – уныло ответил я и тоже посмотрел ему в глаза.
И посмотрев, понял все. Что, во-первых, и сам я таков, что лишь по случайности я его учу и ем его борщ, а не он меня и ест мой борщ.
А во-вторых, будь возможность, он бы убил меня. Убил и закопал без жалости и содрогания. Закопал исключительно в целях личной безопасности и продолжения торжества графоманства на Земле.
Спрашивает:
– Что, плохо я пишу? Только честно! Честно!
– Ну, если честно, то ничего так, – труся, отвечал я.
Графоман ослаб. Капли пота увлажнили его крутой лоб.
– А вот это ты видел? – спросил он.
Я остолбенел. Этого я не видел никогда. Графоман ухитрился сложить из пяти пальцев одной руки (левой) две фиги. Сложил и показал их мне.
– Чудо природы! – изумился я. – Как вам это удалось? Ведь всем известно, что фига – это комбинация из трех пальцев, а у вас из пяти пальцев вышли две фиги. Чудо природы!
– Я и на правой могу, – бахвалился графоман.
Сделал и на правой. Четыре фиги были направлены на меня.
– Одна – тебе, остальные – всем вам, всей вашей шатии-братии. – объяснил он.
Убил бы! Убил! Закопал бы меня темной осенней ночкой на огороде, озираясь по сторонам! Убил бы, закопал!
Неужели бы убил? Нет, пожалуй. Все-таки, пожалуй, нет.
Ибо для крови нужен мужчина, а графоман – это эльф. Это беспечная белая бабочка, легко порхающая вокруг котла с черной, мрачной, вонючей, кипящей и лопающейся на поверхности пузырями, обжигающей, прекрасной жидкостью. Вот так.









