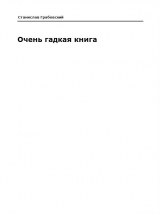
Текст книги "Очень гадкая книга (СИ)"
Автор книги: Станислав Грабовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Что мне надо сделать сейчас? Я могу сидеть и рассуждать, что судьба каждого не у него в руках, всё это пути господни; как он, там, на верху, решил, так да будет. Даже в отношении этих несчастных детей. И тогда, так думая, я гарантировано откажусь от всего. Или. Я могу сидеть и прокручивать картинки, которых сегодня вдоволь насмотрелся, представлять, сколько детей сейчас страдает, видеть, как они переживают то, что им уготавливают демоноподобные, которые не задаются особо вопросом, можно ли так делать вообще, или можно, потому что он там, на верху, так решил. Вот, ведь, взять хотя бы нас – каждый отдельный организм. Разве может у кого-то возникнуть желание наказать свою левую руку за то, что она не такая развитая, как правая? Обе они действуют вкупе, обеспечивая нас тем, что нам от них необходимо. Пусть левая рука ударит по правой. Определим мы правую в рай, а левую в ад после этого? Нет. Потому что они части нашего организма, и у нас даже мысль не рождается, чтобы выдумать какой-либо части нашего организма наказание по окончании жизни нашего тела. Каждое действие, совершённое нашими частями, целесообразно! Тот же удар левой рукой по правой несёт свою цель, понимаемую и принимаемую нами, но и без этого никто никогда не задаст взбучки своим рукам за то, что они подносили ко рту много сладкого или солёного, или синтетику, или спиртное, или наркотик. А если мы все являемся частями одного организма? Ведь, следует такая же логика. Значит, можно всё. Всё, что только выдумаем. Каждому можно всё. То есть, всем этим тысячам политикам, шоуменам и другим социальным деятелям, если взбредает в голову насиловать детей, можно это делать, а мы, такие, имеем такое же «естественное» право на уничтожение всего этого мракобесия для защиты своих детей от них. И всё это для какого-то нашего общего блага, всё это имеет какой-то вселенский смысл? Или. Вот у нас имеется двое детей. Разве мы введём в практику: кто из них хорошо себя вёл днём, тот спит на кровати, а кто вел себя плохо, тот спит на раскалённой сковородке? Нет. Потому что мы их любим. А Бог разве не есть любовь? Значит, и он никого не станет так наказывать, но побранит. Но размышления – размышлениями, философия – философией, а поступает человек обычно, как надо. Что-то не даёт ему творить зло. Есть внутри у нас какой-то незаметный механизм, который оказывает существенное влияние на наши поступки. А если такого механизма нет, то и жизни нормальной тоже нет. Жалко, что такие, последние, портят, а зачастую и вообще уничтожают жизни других.
Так я начал рассуждать. Дальше – больше. Через полчаса я почувствовал, как за всеми этими мыслями сижу уже со скукоженным лицом. Мне было очень плохо, но я думал о тех, кому из-за этого хорошо. А если я позволял себе подумать о личном комфорте, об избегании всех этих испытаний, проверок, обучений, о том, что мне может быть хорошо вообще, если я пошлю всё к чертям, меня начинали осаждать мысли о тех, кому, в таком случае, будет хуже, чем мне сейчас. И на самом деле. На чьём месте я бы предпочёл оказаться: на месте насилуемого ребёнка или на своём, с перспективой пройти через страшнейший наркотик, с последующим обучением и участием в операции, которая может стоить мне жизни. А собственно мне и предлагается сейчас то, что я боюсь больше всего на свете – физическая боль. Хотя… Может я и ошибаюсь, что для меня это самое страшное. По-разному бывало, было много и физической боли, но я не сдавался. Мне кажется, что я, например, тот человек, который сломается при нормальных пытках, а в то же время, где-то глубоко-глубоко у меня сидит какая-то непонятная субстанция, которая говорит мне, что я даже не представляю, на что способен, когда у меня есть идея. Да, может и так.
Не одно из сомнений будущего, но дикость и ужасы прошлого, скорей всего, заставили меня через час сказать «да» «крокодилу»; не страдания вчерашнего и сегодняшнего дня тех, кто не должен слышать даже грубого голоса, – детей, – но их беспомощность и участь в будущем подтолкнут меня сказать «да» моему участию в этой организации, которая, даже если и потерпит фиаско в своём конце, так чётко и приятно тешит уже сейчас моё представление о добре, справедливости и возмездии.
За этими мыслями стала приходить спокойная уверенность, что я отправляюсь в самый святой путь, который может быть назначен человеку в наше время. Не схожу ли я с ума, думал я? Не впал ли я в заблуждения? Откуда у меня, так чванящегося во всякие моменты своим здравомыслием, фанатизм? Но – нет. Даже разум был на моей стороне. Ничегошеньки-то мне не оставалось, как пройти через всё это дерьмо, чтобы вернуть лучезарному его святое дыхание, чтобы спасти хотя бы одного ребёнка, жизнь и здоровье которого стоит таких как моя сотен, да что там говорить, бесценна. И кто, как не мы, каждый из нас, взрослых, в ответе перед каждым растленным ребёнком за то, что с ними сделали такие же, как мы – взрослые.
И я отправился искать Седого.
Пока я его искал и расспрашивал о нём сотрудников, где бы я мог его найти, мне всё больше становилось ясно, что я всего этого хочу, но «крокодил» пугал. Просто пугал. Отвращали часы, которые мне придётся потратить на прохождение всей этой канители. Пугало делать самому себе инъекцию, но я уже понимал, что без всего этого я – труп, а с этим… А с этим я уже чувствовал, что я становлюсь монстром. И я уже хотел этого монстра внутри себя. Я хотел его звездоносной и сумасшедшей пляски.
– Что ж, – сказал Седой, – тогда в лабораторию.
И при этих словах я вспомнил своё первое посещение стоматолога, когда я сидел в коридоре и слушал, как гудят «зубодробильные» аппараты в кабинетах.
Вот только сейчас я входил в «кабинет» не с трясущимися ногами, и даже не с лёгким мандражом, который следовало от меня ожидать. В лабораторию я входил уже другим человеком. Монстр у меня уже ликовал и упивался предстоящими событиями – я уже жил тем, когда я впервые столкнусь лицом к лицу с одним из тех демонов, которые думают, что можно вечно безнаказанно отбирать детей от их родителей. И не просто отбирать. Я уже тогда решил, что найду того, кто кое-что заслужил, поэтому я сказал «лаборанту», который стал доставать их холодильника пузырьки:
– Я сам хочу намутить этой бодяги. Поучаствуйте только теоретически.
– Никаких проблем, – ответил «лаборант».
Седой внимательно наблюдал за нами.
Мне очень захотелось запомнить, как изготовить этот наркотик, который, как я узнал, можно сделать из подручных средств на кухне у любой хозяйки. Я уже задумал, что это «удовольствие» окажется достойным завершением парочки никчёмных жизней, когда я до этих жизней доберусь.
Смешав в нужных пропорциях перекись, йод, спирт, какое-то средство для прочистки канализационных труб, то, другое, поварив это, сколько мне сказали, на специальной химической грелке, я вогнал светло-коричневую смесь в шприц и попросился к себе в комнату.
Мне сказали, что через несколько минут меня перестанет волновать, где я нахожусь. Вот уж где аргумент, пожалуй, был железный.
Я посмотрел то на одного, то на другого. Мне махнули головой в сторону медицинской кушетки. Я перевёл взгляд на устланную белой клеёнкой кровать на колёсиках. Интересно, подумал я, повезут ли меня потом прямо на ней в морг или к врачу; как я буду выглядеть на ней через пять, десть минут, через час? Решил, вот моё последнее пристанище, чтобы подумать – край медицинской кушетки, на который я облокочусь сейчас задницей, когда подойду. Я направился к кушетке со шприцом в руке, облокотился на неё задницей, как и представил секунду назад, и попытался сконцентрироваться на «подумать», но «это» уже не шло. Не думалось, не хотелось думать. С какой-то стороны даже кощунством стала казаться малейшая нерешительность. Но я замер, глядя на своё оголённое предплечье и на шприц в руке. А вот и вена, куда уже можно попытаться вогнать иглу с отравой. А там, за всем этим, меня ждёт дело – обучение, подготовка и операция. И даже если мы все проиграем, я одержу пару личных побед, и пусть эта будет первая…
– А, ведь, если бы я от всего отказался, убийство того полицейского, что меня к вам доставил, окажется бессмысленным, – рассудил я.
– В каком-то смысле – да.
– В каком-то смысле?! А жет убийство хотя бы в каком-то случае нести высокий смысл?
– А ты задумывался об этом, когда делал дырку кулаком в виске того солдата?
Я медицинским жестом удостоверился в отсутствии воздуха в шприце и поднёс его иглой к виднеющейся выпирающей вене, и чуть надавил. Заточенный по последним технологиям наконечник иглы легко скользнул под кожу и дальше. Ощущение получилось, будто мне провели наждачной бумагой по нервам. Наверно я побледнел от вида бугорка кожи от иглы под ней. Ну и страшно стало немного. Проверил, попал ли я вену, и вогнал поршень до конца.
В руке появился жар, который резко распространился на всё тело, но, скорей всего это была химическая реакция организма на переживание, потому что тут же всё сразу стало в норме. Последующее ещё какое-то время позволяло моему разуму пытаться найти объяснение возникающим одним за другим ощущениям у меня в организме, чтобы делать их понятными и своими, а не подвергаться им, будто чужим, а потому пугающим, но ощущение времени и необходимость видения причинно-следственной связи во всём быстро оказались перечёркнуты полнообъёмным началом действия наркотика. Сначала появился вкус зелёных яблок во рту, следом приятно стало зудеть в руке, а уже в следующий момент волной захлестнул всё тело. Вторая волна зуда, оказавшись короче предыдущей, начавшись в голове, окатила всё тело ещё большей приятностью, доходящей до истомы. На третьей волны, ещё более приятной, но менее короткой, мне показалось, что вселенная со всеми звёздами вырвалась из меня наружу (не понимаю, почему я здесь не сошёл с ума). Потом одна за другой, штук десять или пятнадцать таких волн, – было уже не определить, – каждая качественней предыдущей, но короче по времени, заставили меня, в конце концов, застонать, и я испытал оргазм. Через несколько секунд, когда оргазм должен был прекратиться, начался второй, за вторым – третий, за третьим – четвёртый, за четвёртым – пятый. Я попытался прийти в себя и обнаружил, что стою на коленях на полу, упёршись головой в пол, с закрытыми глазами, а изо рта у меня вытекают слюни. Чтобы встать, упёрся второй рукой в пол, но от прикосновения к полу в ладошке появился уже знакомый зуд, распространившийся по телу уже знакомой волной, потом опять такая же вторая волна, начавшаяся из мозга, опять штук пятнадцать, и опять я пережил оргазм. И опять их последовало штук пять. Я открыл глаза, и подумал, что если сейчас закрою глаза, сразу опять кончу. Закрыл, так и произошло. Я подумал, что могу открывать глаза, закрывать, открывать, закрывать, и в зависимости от этого, то буду испытывать оргазм, то не буду. Попробовал, так и оказалось. Потом я подумал, что в какой-то момент перестану мочь открывать глаза, и тут же испытывая оргазм, попытался открыть глаза, но у меня ничего не получалось, но оргазмы не прекращались, а шли один за другим. И вот в этом состоянии, когда все оргазмы слились в один, не прекращающийся, я пролежал около восьми часов. Когда сознание вернулось в норму, я обнаружил, что лежу у себя в комнате на диване, прикрытый пледом.
О чём бы не шли мысли, всё начинало казаться совершенным и красивым, и это совершенство и красота начинали кричать о себе, заставляли мусолить себя, мусолить, мусолить, выливаясь, в конечном итоге, в истому. Я подумал, как прекрасен мир, и как прекрасно быть в нём: как прекрасно посмотреть на свою руку и увидеть её, прекрасно просто смотреть, приятно закрыть глаза. Каждая мысль – это вселенная, диковинка, которая вот же, только что появилась, а теперь будет жить в вечность, и можно производить их одну за другой, наполняя и наполняя ими информационное поле вселенной. Прекрасен воздух, который шуршит в наших лёгких, залетая в них, и покидая их уже совсем другим, на радость кому-то, кому именно такой он и нужен; и всё так устроено, что каждый поддерживает другого, поэтому мы все должны радоваться при виде друг друга только потому, что мы живые! Я хотел побежать и пощупать живых людей, чтобы сойти с ума, не поверив в это счастье, что я могу дотронуться до них, но глаза сами собой закрылись, и сорокавосьмичасовой (!) сон унёс меня в такую нереальность, что до сих пор испытываю тоску по тем сновидениям.
Я проснулся от судороги в плече, разбудило именно то, что секунды четыре в плече дёргались мышцы. Закрыл глаза, сморщившись от неприятного ощущения после этого спазма, а потом понял, что дела мои намного хуже – это не была просто судорога в занемевшем участке тела из-за неудобной позы сна. Казалось, что кости всего тела сами по себе шевелились, что где-то внутри они переплетались между собой. А может, это было и правдой, потому что я постоянно дёргался: то руками, то ногами, то головой. Каждому такому подёргиванию предшествовала очередное болезненное непроизвольное сокращение мышц, а то и групп мышц, и после каждого такого спазма оставалось ощущение, что тебе в это место вставляют пару работающих дрелей.
Следом за физической болью накатило осознание того факта, что всё это – последствия от приёма наркотика, и моё существо наполнилось ужасом. Попытка перенаправить внимание с области, причиняющей мне большие страдания, на область, их не причиняющую, или которая бы могла быть источником меньшего страдания, провалилась, не начавшись, потому что думать удавалось обрывками – каждые полторы секунды приступ боли перечеркивал мысли. Да и мысли-то! Не было того привычного их хода, когда мы можем более-менее задавать им направление, да и «озвучка» их – такой привычный нам внутренний диалог – отсутствовала, а вместо него надсадные крики мне в оба уха сотен, будто толпящихся вокруг меня людей. При этом их крики, которые суть мои мысли, были неконтролируемы, словно сновидения. Этакий интеллектуальный паралич. Вообще неприятно реагирует наш организм на инородную химию. Я раньше думал, что если ковырять в мозгах железкой, то будут дёргаться части тела, а теперь знаю, что если в них залить химию, атаке будет подвергаться мыслительная деятельность и ощущение индивидуальности. Но именно и конфуз, что то, что подвергается атаке, как раз и отвечает за анализ и ощущения этого. И ты чувствуешь себя шлангом, который одним концом вставили в другой, и продолжают задвигать этот конец всё глубже и глубже, всё дальше и дальше, и ты пытаешься понять, должен ли упрётся этот конец во что-то в конце концов, и ты не можешь понять, почему этот конец ни во что не упирается, и никогда ни во что не упрётся.
Я приподнялся на локтях, и услышал своё дыхание, которое состояло из хрипов и бульканья чего-то в носу. Рот представлялся мне заваленной пещерой, и я думал, что не имею права дышать им из-за темноты внутри него, поэтому я просто жадно раскрыл его, насколько только мог, ожидая этого права; а вообще, было ощущение, что я дышу ушами. Задёргалась голова, и, если бы не мягкая спинка дивана, я бы как дятел подолбил бы ею стену.
Иногда возникали мысли (не голоса, а именно мысли) о тихой надежде, что сейчас или скоро всё закончится, прекратиться. Но боль не прекращала «гулять» по всему телу и не проходила. Кровь будто устремилась в обратном направлении, журча внутри кровеносных сосудов против «шерсти», и это было невыносимо. В какой-то момент мой организм представился мне одним большим больным зубом, а уже в следующее мгновение кожу стало шпарить так, будто я свалился в кипяток. У меня хватило воли обратить внимание, что мои руки и ноги сами выписывают какие-то кренделя, позвоночник скручивается и раскручивается то в одну, то в другую сторону, и казалось, будто какой-то гигант схватил меня рукой за голову и стал болтать мной, как чайной ложкой в стакане. Я потянулся к бутылке с соком, взял её, но никак не мог ухватиться второй рукой за крышку, чтобы отвинтить её – промахивался и не мог поймать. И так с этой бутылкой и корчился. Ни успокоиться, ни заснуть, ни остановиться, ни подумать, я ничего не мог сделать, и боль, видимо, окончательно закрепилось по всему моему телу с намерением остаться в нём навсегда. Жалкая мимолётная мыслишка, что это может теперь никогда не закончится наполнила меня отчаянием. Захотелось умереть.
В таком состоянии я сходил с ума тридцать шесть часов. На второй день я смог соображать, и первое, что стало атаковать моё сознание, это мысль о чём-либо, что гарантированно доставит мне успокоение сию секунду, что с максимальной вероятностью избавит меня от этого страдания прямо сейчас. Это должно было быть такое, что за всю мою жизнь доказала свою состоятельность и эффективность в отношении меня, как средство, приносящее мне мгновенное избавление от любой боли: будь то боль физическая или психологическая, или просто интеллектуальное напряжение. Это должно было быть такое средство, которое в мгновение перенесёт меня в другой мир: мир наслаждения. Алкоголь мог не сработать. Секс не заглушит. Азартная игра? Но в азарт надо ещё войти. И вот, мысль о «крокодиле» внесла радость и свет в мою загибающуюся жизнь! Мысль о «крокодиле» наполнила меня надеждой, что я смогу остаться человеком, смогу жить. Только «крокодил» гарантировано обеспечит меня избавлением от этой боли. Гарантировано! Более того, он доставит мне неописуемое наслаждение, но это уже второстепенное, главное, что я смогу опять стать человеком. Маленькая доза под медицинским присмотром, чтобы отходить потом легко, да и готов я уже ко всем последствиям психологически, потому что уже всё знаю.
Короче – «крокодил» и всё тут.
Я попытался приподняться с дивана. Боль уменьшилась процентов на пятнадцать, но главное, что я теперь мог соображать. Теперь я смог более чётко вспоминать, что предшествовало моему этому состоянию, вспомнил вспышки вселенных в глазах, вкус яблок во рту и бесконечные оргазмы. Из-за этого «ломка» показалась ещё более заслуживающая нежного и снисходительного к себе отношения, а потому более достойной быть снятой «крокодилом». Душ, конечно, не помог. Я вышел в коридор и по стенам пошёл вперёд. Тут же возник Седой.
– Хреново, хреново выглядишь, – сказал он.
– Дайте мне что-нибудь.
Я мял своё тело о стену.
– Могу дать только совет.
Я разозлился.
– Ты помнишь, кто ты? – спросил Седой.
– Да, – ответил я.
– Что мы с тобой пили, когда появились тут?
– Кофе, – ответил я.
– Идём, – сказал он, и молча пошёл в своём направлении.
Я устремился за ним. Мой мозг расточал по нервной системе неконтролируемые порции электричества, из-за чего я мог, например, просто начинать идти назад задом наперёд или останавливался то и дело.
Мы оказались у того кофейного аппарата, с которого тут всё для меня началось. Седой был одет так же, как в тот раз. Пятен от кофе на светлых брюках уже не было. Он протянул мне стаканчик с кофе. У меня сильно дрожали руки, но я смог сделать глоток. Смог сделать и второй. Кофе, казалось, поступало не в желудок, а сразу в мозг. На фоне общей боли не чувствовал, что горячо руке. Седой смотрел на меня, делая глотки один за другим. Когда он отпил половину, сказал:
– Эй!
И я увидел, как он снова стал медленно сжимать стакан со своим кофе. Хруст сжимаемого стакана, выдавливаемое из него кофе, устремившееся на ковролиновое покрытие коридора, забрызгиваемые его светлые брюки – и ко мне стали возвращаться воспоминания последних дней. Одно за другим, одно за другим. Только что я хотел попросить перестать ломать цирк, и дать мне что-нибудь. И не что-нибудь, а «крокодила», только маленькую дозу, только под присмотром врача, чтобы немного облегчить мне страдание, уняв боль, чтобы потом слабая «ломка» была, и таким образом я бы попытался восстановиться в норму. А вот теперь, вспомнив всё, я понял, что никто мною в таком формате заниматься не будет, потому что ни для этого я сделал себе инъекцию этой жидкости, которой в раю, должно быть, реки (так мне тогда подумалось). Из-за этого всё моё нутро стало медленно принимать бунтарскую позу. Кто же передо мной стоял – враг или друг? Если друг, то мне сейчас дадут уколоться, если враг, то… И, чёрт побери, какое право они имели на такой эксперимент со мной?
Наверно, эти мысли можно было прочитать по мне, потому что я заметил оттенок разочарования на лице Седого. Но тут же выражение его лица стало мягче, мне показалось, что он даже попытался изобразить сострадание (что меня взбесило), и Седой сказал:
– Для начала определимся с твоим дальнейшим настроением.
Мы опять прошли к стене, за которой нам открылась метро. Потом мы стали подходить к лаборатории. Меня стало подкидывать от мысли, что сейчас, возможно, мои страдания прекратятся, хоть и не верилось, что они могут прекратиться вообще; казалось, что я обречён на это состояние на всю жизнь. Мы не остановились перед дверью лаборатории и направились дальше по коридорам. Я с тоской не неё обернулся. Он подглядел мою реакцию.
– Сержант, – начал он, когда мы остановились перед какой-то другой дверью, – я знаю, что ты сейчас переживаешь, я сам через это прошёл. Я знаю, что ты сейчас всё понимаешь, и помнишь всё, что было до этого. Да знаю я, в конце концов, как тебе плохо, – немного раздражённо отмахнулся он, видимо заметив мой порыв прервать его речь, которая звучала у меня в ушах то, как будто он говорил, преподнеся ко рту рупор, то звука я вообще не слышал, но лишь видел шевеление его губ, – знаю, знаю, всё знаю. Вот – дверь. За этой дверью находится большое помещение, заполненное до отказа ингредиентами для твоего «крокодила». Запасов хватит на год, но ты умрёшь раньше. Решать тебе. Или ты войдёшь в неё, и уже не выйдешь, потому что дверь захлопнется, и никому не будет дела, что твориться за ней, или найди потом меня.
И он просто ушёл.
Я уставился на дверь. Маленькую дозу и всё, подумал я, чтобы облегчить страдание, а потом выйду из кризиса, потому что знаю, что это такое. Вот оно, когда промедление смерти подобно. А потом отойду, докажу всем, что отошёл, и сделаю то, что должен: стану членом этой организации. А сейчас маленькую дозу, такую маленькую-маленькую, как (о, господи, как я мог в этот момент подумать о таком сравнении!), как моя маленькая дочь. Моя маленькая дочь. Да. И так я себя возненавидел за то, что в таком состоянии посмел подумать о своей дочке – да ещё в таком контексте! – что я подумал, что наверно никогда себе этого не прощу. И мне стало так плохо и грустно, и гнусно от жалости и призрения к себе. Я увидел себя со стороны, такого жалкого, полного тщедушных помышлений, отбрасывающего здравый смысл и грезящего только об одном – о виде светло-коричневой жидкости за градуированной пластмассой шприца. В то время, когда я в таком переплёте, когда моя дочь, моя маленькая дочь… Господи, где же тот свинец? Где мои эмоции, здоровые и сильные?
С тяжёлыми мыслями, подавленный и отупляемый физической болью, но ещё больше раздавливаемый грузом ответственности за свою дочь и тысячи других детей, которые делили одну участь с моей дочерью, я стоял, стоял и стоял – и тут медленно стал опускаться на пол. Медленно опустился, размеренно подобрал под себя ноги, сев по-турецки, и сказал себе, что я сдохну, но не сдвинусь с места, пока снова не стану человеком, и не заполнюсь тем свинцом, воспоминание о котором только что ожило в моей памяти. Все те мысли, все те эмоции, всю ту энергию – назад, собственным усилием, и только.
Я сидел и дёргался, сидел и дёргался. Сейчас я знаю, что провёл тогда в таком положении восемь суток. Первые дни помню смутно: ко мне кто-то подходил, что-то кололи, перевязывали гниющую рану на руке от укола, кто-то заботливо укрыл меня пледом, но большее время я провёл в одиночестве, не меняя позы. Не помню, как засыпал, как просыпался, как жрал, пил, опорожнялся, не помню, было ли вообще всё это. Не помню (или помню?), как, усевшись по-турецки, я обратился к своему сознанию дать мне ответ на вопрос, который мне сейчас надо себе задать. В сознании, полном мрака и потерянности, докучаемом вспышками боли, я стал искать, не знаю что.
Мрак рассеивался очень долго, хоть и каждое мгновение; когда я определялся с направлением мыслей, мне становилось легче. Потом перед глазами пошли светлые пятна, потом очертания каких-то местностей, пока чётко не вырисовалось поле с какими-то телесного цвета колосками, с золотящимися зёрнышками на них. Что это были за растения, я не знал, но мне откуда-то смутно навевалось, что это был тот сорт травы, из которой когда-то делали хлеб. Я стал водить по этим растениям руками, и покалывание-щекотание ворсинок, заботливо охраняющих каждое зёрнышко от посягательства животных, привлекаемых к растению его запахом, треском высоковольтных проводов отдавались мне в мозг. Точно ли это были те растения, из которых когда-то делали хлеб? Я подумал, что этот вопрос будет попроще, чем тот, на который я хотел бы получить ответ, а значит, если я не получу ответ на этот, то нечего надеется, что мне явится какое-то озарение. Потом из этих растений то тут, то там стали появляться головы каких-то существ, о которых мне хотелось думать, что это ангелы. Я пока не мог толком их рассмотреть, но старался удерживать во внимании образ ангелов, чтобы возникающие из травы головы не пугали меня заранее перспективой принять ужасные очертания, а постепенно принимали образы курчавых милых созданий, которые я пытался навязать ведению. Этого не происходило, и я понял, что от меня ничего здесь не зависит, я нахожусь не там, где могу управлять, поэтому захотелось опуститься в траву на землю, сесть по-турецки, и помедитировать, как я делал это иногда в молодости, и ещё потом когда-то где-то сделал один раз, не помню где и когда, но помню, что это тогда было очень важно. Что я и сделал.
Закрыв глаза, я решил сконцентрироваться на звуках. Помню, что кругом меня было поле из этих колосков, и лишь вдалеке зеленел луг, за которым виднелся небольшой лесок, но я не запаниковал, когда сквозь шелест голосов тех существ, смешащегося со звуком колосящихся непонятных для меня растений, стали слышаться звуки машин и даже самолётов. Я стал пытаться рисовать в своём воображении то, что производило эти звуки. Мне послышался звук приближающихся шагов, и я, испугавшись, открыл глаза. Ко мне, лавируя между снующими туда и сюда странными существами, приближалась красивая, стройная, молодая девушка азиатской внешности в лёгком бирюзовом платье. В руках она держала горшочек для жарки, но я хотел смотреть только на обнажённую часть её груди. Она протянула мне горшок, и я принял его из её рук. Она продолжала стоять и смотреть на меня. Я заглянул вовнутрь горшочка. Там была мутная салатовая жидкость. Девушка продолжала смотреть мне в глаза. Я медленно стал подносить горшок ко рту – в её глазах прочитал одобрение и радость. Жидкость оказалась тёплой и вкусной. На третьем глотке я закрыл глаза от удовольствия и стал жадно поглощать всё содержимое горшка до конца. Когда я допил и, открывая глаза, стал отстранять горшок ото рта, то увидел перед собой старика, зеркально выполняющего те же действия, что и я. Как и у меня, в его руках был точно такой же горшок, и он тоже только что, так казалось, закончил пить его содержимое. Образ же девушки покинул моё сознание безвозвратно. Вместо поля кругом был город, звуки которого стали мне слышаться, когда я решил помедитировать посреди поля, а теперь так гармонично вписались в окружающую меня обстановку. Только город этот как-то постоянно менялся, местами, будто перед тобой здоровенная картина, на которую капают разъедающей кислотой, и в месте растворения ты начинаешь наблюдать то, что за самой картиной. Не было сомнений, что в «разъеденных» местах я наблюдал то поле и тот зеленеющий луг, которые созерцал минуту назад. Будто городом этим, как покрывалом покрыли то поле с золотящимися колосками и травой, и редкими лесопосадками. То и дело поле с лугом почти полностью поглощали город, а то, вдруг, разъедаемые «кислотой» дырки затягивались снова городом.
– Если ты закрываешь глаза в поиске ответа, – сказал старик, – то ты ничего не найдёшь, кроме своих жалких мыслей. Настоящее человеческое достояние скрыто в голове закрывающего глаза человека с закрытыми глазами.
– Мне не нужно настоящее человеческое достояние. Я хочу только возмездия.
– Оно периодически возвышается над преступлениями, – ответил старик.
– Всё это лирика, – возмутился я, – ты знаешь, что я хочу. Я хочу того, чего хочет и большинство из нас – вечного торжества добра и милосердия.
Мне показалось, нет, я так подумал, что сейчас последует примерно такой же ответ, и я смахнул видение рукой. Передо мной оказалось белое.
Всё кругом было белое, даже то, на чём я стоял. Всё было настолько бело, что когда я приблизился глазами к тому, на чём я стоял, я не смог разглядеть, что это. Было такое ощущение, что я попал в какое-то пространство без конца и края. Я подпрыгнул, но не смог нормально приземлиться на ноги – завалился на бок. Смог подняться, стал пробираться вперёд, выставив руку. Шёл очень долго, так, что мне стало надоедать. Потом побежал. Устал бежать. От всего устал. Остановился, упёрся руками в колени и в таком полусогнутом положении застыл. А потом опустился, не знаю на что (на землю, пол, дорогу), свернулся калачиком, закрыл глаза и стал ждать: или сна, или конца, или начала хоть чего-то. В глазах появилась темнота. Та темнота, которая появляется, когда закрываешь глаза, чтобы заснуть. Но почему это для меня показалось примечательным? Что такого было в этой темноте? Почему я радуюсь темноте за закрытыми глазами? А разве может быть что-то другое? И смутное «может» намёком на какое-то моё первое нормальное переживание за последние несколько часов после чего-то заскользило по моему сознанию. А после чего? После чего? Я силился ответить себе, а почему, собственно, у меня возник такой вопрос? Вопрос, что некое состояние могло показаться мне чем-то типа отдушины, после чего-то такого? Я ощутил, что не имею имени, что не могу его вспомнить. Вернее, не имени, а того, кто я такой есть. Казалось, что вот, только что я мог вспомнить, или даже знал, что и кто я есть, а вот теперь осознание этого постоянно куда-то ускользало, оставляя за собой незаметный, но ощущаемый, раздражаемый след.
Не знаю, может такое моё состояние было следствием витаминов, которыми меня пичкали, пока я сидел перед комнатой полной «крокодила». Где-то я слышал об искусственной смерти, когда человек путём осознания всего, что его удерживает у жизни, отказывается от этого, устраняя, таким образом, препятствия на пути к смерти. Один знакомый моего знакомого, по рассказу последнего, смог подобраться к своей смерти настолько, что потом пол головы поседело. Думаю, в тот момент у меня произошло обратное: я смог отказаться от всего, что меня тянуло к смерти, от всего, что грозило разрушением моему телу, из-за чего переместился в самый источник жизни.








