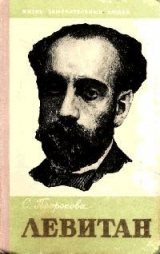
Текст книги "Левитан"
Автор книги: Софья Пророкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Ссора кончилась тем, что Софья Петровна уехала, и Левитан спокойно вздохнул. Но злые, оскорбительные письма Кувшинниковой не давали ему прийти в себя.
Семья Турчаниновых прилагала все усилия, чтобы художник вернулся к работе. Его пригласили в Горку и сердечно оберегали. И вот к осени живопись вновь захватывает Левитана, он забывает обо всем на свете, неистово пишет, пишет и пишет до глубокой осени. В короткой записке он извинялся перед Терезой: «Я немного запоздал с деньгами, прости, я уезжал из деревни к знакомым и забыл, по правде сказать, о времени посылки денег…»
Левитан создал целую сюиту в честь красок осени. Наконец появляется «Поздняя осень». Художник увлечен пастелью, и цветные мелки в его руках творят чудеса.
В знак благодарности он дарит всем Турчаниновым свои работы, и среди них совершенно пленительную пастель, изображающую васильки в такой же простой глиняной крынке, в какой он написал в Плесе одуванчики. Это – старшей дочери, светловолосой Варе: «Сердечному, чудному человеку В. И. Турчаниновой на добрую память. И. Левитан. 1894 г.». Младшим девочкам – тоже цветы, Анне Николаевне – пейзаж.
Уже были заморозки, когда Левитан вернулся в свой Трехсвятительский переулок с холстами, которые поразили друзей новизной и силой темперамента.
СНОВА У ЧЕХОВЫХ
Левитан всегда производил впечатление человека сдержанного, как бы застегнутого наглухо от посторонних взглядов. Иногда внешняя воспитанность, даже деликатность, казалась сухостью.
Но Чехову он бы сказал все, выплеснул бы ту боль, какая накопилась за три года их разлуки.
Никто не хотел сделать первый шаг. Нужен был толчок извне. Щепкина-Куперник давно собиралась к Левитану посмотреть островенские этюды, которые писались в знакомом ей месте. Она застала художника за работой, с перепачканными руками. Гостье был рад, усадил на мягкий диван и начал горестно жаловаться на одиночество.
Поэтесса ехала в Мелихово. Как всегда при этом, исполняла массу поручений, данных в шуточной форме. То «взять полфунта прованского масла, подешевле для гостей», то «два фунта крахмалу самого лучшего для придания нежной белизны сорочкам, а также панталонам».
Ожидая Куперник в Мелихово, Чехов шутливо предупреждал: «Я буду в восторге, если Вы приедете ко мне, но боюсь, как бы не вывихнулись Ваши вкусные хрящики и косточки. Дорога ужасная, тарантас подпрыгивает от мучительной боли и на каждом шагу теряет колеса. Когда я в последний раз ехал со станции, у меня от тряской езды оторвалось сердце, так что я теперь уже не способен любить».
Не убоявшись этих предупреждений, купив все, что было поручено, Куперник предвкушала, как она вновь очутится в семье Чеховых.
Левитан грустно слушал ее рассказы, завидовал тому, что она скоро увидит его близких друзей, растревожил своей печалью и гостью.
– За чем же дело стало? – сказала она весело. – Раз хочется, так и надо ехать. Поедемте со мной сейчас.
Неожиданность этого предложения ошеломила Левитана.
– Как? Сейчас? Так вот и ехать?
– Так вот и ехать.
– А вдруг это будет некстати?.. А вдруг он не поймет?
Но Куперник с решительностью начала собираться и торопила Левитана. Она уверяла его, что все кончится хорошо и не будет никаких осложнений.
Под градом самых убедительных доводов художник согласился, отмыл руки, переоделся и, дико волнуясь, отправился в Мелихово.
По дороге веселая спутница отвлекала Левитана своими живыми рассказами. Она сама была очень неспокойна и тревожилась за исход затеянного дела.
Дорога от Лопасни оказалась нестерпимо трудной – такие колдобины, так трясло, что уж не до тревожных мыслей. Но когда сани остановились возле крыльца, оба, и поэтесса и художник, замирали от страха.
Щепкина-Куперник записала, как произошла знаменательная встреча:
«И вот мы подъехали к дому. Залаяли собаки на колокольчик, выбежала на крыльцо Мария Павловна, вышел закутанный Антон Павлович, в сумерках вгляделся, кто со мной, – маленькая пауза, – и оба кинулись друг к другу, так крепко схватили друг друга за руки – и вдруг заговорили о самых обыкновенных вещах: о дороге, о погоде, о Москве… будто ничего не случилось.
Но за ужином, когда я видела, как влажные блеском подергивались прекрасные глаза Левитана и как весело сияли обычно задумчивые глаза Антона Павловича, я была ужасно довольна сама собой».
Наутро Антон Павлович спешил в Москву и не хотел будить Левитана. Художник оставил Чехову на своей визитной карточке такую записку. «Сожалею, что не увижу тебя сегодня. Заглянешь ты ко мне? Я рад несказанно, что вновь здесь, у Чеховых. Вернулся опять к тому, что было дорого и что на самом деле и не переставало быть дорогим. Жму дружески руку. Твой Левитан».
И Чехов всегда с любовью вспоминал о Левитане. Почти год назад в письме к Лике, которую он приглашал в гости, Антон Павлович писал: «У нас природа грустнее, лиричнее, левитанистее…»
Через несколько дней Чехов поднимался по чугунной лестнице в мастерскую, обитую серыми сукнами.
Давненько он здесь не бывал и не знает того, что художник пока скрывает от взоров зрителей.
Чехов верил в дарование Левитана. Еще весной 1891 года, побывав в парижском салоне, он все же пальму первенства оставил за другом, а потом делился с сестрой своими впечатлениями: «Кстати сказать, русские художники гораздо серьезнее французских. В сравнении со здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан король».
Чего же достиг за годы разлуки коронованный им пейзажист?
Пастельная сюита – гимн осени, созданная Левитаном в Горке, уже демонстрировалась в залах очередной периодической выставки. Но на нескольких мольбертах стояли картины. И нельзя поверить, что недавно художник отправил так много законченных произведений.
Чехов рассматривал полотна, которые еще не скоро увидят свет. Близилась к концу величавая волжская эпопея, задуманная еще несколько лет назад. Только теперь найдена композиция и цвет воды приближается к тому, который хотел художник. Это «Свежий ветер» – картина, начатая еще в Плесе.
Увидел Чехов и многие другие холсты. За годы разлуки заметно возмужало искусство живописца. Сделанное прежде ему самому казалось пройденным этапом, и он стремился найти новые формы для выражения своих чувств. Он искал и в природе и на палитре новые краски, и эти поиски в последнее время обуревали его особенно настойчиво. Требовательность к себе становилась деспотической, безжалостной. Чаще, чем прежде, Левитан увозил с выставки картины, так и не решаясь их показать, зная, что еще может в них досказать.
Чехов пришел в мастерскую в разгар этих новых поисков. И не все еще было ему ясно. Многое пленяло сразу, но что-то и настораживало.
Друзья провели у картин несколько часов. Как им было хорошо! Левитан не знал, куда усадить Чехова, что еще ему показать. Он оживился, весь как-то лучился от радости, что опять его мятущаяся душа нашла, к кому притулиться.
Вернувшись в Мелихово, Чехов поделился с Сувориным своими впечатлениями от встречи со старым товарищем. Тогда-то он и написал такие суровые слова: «Был я у Левитана в мастерской. Это лучший русский пейзажист, но, представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истаскали бабы… Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного: только молодость. Пейзаж невозможно писать без пафоса, без восторга… Если бы я был художником-пейзажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую».
Не понял Чехов смелых поисков Левитана. Сказались годы разлуки. Многие мысли, стремления художника еще были далеки писателю. Одной встречи слишком мало для того, чтобы постигнуть глубину происходивших перемен.
На такую оценку могли повлиять и рассказы Левитана о житейских передрягах.
Сам Чехов был в это время поглощен рассказом «Супруга», который кончил в феврале. Образ женщины, превратившей мужа в униженную тряпку, занимал его мозг. Рождалась тогда и знаменитая «Ариадна» – женщина еще более хищная, опасная, перед капризами которой тоже угасала воля мужчин.
Писатель пришел в мастерскую художника от письменного стола, от маленьких листков бумаги, на которых скупо, выпукло и беспощадно он рисовал облик женщин, приносящих несчастье.
Чистосердечный рассказ Левитана о событиях минувшего лета вызвал у Чехова мысль об утерянной молодости, о бравурности искусства.
Никогда еще искусство Левитана не было таким молодым. И если сравнить картины его последнего пятилетия с теми, которые он создавал юношей, то право называться молодыми останется за созданиями зрелой левитановской кисти.
Очень скоро Чехов смог в этом убедиться.
Писатель подарил художнику труд, который написал тоже в годы их разлуки. Это была книга «Остров Сахалин», и Чехов сделал на ней такое веселое посвящение: «Милому Левитану даю сию книгу на случай, если он совершит убийство из ревности и попадет на оный остров».
В конце января Левитан вновь приехал в гости к Чехову, и тот рассказал ему, какая стычка произошла у Маши с Маминым-Сибиряком из-за его живописи. Она была с ним в цирке и потом написала брату: «Кончилась эта поездка не совсем благополучно. Мамин разозлился на меня за Левитана, за то, что я похвалила его как художника-пейзажиста, да еще назвала русским пейзажистам… Приедешь, все расскажу. Досталось мне здорово!»
Это было очень характерно для отношения некоторой части русской интеллигенции к творчеству своего современника. Одни с пеной у рта вычеркивали его из истории русского искусства. Другие поклонялись ему и ждали каждой новой картины.
И. Э. Грабарь вспоминал о том, как он и другие молодые художники любили Левитана, как они «с нетерпением ждали некогда открытия Передвижной выставки, и жадно искали уголка с его новыми картинами. Каждая из них была для нас новым откровением, ни с чем не сравнимым наслаждением и радостью. Они вселяли бодрость и веру в нас, они заражали и поднимали. Хотелось жить и работать. Велика должна быть сила художественных произведений, если они действуют столь неотразимо и благодатно. В них есть дыхание истинной жизни и скрыта подлинная поэзия».
В новых живописных поисках Левитан укрепился после встречи с Суриковым возле его картины «Ермак». Она произошла около года назад.
Тогда-то Суриков, этот немногословный и угрюмый человек, с полной убежденностью произнес фразу:
– Колорист – художник, не колорист – не художник.
Композиция его картины закончена. От тона сепии, которым подготовлен рисунок, художник переходил постепенно к богатейшему колористическому решению.
Левитан был покорен и «Ермаком» и Суриковым, хвалил картину за экспрессию и жизненность ее персонажей. Об этом записал в своем дневнике Переплетчиков.
Встреча с великим колористом возле его неоконченной картины оказалась очень многозначительной для Левитана. Пожалуй, никогда он не чувствовал так несостоятельность своих прежних методов тональной живописи, как в мастерской Сурикова, где каждый мимолетный набросок вызывал желание повторить за Гоголем: «Яркая музыка очей, живопись, ты прекрасна».
Для Левитана теперь колорит стал основой живописи. А для всех людей, ожидающих от искусства нового слова, творчество Левитана было подобно свежему ветру, очищающему картины от рутины и косности.
III К СОЛНЦУ
ЕЩЕ НЕ СТАЯЛ СНЕГ
Недавно построенный дом на берегу озера стал обитаем. Левитан в высоких сапогах, с этюдником и ружьем через плечо пересек снежную поляну. Он вошел в ателье, раздвинул шторы, и в большие окна брызнул ослепительно-ясный свет, какой бывает только в марте.
– Барынина кровинка приехал, – шептались слуги.
Так ласково в тех местах называли человека, который любил женщину, но не имел права назвать ее женой.
Вскоре и в большом доме появились хозяева: приехала Анна Николаевна с младшей дочерью Лией, черноглазой, лукавой и очень смешливой девочкой, которую в детстве прозвали нежным именем Люлю.
Снег еще цеплялся за землю, но весна шла буйная, дружная.
Мартовские дни 1895 года в Горке принесли Левитану много счастливых находок в искусстве. Он наблюдал и писал первые проблески весны.
Стремительность ее приближения заставляла торопиться. Кругом еще было много снега, но пейзаж менялся мгновенно. И там, где вчера все притаилось под белым покровом, сегодня уже бежали бойкие ручьи, пробиваясь через пласты снега. Остановишься, посмотришь, а пористые хлопья тают на глазах и сливаются с веселыми ручьями.
Левитан заходил домой, чтобы отнести готовый этюд и пополнить красками этюдник. В каком-то запое предавался он слиянию с природой, швырял на холст краски, и мазок страстный, трепетный отвечал взбудораженному состоянию его души.
Картина «Весна. Последний снег» – дань этому упоению весной, разливом рек, таянием снега.
Близ опушки молодой рощицы, розовой от свежих почек, – талая вода и белые островки снега на обнаженной желтой поляне.
Этой весной Левитан больше, чем прежде, старался в этюдах уловить целое. Он писал внешне грубо, но очень тонко сочетал цветовые массы. И удивительное дело! Эти размашистые этюды, в которых прописаны только несколькими красками цвет неба, реки, теней, снега, размытого песка и дальнего плана – леска, без подробностей давали правдивую картину природы. Они очень предметны. В них вы больше ощущаете характер изображенных пригорков, снежных глыб или текущей воды, чем в ином этюде, где выписан каждый камешек в ручейке.
Чем слабее себя чувствовал Левитан, тем сильнее его тянуло к живописи. Он сказал об этом очень верно в письме к художнику Средину перед приездом в Горку: «…искусство такая ненасытная гидра и такая ревнивая, что берет человека, не оставляя ему ничего из его физических и нравственных сбережений».
По ночам, когда не спалось, Левитан слышал, как трескается лед на озере. Ранним утром уже были разводья. Весна в природе и на сердце приносила радостное возбуждение, оно-то и проникало на холсты.
В несколько упорных сеансов написан лучезарный «Март». Горкинская лошадь Дианка подъехала с санями к крыльцу. Солнце греет, снег съеживается на крыше крыльца, и следы от ног на тропинке темнеют, углубляются. Ясное, чистое, синее небо бросает синеву на землю, дает голубые тени под деревьями, пронизывает весь воздух ощущением мартовской голубизны.
Вы полюбите эту картину с первого взгляда, как любите предчувствие весны в морозные дни, озаренные щедрым солнцем. Она вызывает в памяти детство.
В картине, однако, все – в борьбе: зимы с весной, теплого света солнца с холодной лазурью, темных сосен со светлыми, зеленоватыми извилистыми стволами осин, ослепительных пятен снега с синими тенями.
Казалось бы, художник построил этот немудрый сюжет на кричащих контрастах: большой купол ярко-синего неба и большой кусок ярко-желтой стены. Они бы должны спорить, вносить в картину элемент раздражения. Но этого нет. Все примирено. Как? Неуловимо в холодную синеву проникает тепло золотистого солнца, а желтизну стены окутывают голубые рефлексы неба. Так примиряются кажущиеся противоречия цветов, ничто не кричит, а поет гармонично.
Мы привыкли называть снег белым. Он таков для обычного глаза, но не для зоркого видения художника. В картине «Март» снег тоже кажется белым, но если присмотреться, то белизна эта создается из множества цветовых оттенков. Художник по-суриковски многолико воспринял цвет. И потому снег живет, дышит, мерцает, отражая солнце и небо. Вы почти ощущаете этот шелест его медленного таяния.
Левитан не знал суровых слов Чехова о том, что в искусстве его стало мало молодости. Но, не зная, «Мартом» он ответил другу. В русском искусстве трудно найти вторую такую молодую, звонкую, бодрую и целомудренную картину.
Люлю жалела сердце Левитана, носила ему ящик с красками, смотрела, как пишет художник, слушала, как ласково он говорит о природе. Красота, часто видная только ему одному, действовала на него так сильно, что он тут же воспламенялся и произносил ей панегирики.
Девочка любовалась тем, как холст, загрунтованный мелом, углубляется под ударами кисти и превращается в бездонное голубое небо, а внизу покрывается рельефом сугробов, озаренных солнцем.
Минут годы, Аня станет взрослой, а эта солнечная весна останется ярким воспоминанием ее далекого отрочества.
Мы сидим в ее ленинградской квартире и беседуем с пожилой женщиной, в темных глазах которой сохранились и лукавство и огонек. Воспоминания о Левитане стали как бы семейной реликвий. Она одна из семьи Турчаниновых живой свидетель того, как в Горке создавались лучшие полотна художника.
– «Март» писался при мне.
И каждый, кому дорого искусство Левитана, позавидует ей.
ВЫСТРЕЛ
Лета призвали Левитана в город. Он с сожалением расставался с лесным домиком и увез в Москву все, что написал этой доброй к нему весной.
Надо быть на собрании передвижников в Петербурге, повидаться с Чеховым перед разлукой на лето. А потом снова Горка, озеро, дикие утки и краски, вызывающие трепет в душе каждого художника, – масляные краски.
Май. Еще разлив не угомонился. Вышли из берегов все ручейки и речушки. Серая выползает из воды земля, унылые торчат из заводей голые стволы деревьев. Жалкая, скучная картина! Кому она дорога, у кого вызовет в сердце поэтические чувства?
Плещееву довелось сказать об этом так верно:
Отчизна! Не пленишь ничем ты чуждый взор…
Но ты мила красой своей суровой
Toму, кто сам рвался на волю и простор.
Чей дух носил гнетущие оковы…
Левитан любил землю, на которой человек жил, страдал и боролся, он воспевал эту землю, волю и простор.
Весной в Горке художника увлекли разливы. Он писал на берегу реки Снежа, впадающей в Островенское озеро. Вдали виднеются почти вросшие в землю избы деревни Мурово. Белые стволы затопленных берез отражаются в полой воде.
Потом, в мастерской, эти этюды помогут написать тонкую по цвету картину «Весна. Большая вода». В ней художник красками рассказал о чувствах, какие охватили его у разлившейся реки, о жалости к человеку, живущему в полузатопленных избах.
В Горке снова собралась вся семья. Молодые голоса и беззаботный смех разносились по парку.
Из соседних сел приезжали больные, и Анна Николаева, как умела, лечила их, с помощью Сони делала перевязки, давала лекарства, раскрывая стою заветную комнатку, в которой находилась аптечка.
Мало кто замечал, что в доме назревала драма. Только нет-нет да обменяются резким словом выдержанная, воспитанная Анна Николаевна и Варя. Да, бывает, скользнет злой взгляд дочери по моложавому лицу матери. И опять внешне все спокойно.
Или Люлю, крадучись, пробежит по тропинке к домику Левитана и передаст ему записочку от Вари. Она не могла ни в чем отказать любимой сестре.
Художник уходил на охоту и почти не работал. Это был самый верный признак его глубокой подавленности.
Варя полюбила его со всей чистотой и силой первого, настоящего чувства. Она хотела, она требовала счастья. И было трудно смотреть, как ясные голубые глаза наполняются слезами и нежные губы искривляются страданием.
Чем мог ответить на это юное чувство Левитан? Ему было бесконечно жаль девушку, и резко прочесть ей проповедь он не решался.
В один из дней, когда Варенька, неопытная и влюбленная, вдруг предложила Левитану тайно бежать с ней, он понял, что этому проклятию не будет конца, в полном отчаянии и страшном приступе меланхолии выстрелил себе в голову.
Выстрел взорвал безмятежность тихой усадьбы.
Левитан лежал в крови. Верховой помчался за врачом. Рана оказалась неопасной. Внимательный врачебный уход и забота Турчаниновой спасли художника. Доктор делал перевязки, но больную душу измученного человека он не мог вылечить.
Так трудно ему никогда не было, и 23 июня он шлет отчаянное письмо Чехову: «Ради бога, если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда. Приехал бы сам к тебе, но совершенно сил нет. Не откажи мне в этом. К твоим услугам будет большая комната в доме, где я один живу, в лесу, на берегу озера. Все удобства будут к твоим услугам: прекрасная рыбная ловля, лодка».
Левитан ничего не сказал другу о покушении. Чехов с поездкой не торопился, надеясь, что художник, как это часто бывало, справится с мрачным настроением.
Но через неделю пришло письмо Турчаниновой, от которого повеяло настоящей тревогой. Она писала: «…обращаюсь к Вам с большой просьбой по настоянию врача, пользующего Исаака Ильича. Левитан страдает сильнейшей меланхолией, доводящей его до самого ужасного состояния. В минуту отчаяния он желал покончить с жизнью 21 июня. К счастью, его удалось спасти. Теперь рана уже не опасна, но за Левитаном необходим тщательный, сердечный и дружеский уход. Зная из разговоров, как Вы дружны и близки Левитану, я решилась написать Вам, прося немедленно приехать к больному. От Вашего приезда зависит жизнь человека. Вы, один Вы, можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеного решения покончить с собой. Исаак Ильич писал Вам, но не получил ответа. Пожалейте несчастного».
И Чехов поспешил к Левитану. Тот встретил его радостно, прильнул к нему, познакомил с хозяйкой дома. Тут же сорвал с головы черную повязку. Рана уже зажила. Когда Чехов разговорился с Анной Николаевной, Левитан взял ружье и пошел на озеро. Скоро он вернулся с убитой чайкой и бросил ее к ногам Турчаниновой, как когда-то бросал такую же чайку к ногам Кувшинниковой в Плесе.
5 июля Чехов писал из Горки Суворину: «Сюда я только что приехал и располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера. Вызвали меня сюда к больному. Вернусь я домой, вероятно, дней через 5, но если напишете мне, то я успею получить. Имение Турчаниновой. Холодно Местность болотистая. Пахнет половцами и печенегами».
Как всегда, сам вид Чехова действовал успокоительно. Левитан даже заулыбался, показывая ему свои любимые места, восхищался его умением сразу располагать всех к себе.
Горкинские жители уже были покорены писателем, старались не пропустить ни одного его слова. Накаленная атмосфера в доме чуть разрядилась. Варя уехала в Петербург. Гость оказался самым лучшим целителем.
Чехов ни на минуту не переставал быть писателем. Он наблюдал и запоминал: цвет холодного, сумрачного озера, поляны цветов. Он заметил даже маленькую аптечку Турчаниновой и поинтересовался, чем она лечит своих больных. Он слышал, как гувернантка что-то строго внушала по-английски шаловливой Люлю, и обратил внимание на нежную звучность этого имени.
Возвращая Левитана к жизни, Чехов наполнял свою копилку наблюдениями и уехал, увозя в памяти образ старой усадьбы на берегу сурового озера.
Но ненадолго хватило спокойствия, оставленного Чеховым. Левитан опять жаловался ему в письме: «Вновь я захандрил и захандрил без меры и грани, захандрил до одури, до ужаса. Если бы ты знал, как скверно у меня теперь на душе. Тоска и уныние пронизали меня… Не знаю, почему, но те несколько дней, проведенных тобой у меня, были для меня самыми покойными днями за это лето».
И вновь искусство вернуло художника к деятельной жизни. Он отправлялся на озеро вместе с Люлю, которая теперь всегда носила ему краски, а иногда и гребла, еще больше прежнего оберегая здоровье Левитана. Художник писал водяные лилии в упор. И стоило ему привычным движением взять кисть в руки, как вернулось рабочее состояние. Он уже опять был воодушевлен: «работаю такой сюжет, который можно упустить. Я пишу цветущие лилии, которые уже к концу идут».
Снова Люлю, сидя у весел, молча следила за напряженной работой художника, боясь нарушить тишину, и лишь по временам отгоняла тонкой рукой маленьких бирюзовых стрекоз от палитры с красками.
Левитан отдыхал с этой девочкой от всех сложностей, которые так неожиданно окутали его в Горке. Он пошел с ней к озеру ночью и смотрел на лилии при бледно-розоватом освещении луны.
Тяжелое это лето клонилось к концу, а множество чистых холстов стояло по стенам мастерской. Зато близилась осень.
Необычайная прозрачность воздуха, кругом все раздвинулось на многие версты, и за озерами показались деревеньки, которых в знойные дни не было видно. Нежная голубизна бездонного неба и пылающие, как костры, деревья.
Все звонче, все увереннее ложился на холст цвет, то холодный, как сталь, то горячий, как красная медь.
ИСКУССТВО ТОРЖЕСТВУЕТ
Пасмурным октябрьским днем Левитан приехал к Чехову в Мелихово. По утрам в саду и поле траву и листья белили первые заморозки. На огороде укутывали спаржу, в цветнике пересаживали тюльпаны.
Но 10 октября прояснилось, потеплело, и друзья прогуливались по саду. Чехов был заполнен своей новой пьесой, которую назвал «Чайка».
Левитан забирался в комнатку к Евгении Яковлевне, ему надо было побыть в родной семье, ощутить уют хлопотливой материнской заботы.
В Москве его ждало письмо от Терезы. Вести от родных редко бывали светлыми: непроходимая нищета. А на сей раз сестра вновь просила брата похлопотать о разрешении вернуться ей с семьей в Москве. Спросила, не может ли он обратиться с такой просьбой к Турчанинову.
Да, он был крупным сановником, влиятельным и, верно, не отказал бы Левитану, но он не хотел затруднять его такими сложными хлопотами.
Под впечатлением прочитанного Левитан сразу написал ответ. Письмо это в числе других недавно передали нам родственники художника, живущие в Париже. Как и остальные письма к родным, оно публикуется впервые. Вот эти строки: «Вчера возвратился из деревни и получил твое письмо. Очень тебе сочувствую, понимаю отлично ужас вашего положения, возмущаюсь вместе с вами людьми, обещавшими золотые горы и не сделавшими ничего. Но что я могу сделать, вот в чем вопрос!
Дела мои в этом году из рук вон плохи. Я ничего на выставке не продал, а изменить строй жизни, т. е. уменьшить расходы я не могу, ибо главное, Тереза, это мастерская – без которой я никоим образам не обойдусь.
Таким образом, жизнь идет, траты и на грош не уменьшаются. Достать также permis (разрешение на жизнь в Москве) я не мог ни через Турчанинова, ни через кого-либо другого. Есть вещи, которые кажутся легко исполнимы, но это только на расстоянии.
Если я что-нибудь продам теперь, я сколько смогу вышлю. В настоящую минуту я решительно не могу ничего».
Как трудно написать этот отказ! Левитан всегда помогал родным. Когда Тереза нелегально приезжала в Москву, он нагружал ее подарками и необходимыми вещами для всех детей, платил за них в школы и постоянно отправлял деньги.
Этот отказ не добавляет веселых минут. Левитан сидит в своей удобной мастерской, к которой стремился долгие годы. Осенние этюды, привезенные из Горки, стоят нераспакованными. Он не может работать. Нет сил…
Как остаться одному с таким отчаянием! Левитан пишет Поленову, просит разрешения приехать к нему. Он чувствует себя в городе таким одиноким.
Это не было воплем малодушия – это жалоба творца, страдающего без творчества.
Как-то композитор Рахманинов рассказывал то же об Л. Толстом: «Возьмите Толстого – если у него болел живот, он говорил об этом целый день. Но горе-то было не в том, что болел живот, а что он не мог тогда работать. Это и заставляло его страдать».
Поленов ответил горячим приглашением. Но Левитан не успел воспользоваться им. «Вдруг, именно вдруг, меня страстно потянуло работать, увлекся я, и вот уже неделя, как я изо дня в день не отрываюсь от холста!»
Одна из фотографий переносит нас в мастерскую Левитана, когда он встал с кистями к своей огромной картине «Осень, вблизи дремучего бора» и забыл о времени, тоске, житейских невзгодах. Теперь это был вновь талантливый художник, и холсты, приставленные к стене, звали его к неутомимости.
Осень и зиму художник был в этом хорошем рабочем состоянии. Он не знал, когда его покинут силы, когда мутная и жесткая рука болезни вновь схватит его за горло и выбросит кисти из рук. Это могло случиться каждый день, но, к счастью, работы так захватили, что не отпускали от себя.
Если бы кто-нибудь вошел в эти дни в мастерскую Левитана, он погрузился бы в осеннюю пору в ее самом веселом убранстве. Этюдов множество: на них уловлена бездна оттенков осенней листвы. Как всегда, осень для него пора бодрости, прилива сил, буйства красок и больших надежд.
В двух картинах, носящих одно название «Золотая осень», Левитан передал все, что накопил, живя возле реки и озера, когда постепенно на его глазах листья берез, кленов, осин озарялись красками своего заката.
Картины стояли на разных мольбертах, и каждая звала к себе художника. Пока от одного почти законченного холста он старался отвыкнуть, к свету придвигался другой мольберт, и на нем другая картина, давно ожидающая последних решительных прикосновений кисти.
От золотой осени, воспоминаний об озере, горкинском боре Левитан переносится на пять лет назад. По волжским этюдам уже написаны картины, принесшие славу русской живописи.
Одно полотно было начато тоже под свежим впечатлением пребывания в Плесе в 1890 году. Но доныне художник не скрепил его подписью.
Часто он видел такую реку. Ветреный день. Волга волнуется, ее синевато-серая поверхность изборождена желтоватыми барашками. Порой в них мелькает яркая розоватость. Небо ясное, удивительно голубое. По нему разбросаны мелкие лохматые облачка.
На темном фоне воды в таком день ослепительно белы корабли и чайки. Их белизну особенно оттеняет розоватая вода в свету и глубоко-синяя в тенях.
В такой ветреный день во время поездки из Плеса в Рыбинск Левитан задумал свою большую картину, которая отличалась от всего, что он написал, живя в Плесе. Мы помним его поэтичные, тихие вечера, мягкие закаты с куполами церквей, раздольную даль уходящей реки, ее пристани, просмоленные баржи, нищие деревеньки и буйные грозовые тучи.
Но картина, которая стояла сейчас на мольберте и близилась к концу, была другой. Левитан показал Волгу неожиданно: деловитой, большой судоходной рекой.
Огромные расцвеченные баржи везут товары по реке. Вдали – пассажирский пароход. Веселая суета делового дня большой реки. Идут грузы – может быть, на Нижегородскую ярмарку.
На двух баржах – два флага: один русский, другой персидский. Вот она, широкая международная магистраль, соединяющая Восток с Россией, большой торговый путь. Вот когда вспоминаются пушкинские вещие слова: «Все флаги в гости будут к нам».
На первом плане по реке плывет волгарь – то ли бакенщик то ли матрос с баржи, побывавший дома. На первом плане – трудовой человек, которого кормит река и который украсил ее и расписными расшивами и быстрыми пароходами.
Так ошеломляюще ново увидел Левитан любимую реку. Написана картина «Свежий ветер» в новой для Левитана манере. Он увидел множество цветовых оттенков в суровой глади воды. Композиция необычайно монументальна и отвечает идее картины. А сочетание старинных парусных барж и пассажирского парохода говорит о богатом прошлом Волги и ее еще более богатом будущем.








