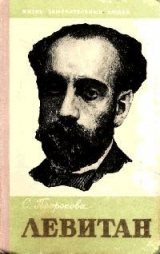
Текст книги "Левитан"
Автор книги: Софья Пророкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Вернувшись из-за границы, Левитан сразу уехал в имение С. Т. Морозова Успенское. Там его навестил Чехов, а потом так описал свое посещение: «На днях был в имении миллионера Морозова; дом, как Ватикан, лакеи в белых пикейных жилетах с золотыми цепями на животах, мебель безвкусная, вина от Леве, у хозяина – никакого выражения на лице – и я сбежал».
Левитан был настроен менее критично и прожил в Успенском до осени, лишь иногда «освежаясь» поездками в Мелихово или к Трояновскому.
Он не работал. Беспокоили мысли о дальнейшем творческом пути. Впервые очень ясно это выразилось в письме к Е. А. Карзинкиной: «Благодарю Вас, что вспомнили обо мне… Ничего почти не работаю, недовольство старой формой – так сказать – старым художественным пониманием вещей (я говорю в смысле живописи), отсутствие новых точек отправления заставляет меня чрезвычайно страдать».
Силы творческие накапливались, мужали, силы физические заметно таяли. Но, несмотря на это, Левитан не переставал искать новых путей в искусстве, которое становилось все более мужественным, а художественный язык – остро выразительным.
ВЕНОК УЧИТЕЛЮ
Порванный по краям аттестат – документ художника Саврасова. Поперек этого удостоверения, через строки, размашистая надпись: «Означенный в сем аттестате надворный советник Алексей Кондратьевич Саврасов сего 1897 года 26 сентября умер во второй московской городской больнице. Больничный священник Евгений Лавровский».
Его хоронили в холодный дождливый день. Пришли художники, среди них – Левитан.
Через несколько дней в газете «Русские ведомости» была напечатана статья Левитана «По поводу смерти А. К. Саврасова». Никогда прежде и после этого он не брался за перо. Написать простое письмо другу для него всегда было большим трудом.
Но на этот раз художник не смог промолчать и опубликовал свою единственную статью, как венок на могилу старого учителя.
Это статья, в которой тесно словам и просторно мыслям. Удивительно, как в нескольких фразах, сжато и очень точно удалось Левитану раскрыть историю русского пейзажа и в ней – место, отведенное Саврасову.
Ученик назвал учителя одним из самых глубоких русских пейзажистов.
Короткий экскурс в историю: прежде в пейзаже искали эффектных мотивов. Левитан пишет: «Саврасов радикально отказался от этого отношения к пейзажу, избирая уже не исключительно красивые места сюжетом для своих картин, а, наоборот, стараясь отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной стране».
Будто о себе пишет художник, о простоте избираемых мотивов, в которых поет душа пейзажиста, «но в этой простоте целый мир высокой поэзии».
Левитан находит то единственное место, которое по праву принадлежит Саврасову. Он «создал русский пейзаж». Он – талантливый и самобытный мастер.
От него в числе других учеников Левитан принял эстафету правды. Но ведь нельзя же только следовать за учителем. Ибо, как очень верно сказал еще Микеланджело, следовать за кем-нибудь – значит потерять возможность его опередить. Левитан опередил учителя, но не выпускал из рук эстафеты правды.
ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!
Берег озера Сенеж. Еще не работается. Кажется, что это обычная летняя апатия. Много читает.
«Надоест читать, – пишет он Е. А. Карзинкиной, – смотришь на воду, а это почти всегда интересно; надоест вода – книга, и так целые дни. Чем делаешься старше, тем, конечно, общество все менее и менее нужно, хотя подчас хочется людей. Одиночество и благо и страдание». И, конечно, он зовет сюда Чехова: «Вернулся из-за границы и тотчас же переехал в деревню. Живу я здесь в великолепном месте: на берегу очень высокого громадного озера; кругом меня леса, а в озере кишит рыба, даже бывают и крокодилы (это для тебя, видимо, заманчиво?!)»
В лес он брал с собой томик Шопенгауэра. Но просит своего нового знакомого С. П. Дягилева не тревожиться, что под влиянием мрачных мыслей этого философа он станет писать пессимистические пейзажи: «Не бойтесь, я слишком люблю природу».
Осенью – обычный прилив сил. Чехов тревожится о здоровье Левитана; тот пишет ему правду: «То бодр, то лежу и тяжко дышу, как рыба без воды… Недуг-то достаточно значителен… Очень много работаю. Затеянные мною картины уносят много сил».
Но он не отходит от мольберта. Согласился даже участвовать в иллюстрировании трехтомника Пушкина вместе с товарищами – В. Серовым, К. Коровиным и другими.
Поэзия была для Левитина тем же, что природа и музыка. Нельзя просто сказать, что он любил стихи. Поэтические строки Пушкина, Тютчева, Некрасова стали как бы его собственными мыслями.
И теперь, глядя на три тома Пушкина в светлом кремовом переплете, читая стихи, которые для себя отобрал Левитан, мы словно листаем страницы его самого сокровенного дневника. Слова поэта он переносил в рисунки, он, художник, в это время составлял одно целое с поэтом.
Что же выбрал для иллюстраций Левитан, который не сделал бы ни одного рисунка к произведению, не созвучному его собственным чувствам?
И мы словно проникаем в душу художника. Он мог бы повторить за Пушкиным:
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты…
И последние строки, к которым сделан рисунок:
Один – на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..
Снег и опушка темного леса. Перед ним – тонкое дерево с голыми ветками, и только на одной из них зацепился трепещущий сухой лист.
Сколько чувства, мысли и как скупо они выражены в этой иллюстрации!..
Другой рисунок к стихотворению «Ненастный день потух».
Надо много выстрадать, передумать, чтобы дать к этим строкам рисунок, так точно выражающий мысль поэта. Темный силуэт леса, тревожное мглистое небо, из-за тучи выходит полная луна.
Художник берет и другие стихи Пушкина, в которых надежда, призыв, вера в будущее.
Он рисует бушующие волны моря, которым нет конца. И обращается к этим волнам вольнолюбивыми строфами поэта:
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Художнику близки мысли поэта, он согласен с Пушкиным.
Судьба людей повсюду та же;
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.
Ему ли не знать справедливости этих слов? Когда кругом так трудно дышать, то и для Левитана остается все меньше целебного воздуха.
Наиболее удачный рисунок, который художник ценил сам и сфотографировал себе на память, относился к любимому стихотворению Пушкина.
Дорога вьется полем, поднимается на пригорок, исчезает за ним. По одну сторону от дороги – две высокие сосны облепили молодые сосенки, и они тесно прижимаются к стволам родителей – дружная их детвора. По другую сторону дороги скучает одинокая сосна.
Так просто и очень ясно выразил Левитан мысль стихов Пушкина:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст.
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум…
Левитан тоже знал, что не ему дожить до поры, когда возмужает племя младое, незнакомое. Но все творчество его было обращено к этим сильным людям будущего, которые узнают, как сделать жизнь прекрасной на этой прекрасной земле. Он верил в это и писал свои радостные, полнозвучные полотна для них.
НАПУТСТВИЕ
Осенью во дворе Училища живописи, ваяния и зодчества с телег разгружали деревья в кадках, зеленый и бурый мох, елки, сухие ветви с пожелтевшими листьями. Распоряжался разгрузкой Левитан – вновь приглашенный профессор пейзажной мастерской.
Он был бледен, утомлен, ходил, опираясь на палку. Но оживление блестело в его глазах. Он суетился, весело поглядывал на зеленые растения и попросил внести все привезенное в мастерскую.
Ученики, пришедшие на первое занятие, были удивлены, что попали в лес вместо класса. Они нетерпеливо ждали встречи с профессором.
Пейзажная мастерская была восстановлена после нескольких лет перерыва. Левитан охотно согласился взять на себя руководство: боялся только, хватит ли сил. Но, видимо, эти-то убывающие силы и натолкнули его на решение.
Долгие годы поисков, сомнений, творческих мук. Сколько узнано, постигнуто, как богат опыт! Хочется передать все это другим – молодым, талантливым.
Как всегда, Левитан увлекся. Он делил теперь время между своими картинами и первыми пробами еще робкой ученической кисти. Вспоминалась юность, словно это было так недавно. В этих же классах ходил он неприютный, голодный, но полный больших надежд.
Профессор был очень внимателен. Увидит, кто-то пишет этюд малярными красками, такими, что подешевле, – незаметно даст денег на покупку масляных красок. Подметит бледность, осунувшееся лицо ученика, поможет и ему так, чтобы никто об этом не знал. Жестокая юность никогда не забывалась.
Попав в обстановку леса, ученики писали этюды – каждый, что хотел. Выбор мотива свободен. Надо писать всегда то, что понравилось, взволновало.
Учитель почти никогда не касался своей кистью этюда ученика. Он объяснял, что надо исправить. Говорить умел, слова его были указанием точным, продуманным. Учить надо азам в живописи, хотя бы тому, что мазок кисти должен строить предмет, образовывать его форму.
Вскоре сменилась декорация: мастерская превратилась в оранжерею, она заполнилась цветами. Хризантемы, азалии и бегонии стояли в горшках. Зрелище этого цветочного изобилия было так прекрасно, что рука сама тянулась к кисти.
Левитан увлекал рассказами о том, сколько наслаждения ему доставляет писать цветы. Старался передать эту любовь молодым живописцам. Он был строг и непреклонен в своих требованиях, просил долго искать ракурс, стройную композицию, прежде чем начать писать этюд с живых цветов. Мог очень резко спросить способного, но невнимательного ученика:
– Из чего сделаны ваши цветы? Что это: бумага, тряпка? Нет, вы почувствуйте, что они живые, что налиты соком, тянутся к свету: надо, чтобы от них пахло не краской, а цветами.
Левитан не был больше равнодушен к французским импрессионистам, понимал и признавал манящую силу их искусства. Но сам искал своих путей, влиянию импрессионистов не поддался, ясно видя впереди более высокую стадию живописной культуры.
Он и учеников наставлял искать свою тропу сразу, не дожидаясь зрелости. Был нетерпим ко всем, кто гнался за модой. Зачем делать то, что уже сделано?
Один из талантливых его учеников, Петровичев, который побывал на выставке французских художников, увлекся фиолетовыми, синими, зелеными тонами. Но пользовался ими неумело, не чувствовал их в природе, а только видел на чужих холстах.
Левитану нетрудно было догадаться, откуда взялась его лиловая страсть. Учитель, для которого всегда и превыше всего была правда, прозвал даже ученика «лиловым господинчиком», убедил его, что колорит природы гораздо богаче раздражающих фиолетовых этюдов. Говорил мягко, приучал глаз видеть в натуре все богатство ее оттенков.
Учил прежде всего видеть общее, типичное. Когда оно найдено, легче определить, чего еще недостает для характеристики пейзажа.
Часто слышали ученики такие слова Левитана:
– Дайте красоту, найдите бога, передайте не документальную, но правду художественную. Долой документы, портреты природы не нужны.
Он учил почувствовать суть натуры и освободить ее от случайностей.
Интересен один случай. Как-то Курбе писал этюд. Приятель, который был с ним, спросил: «Что это там коричневое вдали, м-е Курбе?»
Курбе долго вглядывался в даль, но ответить не мог, потом увидел коричневый мазок на своем этюде и уверенно сказал:
– Хворост.
И это действительно был хворост. Художник так искусно передал в этюде характерные очертания сухих веток, что их легко было распознать.
Вот к такой точности изображения целого и призывал Левитан своих учеников.
Постепенно Петровичев отходил от своих фиолетовых тонов и пользовался всеми красками палитры. Вскоре он стал одним из любимых учеников. Левитан оценил его талант и великую преданность искусству.
В мастерскую пришел Серов. Он тоже стал теперь профессором Училища и часто бывал у Левитана, который любил «освежать атмосферу» его «глазом».
Петровичев написал тогда свою искреннюю картину «Сараи в сумерки».
Серов посмотрел на нее и сказал:
– А сарайчики-то спят…
В этом коротком замечании прекрасного художника – признание даровитости ученика.
Левитан согласился с мнением товарища:
– До чего же это просто, кажется, проще и не придумаешь…
Серов был часто на устах у Левитана. Надо ему доказать, что художником можно стать лишь ценой большого труда. Он и скажет: «Не бойтесь пота, как Серов», – и расскажет, как много сеансов пишет он портреты, но в живописи Серова никто не заметит, что успех дается лишь ценой жертвенного трудолюбия.
Подойдет разговор к технике живописи, вновь не удержится Левитан, чтобы не привести в пример Серова:
– Можно писать и без мазков, Тициан писал пальцем. Серов тоже иногда пускает в ход большой палец там, где нужно.
При ясной тяге к большим обобщениям Левитан был врагом неоправданного ухарства кисти. Нужны не мазки, а форма.
С одним учеником из-за этого даже произошел крупный разговор. Он уже рисовал довольно уверенно, а писал цветы аляповато, скрывая под внешней свободой мазка полное пренебрежение к форме.
Этюды его нравились некоторым ученикам. Левитан быстро развенчал эту раннюю славу. Он был благовоспитан и мягок в обращении. Но тут вспылил и взволнованно кричал:
– Это черт знает что такое! Что вы делаете? Разве это цветы? Это какая-то мазня, а не живая натура. Нет уж, батенька, потрудитесь не мудрить и не гениальничать раньше времени.
Пришлось ученику обуздать свой мнимый темперамент и заняться серьезной штудировкой натуры.
Но вспышки такие были крайне редки, чаще текли содержательные разговоры. Левитан – удивительный рассказчик, а об искусстве он говорил с большим подъемом. Сами собой его мысли складывались в такие фразы, которые от складывались как афоризмы.
Среди оживленной беседы в кругу молодых пейзажистов Левитан мог неожиданно спросить:
– Любите ли вы стихи Никитина?
Кто-то вспомнил отрывки из хрестоматий.
– Нет, нет, – заволновался Левитан, – знаете ли вы его стихи о природе? Вот хотя бы это.
И начинал читать «Утро». Каждое слово этих бесхитростных строк сопутствовало ему с юности. К концу он воодушевился, мягкий голос его окреп, на бледных щеках даже появился румянец. Последние строчки он произнес так задушевно:
Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!
Эти дружеские встречи для пейзажистов были не менее дороги, чем занятия в мастерской. Богатая, разносторонняя образованность Левитана раскрылась перед ними. Он говорил с ними о Бетховене, – и для многих музыка этого гиганта открывалась в новом свете. Он пересыпал свои беседы длинными выдержками из статей Чернышевского – и перед слушателями вставало высокое назначение русского искусства, его будущее.
А иногда Левитан смешил своих молодых друзей. Это случалось, если, приезжая с очередной выставки из Питера, чувствовал себя бодрее. Он был большой насмешник. Читал статьи из газет о выставках и сопровождал их остроумными репликами. Сразу всем ясен взгляд рецензента, вкусы зрителей, оценка вновь показанного произведения.
Однажды он был в особом ударе. На расспросы о питерской выставке ответил так:
– О, есть работы высокой законченности! Чеканка по золоту и серебру. Если хотите, их краски даже красивы, но это красота… продажной женщины за двадцать копеек. Поражен, господа, обилием самоваров. Везде самоварчики…
Это веселое словечко вылетело из мастерской Левитана и быстро привилось в разговорном обиходе. С той поры оно стало синонимом выглаженной, прилизанной живописи, лишенной вдохновения, передающей лишь иллюзию предметов.
Скульптурным классом в Училище руководил Паоло Трубецкой, живший долгое время в Италии.
Молодежь боготворила Трубецкого за несравненный дар ваятеля.
Левитан особенно сблизился со скульптором, когда оба стали преподавателями Училища. Трубецкой вылепил статуэтку с Левитана. Скульптору удалось создать удивительно поэтичный образ художника. Маленькая статуэтка яснее многих слов говорит о том, как глубоко понял скульптор художника за время их недолгой, но горячей дружбы.
Серов, Левитан и Трубецкой – эти три труженика искусства учили и молодежь служить ему безраздельно. Серов в портрете, Левитан в пейзаже и Трубецкой в скульптуре передавали будущим художникам все, чего достигли сами.
Левитан приглашал учеников в свою мастерскую. Не каждый из профессоров так широко открывал для обозрения незаконченные работы. А у него не было секретов, он хотел всеми способами приобщить учеников к большому искусству. Знакомил их даже с экспериментальными работами. Показывая их, говорил: «Это был год опыта».
В это же время сестра просила брата обратить внимание на живописные способности сына, даже взять его к себе в ученики. Левитан предупреждал Терезу от опрометчивого поступка и писал ей: «Что касается Фали, я не знаю что сказать; если он в самом деле талантлив, то имеет еще смысл учить его живописи, но только в том случае… Вообще не надо очень розово представлять себе перспективу его обучения – живой пример я – сколько усилий, труда, горя, пока выбился на дорогу!»
Учитель без устали внушал и молодым художникам, как труден избранный ими путь, каких лишений, жертв и самообладания требует искусство.
Весной 1899 года сняли дачу в Кускове. Левитан часто навещал группу молодых пейзажистов. Опираясь на палку, он обходил всех, когда они писали этюды. После толковал с каждым о том, что увидел в работе ученика.
Хозяйство Левитана вела старушка, которую он называл няней, и каждый раз привозил пакеты с домашней провизией, приготовленной ее заботливыми руками. После неизменной гречневой каши с молоком содержимое профессорских пакетов уничтожалось жрецами искусства с заметным удовольствием.
Как-то ученик Липкин повез в Москву несколько своих этюдов. Левитану нездоровилось, и он на даче не был. Весной 1900 года он все реже находил силы для загородных поездок.
Ученики послали с Липкиным шутливое письмо, до которых их профессор был большой охотник. Они писали, что даже грачи соскучились о московском госте и беспрерывно кричат: «Где Левитан, где Исаак Ильич?!»
Липкин вспоминал: «Левитана это письмо развеселило и порадовало, он любил шутки. «Передайте грачам, что как только встану – приеду. А если будут очень надоедать, попугайте: не только приедет, но и ружье привезет».
В феврале 1900 года на XXVIII Передвижной выставке показывали свои работы ученики Левитана. У П. И. Петровичева были приняты картины «Вешние воды» и «Осенние листья», у Н. Н. Сапунова – «Зима».
Горячность, с какой Левитан относился к преподавательской деятельности, сказалась в его письме к Чехову: «Сегодня еду в Питер, волнуюсь, как сукин сын, – мои ученики дебютируют на Передвижной. Больше чем за себя трепещу! Хоть и презираешь мнение большинства, а жутко, черт возьми!»
За короткий срок творчество молодых пейзажистов стало таким близким – ведь в каждой из этих картин была и частица его, левитановского, сердца.
Все реже приезжал Левитан к своим ученикам на дачу, все чаще присылал записки, в которых острым, нервным почерком писал слова привета.
Май был холодный, дождливый. Один раз профессор не выдержал и приехал все же навестить своих питомцев. Эта встреча походила на прощание. Левитан говорил с каждым учеником отдельно, будто приготовил для него свое напутствие. Всем было очень грустно.
Через несколько дней ученики получили такую записку: «Я не совсем здоров. Вероятно, на дачу больше не приеду. Желаю вам всем хорошенько поработать. До осени. Левитан».
Печальные, разбрелись они в этот день со своими этюдниками.
Мало кто мог сказать: «Я учился у Левитана», – всего несколько человек. Но зато многие поколения художников избрали его своим учителем. И когда размышляют о левитановской школе, возникает целая вереница пейзажистов, которые взяли девизом творчества поэзию и правду в искусстве.
Редкие из них походили по манере на учителя. Он был слишком самобытен. Если кто и пытался писать «под Левитана», то никогда не шел дальше простых повторений, так и не найдя своего пути в искусстве. А Левитан постоянно повторял: «Ценно только то, что ново, повторения не нужны».
В. К. Бялыницкий-Бируля причислял себя к ученикам Левитана, хотя никогда не писал этюда под его руководством. Но он почитал особой удачей судьбы то, что ему довелось иногда пользоваться советами мастера.
Побывав с художником Жуковским в мастерской Левитана, Бялыницкий-Бируля вспоминал:
«Помню, как мы сидели, пораженные зрелищем его прекрасных работ. Но вдруг Левитан подошел к одному из пейзажей и начал жестоко тереть стеклянной бумагой небо. Мы были удивлены. Жуковский толкнул меня плечом. Левитан, заметив наше недоумение и продолжая неистово тереть пейзаж, заговорил: «Видите ли, нужно иногда забыть о написанном, чтобы после еще раз посмотреть по-новому. И сразу станет видно, как много еще не сделано, как упорно и много еще надо работать над картиной. Я сейчас снимаю лишнее, именно то, что заставляет кричать картину».
Эту высокую взыскательность к труду художника оставил Левитан в наследство своим ученикам.
К ВЕРШИНАМ
Суриков любил говорить молодым художникам:
– Вырубил форму и больше не подходи к ней на пушечный выстрел.
Левитан в последние годы стремился именно к такой точной и характерной форме предметов, выраженной немногословно.
Это была пора, когда мастерство его кисти достигло самой высшей точки. Он изучил природу во всех тонкостях и стремился показать ее типичные черты. Все, что мешает замыслу, должно уничтожаться в картине. И нередко этюд, написанный с натуры, обладал большими деталями, чем законченное произведение. Это был высший отбор изобразительных средств, который приходит к художнику вместе с отточенным мастерством.
Чем больше картина освобождалась от ненужных деталей, тем более законченной считал ее художник.
Левитан уже был признан в кругах высшей художественной аристократии, избран академиком, и Чехов посмеивался, что ему больше нельзя говорить «ты».
Его работы показываются на международных выставках, и он избирается действительным членом мюнхенского художественного общества «Secession».
Но чаще, чем когда-либо, из нескольких картин, привезенных на выставку, он увозит многие обратно в мастерскую. Их ждет разная судьба. Одни еще будут доведены до желаемого. Другие так и простоят прислоненными к стене.
С годами все более сильным становилось стремление к новому. Не ради ложного новаторства, а лишь ради того, чтобы не повторять достигнутого.
Он и учеников наставлял всегда искать новое, считая, что в этих поисках вечная юность художника. Но при этом с грустью добавлял:
– Быть всегда новым – стоит огромного напряжения. Многие не выдерживают…
Трудно было и ему. Но работы последних лет говорят о том, что усилия эти не пропадали даром.
Глядя на них, никому не придет в голову, что они писаны слабеющей рукой, порой в полуобморочном состоянии, когда не было сил выстаивать долгие часы перед холстами. Но он не упускал ни одного часа, когда бы можно было держать кисть.
Есть и среди великих художников не блестящие колористы, но путь развития живописи именно в колористическом обновлении. И Левитан отдавал последние силы, извлекая из своей палитры все новые и новые цветовые решения.
Краткость и выразительность были всегда присущи русскому искусству от Рублева до Репина, получившего медаль «За экспрессию», которой была отмечена его картина «Бурлаки».
Экспрессия и лаконизм были девизами Чехова. Он писал молодому Горькому:
«Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация. В Ваших же затратах чувствуется излишество». Во имя большей «грации» Чехов иногда вырезал удачные фразы чуть ли не со скрежетом зубовным.
Полотна Левитана тоже проникнуты грацией. И в своей знаменитой «Золотой осени», писанной по плесскому этюду, он расставил так основные красочные акценты, что в картине нельзя было ничего прибавить и ничего убавить.
Теплый, ясный осенний воздух по-сентябрьски прозрачен. Дорожка бежит к деревне – мягкая, розоватая. Самое яркое пятно – оранжевое дерево. За ним жалкая изба и сараи. Их обветренные старые бревна согреты осенним солнцем! Сколько мастерства и сколько любви! Потому-то «Золотая осень» долгие годы ждала последних прикосновений кисти, этюд был написан еще в Плесе.
Как напряженный, взволнованный «Музыкальный момент» Рахманинова, настраивает картина Левитана «Последний луч». Дорога круто поднимается вверх. Все погружено в вечерний мрак, и только на пригорке багровый луч уходящего солнца скользит по избам. Это багровое пятно звучит, как набат.
О светлой жизни для обитателей нищенских деревень мечтал Левитан.
Это стремление выразилось наиболее полно в тревожном колорите «Последнего луча». Пейзаж волнует. Да, не умиляет, не вызывает слов восторга, а будоражит. Он лишает покоя. И это хорошо – так и должно действовать на чувства человека подлинное искусство.
Большое смятение в газетах того времени произвел пейзаж Левитана под эпическим названием «Летний вечер». Околица деревушки. Скользнув по верхушке ворот, солнце озарило поле и дальний лес. Картина летнего вечера, переданная художником так просто, скупо и вместе с тем с такой живописной щедростью. Вот где подлинная грация!
Но картина эта была встречена недружелюбно. Некто А. С-ъ из «Московского листка» даже публично возражал против ее приобретения в галерею Третьяковых. Он писал: «Прежде всего мне очень нравится этот только еще начинающийся летний вечер, я чувствую его, я хочу насладиться им. Надо сознаться, что к нему так и тянет…»
Но все эти хорошие слова рассыпаются в дым, когда автор статьи подходит ближе к картине. Оказывается, ее надо смотреть на расстоянии, иначе впечатление теряется. И тогда испуганный критик готов кричать об опасности широкой манеры Левитана, он даже менторски советует ему: «Поменее доверия к себе».
Может быть, этот любитель вылизанных картин предложил бы и архитектуру смотреть на малом приближении. Тогда он увидел бы только несколько кирпичей вместо высокой колокольни.
Этот предостерегающий голос был не единственным. Творческие поиски художника порой даже встречали откровенные насмешки. Левитан шел мимо всего этого хора осторожных блюстителей порядка в искусстве. Он верил, что впереди его ждут еще большие открытия в живописи. Но ведь к ним не придешь, расшаркиваясь перед каждым консерватором.
ПЕРЕПОЛОХ
Фабриканты и банкиры не желали украшать своих роскошных особняков «лаптежными» картинами передвижников и властно требовали от художников удовлетворения их изощренных вкусов. В среде передвижников царил кризис, а идеологические их противники рвались в бой за «освобождение» искусства из-под эгиды Стасова и «социалиста» Крамского. Малодушные поддавались искушению и продавали свою душу, а люди, верные принципам Товарищества, метались в поисках новых сюжетов. Именно в такое трудное для русского искусства время в свет вышла статья Толстого «Что такое искусство?».
Левитан, сам искавший новых путей, с жадностью накинулся на сенсационную статью Толстого.
Толстовские проповеди заражали многих людей, ищущих правды. Часовников, тот пылкий Часовников, так любивший еще в Училище Левитана, пал жертвой толстовства: бросив искусство, он постригся в монахи и ушел на Соловецкие острова. Каждый раз, вспоминая о трагической судьбе близкого товарища, Левитан погружался в долгое и тяжкое раздумье. Его мучила мысль о том, как мало он сделал, чтобы сохранить Часовникова для искусства.
Сам Левитан прошел тяжкий путь борьбы и слишком ценил реальный мир, чтобы поддаваться иллюзиям Толстого. В пору усталости он как-то подтянул в унылом хоре непротивленцев злу своей «Обителью», но и это было только однажды.
И вот эта статья, в которой Толстой называет современное искусство великим обманом.
«Люди богатых классов требуют от искусства передачи чувств, приятных им, и художники стараются удовлетворять этим требованиям…»
И Толстой пишет, что до тех пор, пока не будут высланы торговцы из храма, храм искусства не очистится.
Он обвиняет искусство богатых в оскудении:
«…круг чувств, переживаемых людьми властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу».
Да, это правда, сказанная сильно и смело. Левитан читает дальше: «Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей».
Призывая к уничтожению такого искусства, Толстой выдвигает свой идеал: «…как только религиозное сознание, которое бессознательно уже руководит жизнью людей нашего времени, будет сознательно признано людьми, так тотчас же само собой уничтожится разделение искусства на искусство низших и искусство высших классов. А будет общее братское искусство…» Обвиняя искусство в отходе от религии, Толстой предает анафеме «декадентов», валя в одну кучу Моне и Клингера, Эдуарда Мане и Беклина. Кстати, картин этих художников он никогда не видел в подлинниках.
В своей ярости писатель отлучает от искусства Шекспира, Вагнера и Микеланджело «с его нелепым «Страшным судом».
Вспоминая об открытии в Москве памятника Пушкину, граф Толстой пишет о каких-то мужичках, слепленных им из розового постного сахара, которые не понимают, почему так возвеличили Пушкина, писавшего «стихи о любви, часто очень неприличные».
И, наконец, в своем неистовстве он обрушивается на Бетховена, произведения которого «представляют художественный бред»!!!
Тут Левитан не выдержал и пишет Чехову: «Большой переполох вызывает у нас статья Толстого об искусстве – и гениально и дико в одно и то же время. Читал ли ты ее?»
Письма Чехова к Левитану не сохранились, и мы не знаем, как он ответил на этот вопрос. Но известно письмо Чехова к Суворину и в нем такие строки: «…статья Л. Н. об искусстве не представляется интересной. Все это старо. Говорить об искусстве, что оно одряхлело, вошло в тупой переулок, что оно не то, чем должно быть, и проч. и проч., это все равно, что говорить, что желание есть и пить устарело, отжило и не то, что нужно. Конечно, голод старая штука, в желании есть мы вошли в тупой переулок, но есть все-таки нужно и мы будем есть, что бы там ни разводили на бобах философы и сердитые старики».
А в письме из Парижа к Марии Павловне он говорит:
«В Париж приехал я вчера. Был у художницы… (Хотяинцевой А. А.) у нее был Переплетчиков, который стал спорить и ругать Толстого, это напомнило мне Москву и московскую скуку – и я ушел».








