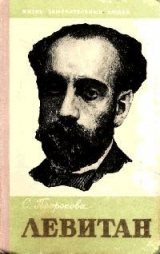
Текст книги "Левитан"
Автор книги: Софья Пророкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Еще не раз успех прильнет и отхлынет, окрылит или опечалит. Но плоды второго лета, проведенного в Плесе, принесли Левитану славу устойчивую и заслуженную.
ОНИ ШЛИ РЯДОМ
В двадцать лет Михаил Нестеров написал автопортрет: лицо встревоженное, полный ожидания взгляд, черты острые, жестковатые, выдающие решительность характера.
Левитан узнал такого Нестерова еще в Училище. Он был смолоду человеком непреклонных взглядов, преданным искусству.
Они стали друзьями. И хотя трудно найти две более несхожие натуры, молодые люди этого не замечали. Не всегда ведь дружба в полной гармонии, иногда ее питает интерес к противоположности характеров.
Резкий в суждениях, фанатично религиозный Нестеров. Мягкий, впечатлительный, убежденный атеист Левитан. Чехов сказал о нем как-то писателю П. Сергеенко: «Он ни во что не верил, – в тамошнее…» Что общего было между друзьями? Любовь к искусству.
В разное время они едут за границу, посещают Всемирную выставку в Париже. Нестеров приезжает, покоренный мистиком Пюви де Шаванном. Левитан не находит слов, чтобы выразить свое отвращение к этому художнику. Но они не поссорились, умея уважать убеждения друг друга.
Долго каждый из них искал свой путь в искусстве. В 1889 году Левитан по волжским впечатлениям написал картины, говорящие о растущей самобытности.
В этом же году Нестеров показал первую картину на Передвижной выставке. Это был «Пустынник», и с нею начинается своя тропа в творчество Нестерова.
Позади остались жанровые сценки, которые писали многие, исторические картины, в них тоже голос художника не отличался от других. Пробы в портретах – заявка на большое и славное будущее. Наконец картины религиозных сюжетов, в которых найден свой стиль.
Встречались товарищи редко, урывками. Нестеров уезжал учиться в Академию, вернулся в Московское училище, когда Левитан его окончил, часто гостил у родных в Уфе. Но чем реже встречи, тем они желаннее, насыщенней.
В новую светлую мастерскую Левитана пришел П. М. Третьяков. Он смотрел здесь «Золотой Плес» и «После дождя». Купил обе картины еще перед тем, как их увидели на выставке.
Левитан спешит поделиться с друзьями тем, что фортуна, наконец, повернулась и к нему. Он вбегает в номер гостиницы, где остановился приехавший из Уфы Нестеров. Но ничего не успел рассказать взволнованный художник. Поеме первых слов привета он засмотрелся на картину, которую Нестеров тоже привез на выставку. Перед ним было «Видение отроку Варфоломею».
Левитан смотрит на озаренное верой лицо отрока, его сжатые в священном трепете руки, на нимб вокруг головы старца и сказочно русский пейзаж с холмистыми полями, стогами и старинной деревянной церковкой, так похожей на ту, что он сам недавно писал в Плесе.
Он долго молчал, забыв о присутствии автора картины, весь отдаваясь чувству ее новизны. Потом сказал скупо:
– Картина хороша, успех будет.
И меньше всего, конечно, Левитан отдал своих чувств отроку, остолбеневшему перед старцем с сиянием святого. Его захватил расстилавшийся перед ним осенний русский пейзаж, написанный так искренне.
Вот где они больше всего сходились, таких два разных человека, – в восприятии и передаче природы.
Новое произведение Нестерова встретило разноречивые оценки. Третьякову оно понравилось, и он приобрел его еще до открытия выставки.
Резко и справедливо осудил картину В. В. Стасов. Он писал: «Только одному из новоприбывших я не могу симпатизировать – это Нестерову. Еще не в том беда, что он вечно все рисует скиты, схимников и монашескую жизнь и дела, это куда бы ни шло: что ж, когда у него такое призвание; но в том беда, что все это он рисует притворно, лже-наивно, как-то по-фарисейски, напуская на себя какую-то неестественную деревянность в линиях, фигурах, пейзажах и красках, что-то мертвенное и мумиеобразное…»
Но отталкиваясь от нестеровской религиозной тональности, Левитан не мог полностью избежать ее влияния. Один раз его кисть пошла за елейной смиренностью. которая исходила от картин Нестерова. Только один раз…
У СЕБЯ И В ГОСТЯХ
Подобно тому как родословную человека мы узнаем из биографии его предков, родословную художника мы читаем в творчестве его предшественников.
Давно миновали времена, когда молодым художникам в Академии на получение золотой медали предлагалось такое задание:
«Оливковое дерево, на котором повешены кирасы, сумы и другие военные знаки с именем на оных Ее Величества, под оным несколько военных людей и пастухов с пастушками, играющих на их инструментах и веселящихся, украшенное солнечным сиянием, лесом, полями и ручьями».
Русские пейзажисты прошли и через другой этап, когда красота в природе мнилась им лишь в солнечной Италии, под лазурным небом, у пенящихся морских волн. Только изобильная роскошь вечнозеленых деревьев в заморских странах привлекала их кисть. Рядом лежащие поля, леса и реки скорбной родины не казались достойными для изображения.
Осталась позади и эта пора, когда красота была лишь предметом импорта.
Пришло время, когда на полотнах художников появились родные луга и пашни, березы и ели, серые избы и белые хаты.
Первенство в создании русского пейзажа принадлежит не пейзажистам, а литераторам. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев опередили живописцев.
Художники опрокинули академических кумиров и также воспели не замки и парки, а пашни и хижины, не вечнозеленые оливы, а желтеющие клены. Когда-то скульптор Антокольский назвал пейзаж пассивным искусством. Но это заблуждение. Пейзажи Шишкина, Васильева, Куинджи, Саврасова, Поленова учили любить свою страну. Поэтому пейзажисты стояли в одном боевом строю с Крамским, Репиным, Суриковым, Верещагиным, Ярошенко, Маковским и, кстати, с Антокольским.
Левитан изучал своих предшественников и соратников, как изучал Добролюбова, и знал их, как знал наизусть Пушкина или Никитина.
Саврасов, понимая силу таланта Левитана, передал ему факел русского искусства правды. Но Саврасов же предостерегал молодого Левитана и от национальной ограниченности. Он настоятельно советовал ему внимательней и серьезней присмотреться к Коро, разделяя сам его многие взгляды на живопись.
Сергей Михайлович Третьяков в отличие от брата собирал только картины западных художников, и у него были чудесные полотна Коро.
Левитану посчастливилось получить заказ на копии с картин французского художника. И, следуя кистью за каждым мазком Коро, он вдумчиво и напряженно познавал волшебство его живописи.
Теперь Левитан хотел узнать о французском маэстро больше, чем могли рассказать несколько полотен галереи. Он раскрыл книги. В одной была подробно рассказана жизнь Коро, как рождалось его искусство, печаталось много новых репродукций. Но книга Руже Милле была на французском языке. Познаний, полученных в детстве на уроках отца, оказалось недостаточно. Нетерпеливое желание ближе узнать полюбившегося ему художника вынудило Левитана серьезно вернуться к изучению языка. Он берет уроки у своей престарелой хозяйки, которая сдавала ему комнатенку в Уланском переулке.
Хорошая память Левитана помогает ему быстро преуспеть в языке, и вот книга Руже Милле прочитана от корки до корки.
Ему нравится все в облике Коро. И то, что он вставал чуть свет и шел в лес или к озеру, если было лето, к мольберту в свою скромную мансарду, если была зима. Он ел, не выпуская из рук кистей, и на все попытки родителей женить его весело замечал, что не может же он изменить музе, с которой уже давно повенчан судьбой.
Нравилось Левитану и то, что Коро считал для себя важнейшим в живописи: искренность и глубину настроений. «Добивайтесь того, – советовал Коро, – чего вам не хватает. Работайте, усовершенствуйте форму: ваша живопись от этого только выиграет, но прежде всего следуйте вашему чутью и непосредственному впечатлению; будьте сознательны и искренни…»
Как это все было похоже на то, что говорил Саврасов! Но Саврасов, пожалуй, ошибся как педагог, когда, теряя силы, отослал Левитана к Коро.
Сам Коро сознавал, что краски даются ему с трудом, что природа не наградила его даром колориста. Он строил свою живопись на тональных отношениях больших силуэтов, тончайших градациях тонов от темного к светлому. Вот этой-то так называемой валерной живописью и начинает увлекаться Левитан. Он стремится писать при ровном рассеянном свете, приглушая свет, а порой ищет туманов, которыми так славился Коро. Одна картина так и называется: «Осеннее утро. Туман». Она писана в Плесе.
Дело не в туманах, а в том, что Левитана природа не обделила живописным талантом, и порой краски, рожденные чувством, он рассудочно глушил во имя системы, совершенно чуждой его дарованию. Все время шла борьба: то на этюде появлялись буйные солнечные краски, когда верх брала природа, то вдруг, когда верх брала «система», обычно не на воздухе, а в мастерской, краски обуздывались и цвет превращался в тон.
Так на какое-то время «валеры» окутывают Левитана, а Коро занимает место в его родословной.
Ранней весной 1890 года Левитан впервые поехал за границу. В Париже он застал Всемирную выставку. «Впечатлений чертова куча! – пишет он Чехову. – Чудесного масса в искусстве здесь, но также и масса крайне психопатического, что, несомненно, должно было появиться от этой крайней пресыщенности, что чувствуется во всем. Отсюда и происходит, что французы восхищаются тем, что для здорового человека с здоровой головой и ясным мышлением представляется безумием. Например, здесь есть художник Пюви де Шаванн, которому поклоняются и которого боготворят, а это такая мерзость, что трудно даже себе представить. Старые мастера трогательны до слез. Вот где величие духа!»
Что же это за художник, который вызвал такую бурю возмущения Левитана?
Пюви де Шаванн известен как мастер огромных полотен, в которых сочетал оскопленный классицизм с откровенной мистикой. Его религиозные сюжеты, где святые, парящие в воздухе и вытянутые фигуры античных дев встречаются в одном полотне с вполне современными персонажами, имели своих поклонников.
Понятно, что у Левитана, который исповедовал только один символ веры – правду, все эти выверты мистика вызывали лишь взрыв негодования.
Па Всемирной выставке были полно представлены барбизонцы и особенно Коро. Левитан с наслаждением переходил от картины к картине. Он не мог оторвать глаз от рисунков Коро, поражающих своим ритмом.
Но вот что интересно: после этой встречи с холстами Коро в самом Париже «туманы» не сгущаются над Левитаном, а, напротив, начинают рассеиваться. Как будто только здесь, у холстов Коро, русский художник по-настоящему понял призыв француза к искренности, к тому, чтобы всегда оставаться самим собой.
Выставки и музеи Парижа Левитан сменил на Италию: хотелось отдохнуть. Была ранняя весна, и художник бродил со своим маленьким альбомчиком, занося в него наброски горных вершин н старинных итальянских домов. Ветка цветущего дерева сменялась видом развалин, а флорентийский собор располагался на соседнем листе с тонкими стволами юных деревьев.
Левитан писал и много этюдов. Один из них, «Весна в Италии», передает розовое облако цветущих деревьев маленькой деревушки, прилепившейся у подножья фиолетовых гор. Над всей этой прозрачной картиной пробуждения природы господствует снежная вершина Альп.
Позже Левитан подарил этот чудесный этюд Ермоловой в день ее юбилея. Он познакомился с великой русской актрисой в салоне Кувшинниковой.
В Италии Левитан тоже был захвачен маленькими сельскими хижинами у подножья грандиозных гор, миндалем, расцветающим возле серого каменного дома.
Жилось здесь как будто неплохо. И все-таки скорее хотелось ехать домой. А в Москве, как обычно, знакомые смотрели этюды. И тихонько от одного к другому пополз слушок: «Работы неудачны, Левитан выдыхается, успеха на выставке не будет».
В мастерской уже стояли на мольбертах начатые холсты по впечатлениям от поездки. Художник был полон желания трудиться, новые мысли теснили голову, захлестывали его. А слушок расползался и дошел до Левитана. Находились даже такие «пророки», которые употребляли столь жестокие слова: «Левитан спел свою песенку и умер для русского пейзажа».
Хотя все это была неправда, желчный пасквиль завистников, Левитан тяжко переживал свою мнимую неудачу. Шпицер рассказывал со слов сестры художника, что «равнодушие общества к его заграничным пейзажам совсем поразило художника, и он был сам не свой. Целые дни он угрюмо молчал, не мог найти себе места».
Мрачное настроение сгущалось. Чехов собирался в дальний путь – на Сахалин, и некому будет веселой шуткой отвлечь художника от тяжелых мыслей. Звал и Левитана с собой. Но разве бросишь сейчас все накопленное, что требует большого труда? Уехать в новые места – значит погубить полученные впечатления. И Левитан неохотно отказался сопровождать Чехова.
Художник в своих итальянских произведениях не сделал живописных открытий. Но он продолжал быть и в них Левитаном; только, может быть, «дедушка» Коро «остался» в Париже. Надо было побывать во Франции, чтобы избавиться от французских влияний.
На мольберте уже стоял пейзаж, сделанный пастелью по довольно тусклому быстрому масляному этюду. Это «Близ Бордигеры». Левитан нашел удивительную пластику в шершавых камнях дома, смелое сочетание тонов в зеленой траве и бирюзовых наличниках, легкость в брызгах цветущего миндаля. Всю эту немеркнущую свежесть цвета может дать только пастель, которой Левитан увлекся в эту пору.
Художник И. Остроухов позже писал о своем путешествии по Италии:
«Нашумят, накричат, втиснут в вагон, звучное «Partensa» – и вы в Италии. Сразу тишина, бедные, бедные каменные коричневатые, серые домики у скал с черными отверстиями вместо окон, словно необитаемые. Все, все так красиво! И комбинации этой бедности и грусти с красотой и какой-то лаской удивительно трогательны.
Далекий колокол благовеста. Ave Maria усугубляют впечатление. Красивейшая и ласковая, бедная и грустная Ave Maria!.. Левитан чудесно выразил это настроение в своей Бордигере».
19 апреля 1890 года Левитан провожал Чехова на Сахалин. Ехал с писателем до Сергиевской лавры.
На вокзал опоздал доктор Кувшинников. Он примчался почти перед отходом поезда и повесил Антону Павловичу через плечо дорожную фляжку в кожаном чехле. В ней был коньяк, который доктор наказывал выпить только на берегу океана.
Чехов не нарушил обещания. Он писал Кувшинниковой, что ест удивительную икру, а «бутылка с коньяком будет раскупорена на берегу Великого океана».
Несколько месяцев о дорогом путешественнике напоминали только редкие письма. И почти не было ни одного, обращенного к сестре, в котором Антон Павлович не вспоминал бы о друге. Волга и Плес вызывают в его памяти «томного Левитана». Суровая, величественная природа Сибири возбуждает сожаление о том, что рядом нет художника. «И горы, и Енисей подарили меня такими ощущениями, которые сторицею вознаградили меня за все пережитые кувырколлегии и которые заставили меня обругать Левитана болваном за то, что он имел глупость не поехать со мной».
Эпитеты становятся все злее, а природа все самобытнее. Однако в каждом письме Чехов просит передать привет «красивому Левитану».
«Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков не забуду». И опять художник этого не видит: «Дорога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала нежный, теплый».
Левитан и сам, видимо, сожалел, что не поехал с Чеховым. Но сейчас он спешил после Парижа и Италии скорее опять в Плес. Туда, где наедине с природой приведет в порядок все мысли и впечатления.
ЛЕГЕНДА И БЫЛЬ
Вторая половина дома, в котором Левитан устроил ателье, принадлежала плесскому купцу Грошеву. Он недавно женился на воспитаннице богатого фабриканта из соседнего поселка. Анна Александровна попала в душную семью старообрядцев-фанатиков, изнывала под гнетом жестокой свекрови. Молодой муж, с виду довольно приятный, женившийся по любви, тоже ничем не мог облегчить участь Анны.
Она тосковала, металась. В доме опекуна ей довелось получить кое-какое образование у гувернанток, приглашенных к его дочерям.
Анна тянулась к знаниям, любила читать. Но для свекрови книги – дьявольское наваждение.
В доме у Грошева была своя молельня. Он, сам истый старообрядец, требовал и от жены постов да поклонов перед иконами.
Грошева познакомилась с художниками, подружилась с Софьей Петровной.
Кувшинникова вспоминала об этой встрече:
«Судьбе угодно было впутать нас в семейную драму одной симпатичной женщины-старообрядки. Мятущаяся ее душа изнывала под гнетом тяжелой семейной жизни, и, случайно познакомившись с нами, она нашла в нас отклик многому из того, что бродило в ее душе. Невольно мы очень сдружились, и, когда у этой женщины созрело решение уйти из семьи, нам пришлось целыми часами обсуждать с ней разные подробности, как это сделать. Видеться приходилось тайком по вечерам, и вот, бывало, я брожу с нею в подгородной рощице, а Левитан стережет нас на пригорке и в то же время любуется тихой зарей, догорающей над городком».
В это лето с художниками приехал на этюды и С. Т. Морозов – сын фабриканта. Он пробовал силы в живописи, брал уроки у Левитана и, прослышав об изумительной природе Плеса, захотел там поработать.
Он принял близкое участие в судьбе Грошевой, вызвался помочь деньгами, нанял лошадей. Анна Александровна уехала из Плеса с Морозовым.
Для тихой жизни маленького городка с благовестом церквей под праздник и семенным домостроем поступок Анны Грошевой прозвучал как неожиданный взрыв.
Муж поехал в Москву урезонивать жену. Она отказалась вернуться. А судьба ее сложилась далеко не так блистательно, как это казалось.
История эта поросла быльем, и, пожалуй, в наши дни никто о ней не вспоминал, если бы писатель Северцев-Полилов в 1903 году не выпустил роман под названием «Развиватели» и не сделал участников бегства Дины Грошевой его героями.
Имена очень прозрачно изменены. Левитан зовется Львовским. Кувшинникова – Хрустальниковой. Морозов – Зиминым. Грошев – Полушкиным. Соответственно названы и другие действующие лиц.
Уже ироническим названием «Развиватели» писатель обвиняет художников в ложном просветительстве, в том, что они подговорили Грошеву бежать из дому, а потом бросили на произвол судьбы. Обвинение адресовалось и Левитану, через три года после его смерти.
При жизни художника писатель не отважился бы на такой пасквиль, а он даже осмелился посвятить свой роман Л. П. Чехову.
Северцев-Полилов был знаком с Левитаном, виделся с ним в Плесе и, конечно, знал, что одержимому работой художнику было не до побега Грошевой. Он был просто невольным свидетелем этой истории.
Северцев-Полилов подробно рассказал, как Левитан писал масляными красками портрет Анны Грошевой на фоне распустившихся кустов шиповника. И с тех пор как роман «Развиватели» зачитывался в Плесе до дыр, старики подтверждали, что Левитан действительно писал Грошеву, да еще один портрет ее мужу, а другой – себе.
Где этот портрет, никто вам не скажет. Видимо, вымысел романиста перешел в жизнь, с годами стал выдаваться за быль.
В Плесе нам удалось найти фотографию Анны с мужем, снятую вскоре после свадьбы. Старинный снимок утратил свежесть, к тому же он был не пропечатан.
На нас пристально смотрят вопрошающие глаза. Их встревоженный взгляд выдает натуру мятежную, ищущую. Если к мягкому овалу круглого лица прибавить яркие краски молодости, то возникнет образ милой женщины.
В немногочисленной портретной галерее художника сохранился один рисунок, загадочно называющийся «Женский портрет». Сделан он в начале девяностых годов углем и подцвечен сангиной.
Портрет этот находится в Музее Художественного театра, но его авторство больше не приписывается Левитану, так как не удалось установить, кто послужил ему моделью. Но подпись художника на рисунке видна отчетливо.
Кто эта женщина?
Рисунок на первый взгляд кажется даже чужеродным в творчестве Левитана. Он изобразил очень печальную женщину в широкополой шляпе с вуалью, в пушистом темном боа, накинутом на плечи. Она позирует задумчиво, погруженная в свои печальные мысли.
Не Анна ли Грошева вдохновила Левитана на этот рисунок? Положим рядом пожелтевшую фотографию. Многое в юном лице напоминает эту женщину. Та же линия округлого лба, те же очертания бровей, мягко обрамляющих продолговатые светлые глаза, тот же юношеский овал лица, круглый нос и совсем еще детский подбородок.
Левитан мог нарисовать ее уже в Москве, она часто бывала у Кувшинниковой, в ее трагические дни, в годину невзгод, когда пылкие и радужные мечты ее разбились и жизнь предстала перед ней во всей суровой наготе.
Какими ненужными смотрятся эта дешевенькая меховая горжетка и шляпа, будто надетые с чужой женщины! Огромное горе излучает рисунок, так удавшийся Левитану.
Название «Женский портрет» мы не можем заменить с полным основанием другим – «Портрет А. А. Грошевой», но предположить, что это именно она сидела в глубокой задумчивости перед Левитаном, есть достаточно оснований.
Фантазия плесчан рождает и поныне разные небылицы. Все уже давно забыли, о чем повествовал Северцев-Полилов. Однако вам расскажут, что Левитан влюбился в красавицу Грошеву, похитил ее и потом коварно бросил.
Так легенды сплетаются с былью.
ВДАЛИ ОТ ЖИТЕЙСКИХ БУРЬ
В путевом альбоме Левитана виды Венецианского канала перемежались с записями волжских впечатлений. Веселый этюд итальянской весны летом 1890 года совершил путешествие в Плес; здесь по нему художник написал картину.
Но Италию настойчиво вытесняла Русь, и Волга навевала замыслы новых картин.
Пора освежить впечатления. Всплыли в памяти обрывистые песчаные берега возле Юрьевца. Несколько часов езды пароходом, и Левитан сходит по шатким, скрипучим мосткам на берег.
Город верст на пять раскинулся вдоль берега, а над городом – поросшие хвоей горы, между ними огромные, как пропасти, овраги.
Природа здесь суровее, чем в Плесе. Глухие, таинственные овраги овеяны страшными рассказами о колдуньях, приютах юродивых, чудодейственных свойствах родников.
Три года назад здесь побывал В. Короленко и в очерке описал затмение солнца, наблюдавшееся 7 августа 1887 года. Он увидел удивительную темноту юрьевцев, ожидавших чуть ли не конца мира и встретивших приезжих ученых-астрономов, как вредных еретиков.
Эти грустные наблюдения позволили писателю воскликнуть с горечью: «Сколько призрачных страхов носится еще в этих сумеречных туманах, так густо повисших над нашей святою Русью!..»
Левитан бродил по городу, богатому старинными церквами. Он поднимался в гору и карабкался по древнему валу, который многие столетия назад окаймлял Белый город, старинную крепость, воздвигнутую на неприступном высоком берегу. История, еще более древняя, чем плесская, листала перед ним свои увлекательные страницы.
Задумчивые, тихие пруды, когда-то бывшие крепостными рвами, немые свидетели старины.
Особенно нравился художнику один пруд, под крепостным валом. Он словно вышел из какой-то сказки. Длинный, ровный, неподвижный, закрытый плотной зеленой скатертью ряски. Солнечные лучи выхватывают на ней яркие фисташковые пятна, а рядом лежат голубые тени сосен и елей.
Левитан запечатлел в этюде нижнюю часть юрьевецкого побережья. Называют этот этюд «В пасмурный день на Волге». И сейчас можно бы найти место, с которого художник его писал, если бы Большая Волга не разлилась широко в этих краях. Но нам удалось точно установить, что этот безыменный этюд написан в Юрьевце.
Лодки стоят у самой воды, и волна прибоя намывает на них песок. Вдали маленький буксир деловито пускает дым. Направо – строения под горой, вдали крутой извилистый подъем, ведущий к так называемому Белому городу. Кусочек жизни волжского городка, распорядок которого диктуется рекой, ее размеренной, неторопливой деятельностью.
Юрьевец привлек симпатии художника. Обворожил его один монастырь, расположенный в лесу на противоположном берегу около большого Кривого озера, во время весеннего половодья сливающегося с Волгой.
Дивные истории рассказывали Левитану о прошлом Кривоозерского монастыря.
Был такой странник родом из плесских крестьян – Симон Блаженный. Оставил он родной дом и пошел по деревням. Видали его среди нищих и убогих на церковных папертях. Появился он в Юрьевце и сразу стал совершать чудеса.
Сохранилась старинная тетрадь, в которой неизвестный летописец терпеливой славянской вязью вел реестр содеянных им чудес. Начиналась тетрадь с главного чуда. Один юрьевецкий житель будто видел Симона Блаженного шагающим по волжским водам яко по суху. Свидетель оного чуда клятвенно подтверждал, что Волга держала странника и была ему твердой опорой.
После такого чуда Симону Блаженному ничего не стоило стать пророком: он предсказывал, где вспыхнуть пожарам, кому умереть.
И поговаривали, пророчества сбывались: когда-нибудь вспыхивал пожар или кто-то умирал.
Так хитрого странника после смерти возвели в сан святых. В его честь воздвигли на горе храм, а на берегу Кривого озера – монастырь.
Левитан слушал эти легенды и все чаще переезжал на лодке к монастырю. Шел по узким хрупким лавам, бродил вокруг массивных башен. Он зарисовывал тяжеловесные колокольни, монахов, плывущих по реке.
Что так пленило художника в этом уединенном пристанище монахов?
Впервые он увидел монастырь в час заката, и его влекло сюда воспоминание о другом монастыре, освещенном последними лучами солнца. Это было в Саввинской слободе. Еще тогда возникла неясная мысль о картине. Теперь уединенная от жизни обитель вызвала желание вернуться к этому сюжету. В альбоме появились первые эскизы.
По вечерам Левитан с берега слушал звон монастырских колоколов, напоминающий о тех, кто нашел успокоение, уйдя от мирских бурь в одинокие кельи.
Под благовест церковный рождался замысел картины, возникали эскизы, художник запасался натурным материалом. Иногда это набросок, почти чертежик с мостков, ведущих к монастырю. Он не обладает обаятельностью рисунка с натуры, но зато ясно переносит нас к тому времени, когда художник раскрыл альбом и зачертил в нем несколько линий. Черновая композиция будущей картины уже рисовалась в воображении.
Больше всего художнику запомнились лавы, переброшенные через озеро к монастырю. В них было много наивной прелести, но главное – они уводили глаз зрители в глубь пространства, а это Левитан любил и всегда стремился к возможной глубине в картине. Лавы заняли центральное место и в цветном эскизе, который иногда ошибочно принимают за масляный этюд с натуры.
Захваченный мыслью о новой композиции, Левитан спешит обратно в Плес. И то, чего ему не хватало в Юрьевце, он дополнил наблюдениями на Соборной горе. Отсюда взял он для картины архитектурный церковный ансамбль с древней конической колоколенкой. И на этот раз картина возникала из многих наблюдений, набросков, сделанных в разных местах. Левитан писал с редкостным увлечением и упорством. Это почти никогда не случалось: картина нравилась самому.
Тишина, предвечернее умиротворение. У мостков, ведущих к тихой обители, обрывается суетный мир с его трагическим безвременьем. Восьмидесятые-девяностые годы прошлого столетия. Смельчаки, упрятанные за решетки, страдания родных, сдавленные голоса протеста. Души, попранные произволом, и души мятежные. Все остается на земле. Мостки, ведущие в монастырь, – граница, шлагбаум, за ними покой и нирвана, никаких тревог, сомнений, порывов.
«Тихая обитель» произвела огромное впечатление на выставке. Ее наперебой славили газеты, ею восхищались зрители.
А. Чехов писал сестре 16 марта 1891 года: «Был я на Передвижной выставке. Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина производит фурор. По выставке чичеронствовал мне Григорович, объясняя достоинства и недостатки всякой картины; от левитановского пейзажа он в восторге. Полонский находит, что мост слишком длинен; Плещеев видит разлад между названием картины и ее содержанием: «Помилуйте, называет это тихой обителью, а тут все жизнерадостно»… и т. д. Во всяком случае, успех у Левитана не из обыкновенных».
Возбужденный таким успехом, художник потом написал несколько измененный вариант картины, назвал «Вечерний звон», использовал свои наброски с монахов в лодках, сделанные там же на Кривом озере. Она экспонировалась в Русском отделе Чикагской всемирной выставки.
И вот люди, которые только что кричали, что Левитан для искусства уже кончился, начали кричать о том, что Левитан только еще начался. Находились даже его современники, которые считали, что до «Тихой обители» Левитан не выделялся из общей массы русских пейзажистов и только эта картина открыла перед всеми его несравненный дар.
Так думал Александр Бенуа-художник и критик, рафинированный вкус и субъективные оценки которого обычно делали его мнение спорным.
Бенуа придавал также непомерное значение для развития Левитана его первой поездке за границу, посещению Всемирной выставки в Париже.
Слов нет, художнику было очень важно увидеть своих собратьев по искусству в разных странах, узнать ярчайшие явления художественной культуры. Но нельзя забывать, что в Париж он уже ехал художником с большим практическим опытом. Никакого чудесного перевоплощения в Париже не произошло. Напротив, он отказался от теории Коро и стал писать искреннее и непосредственнее. Колорит «Тихой обители» – свежий, чистый и красочный – ярко об этом свидетельствует.
Но А. Бенуа не отступал от своей точки зрения. Он утверждал:
«В первый раз Левитан обратил на себя внимание на Передвижной выставке 1891 года. Он выставлял и раньше, и даже несколько лет, но тогда не отличался от других наших пейзажистов, от их общей, серой и вялой массы. Появление «Тихой обители» произвело, наоборот, удивительно яркое впечатление. Казалось, точно сняли ставни с окон, точно раскрыли их настежь и струя свежего, душистого воздуха хлынула в спертое выставочное зало».
Картины в Третьяковской галерее, созданные в конце восьмидесятых голов, были лучшим опровержением того, что летосчисление художника Левитана надо начинать с момента рождения «Тихой обители».
Живопись этой картины выгодно отличается от «валерной» манеры предыдущих работ. Сколько в мастерской Левитана лежало этюдов, напоенных красками солнца, которые не уступали по сочности «Обители», но художник никогда не показывал их на выставках.
Успех не бывает полным, крупица горечи всегда сопутствует ему. Такой крупицей была неожиданная выходка приятеля по Училищу Аладжалова.
Художник, не блещущий дарованием, он восполнял трудолюбием отсутствие таланта. Но успех товарища больно ранил. Аладжалов распустил слух, что Левитан для своей прославленной «Тихой обители» заимствовал у него сюжет.








