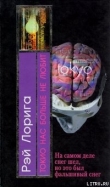Текст книги "Москва нас больше не любит"
Автор книги: Слава Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Переживший красный террор Лев Толстой
В одном знакомом издательстве появился новый редактор. Симпатичный парень лет тридцати с небольшим. Одевался как-то так забавно, мило здоровался (без угрюмости), запустил любопытный проект, – и кто-то мне про него еще сказал, что он несколько лет прожил в Лондоне и чему-то там стажировался. А, – подумал я, – вот где его улыбаться научили, в нашей стране это ведь не очень принято… Сам он как-то сказал, что в Лондоне работает его бывшая жена, в самом конце 1990-х он уехал домой, думал, что теперь уже можно, а вот она с сыном осталась – позже вышла замуж за аборигена.
– Грустная история, – говорю.
– Да нет, – отвечает, – обычная.
И вдруг я встречаю его и его подругу в том самом баре, где встретил главреда “К.”, г-на В. Помните, глава “Три богатыря”? Я же говорю, популярное место среди творческих людей.
В тот вечер зашел, а они сидят у самой стойки. Они с подругой-коллегой. Я так и не понял, кто она, подруга или коллега или и то и другое, но это в данном случае неважно, не наше дело, как говорится. К тому же девушка симпатичная – грустные глаза, длинные каштановые волосы, – не имея практического применения, эти детали меня несколько тонизировали, так как вечером после работы я, естественно, немного устал. Еще время было позднее, погода плохая… В общем, вы сами все понимаете.
И знаете, мы очень неплохо поговорили в тот вечер, пошутили как-то, выпили, посмеялись, даже настроение поднялось. Поговорили о книжках, об издательских делах, об общих знакомых. С кем еще поговоришь о литературе сейчас? Только с редактором или ведущим книжной колонки. Все прочие часто обнаруживают такие провалы, что становится даже неудобно. Причем неудобно непонятно за кого – за них, что элементарно необразованны, или за себя, что книжки читаешь – ерундой занимаешься. Спросишь: помните у Чехова?… А в ответ неловкость – sorry, я почти не читаю. Как-то нет времени…
Правда, редактор (допустим, его звали Максим) тоже среди прочего сказал, что он:
а) весьма высокооплачиваемый редактор, вы не думайте
б) вообще-то дворянин
в) у поэта Иосифа Бродского… – дутая репутация. Это очень средний советский поэт и вообще, у него хороших стихов очень и очень мало. Вся русская литература ХХ века состоит из дутых репутаций, – сказал редактор Максим.
Пункт в) прозвучал очень неожиданно, даже немного ошарашивающе, но я последнее время, как говорится, слышал и не такое, поэтому лишь сложил под столом пальцы крестиком и, проговорив про себя три раза “ом мани, падме хум”, продолжил беседу.
Потому что, повторяю, очень неплохо сидели. Можно добавить – как ни странно. Я подумал: ну не любит человек Бродского, ну и что с того? Бывает! О вкусах ведь не спорят! Правда, Максим добавил (уже на выходе), что у него, у Максима Н., стихи в журналах стали печататься раньше, чем у Бродского, что у него первая публикация произошла в 12 лет, причем не где-нибудь, а в Новом журнале!… Но я уже немного пьяный был, следовательно, добрый и не среагировал. И подруга у него, повторяю, была симпатичная. С милыми карими глазами не то садового цветка, не то тихого омута (в котором черти водятся), я такие глаза люблю. Она тоже профессиональный редактор, после филфака МГУ, кстати.
Распрощались дружески.
Скоро, как говорится, сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло месяца три. Захожу я одним дождливым майским днем в это издательство (дела какие-то были, мелкие) и смотрю, они с подругой на кухне сидят, в издательской чайной комнате то есть, и пьют чай и вино. А другого редактора, к которому я собственно зашел, его не было. Вышел куда-то. Секретарь говорит: подождите полчаса, – ну, и я тоже подсел чаю попить.
– Не помешаю?
– Да нет, наоборот, – отвечают, – садитесь.
Поговорили немного о том, о сем, и я обратил внимание, что у его коллеги-цветка в тот день были грустные глаза, мне показалось даже, заплаканные, но я, естественно, промолчал. Мало ли почему у симпатичной женщины могут быть грустные глаза? Причин много.
И, не помню уже, как мы на это вышли, кажется, он сказал, что к тому старому писателю – почти классику, книги которого он готовит сейчас к изданию, – он ездит на встречи на дачу, в Переделкино. Писатель там круглый год живет, и зимой и летом, и выбираться в Москву ему трудно. Я ведь знаю, что такое Переделкино?
Я кивнул, немного удивившись вопросу.
– Эту дачу ему Ельцин дал, – сказал редактор. – В тысяча девятьсот девяностых годах, после возвращения из эмиграции. Отчасти в качестве компенсации за старое.
– А раньше там кто жил?
– Кажется, какой-то советский поэт-орденоносец, впрочем, точно не знаю. А причем тут это ваше “раньше”?
– Да нет, – сказал я, – неважно… Просто странно немного. Я там бывал, брал недавно интервью у одного старого диссидента, последователя Солженицына. Тоже проведшего в эмиграции около десяти лет, тоже высланного в свое время из СССР… Он живет на даче старого большевика, чуть ли не Каменева. Говорит, что два года боролся там с “прежним духом”. Я не понял, зачем он с ним боролся столько времени: ведь можно было поселиться другом месте?
– Я не пойму, чем вы недовольны, – сказал знакомый редактор. – Ну живет и живет. Что с того-то?
– Неудобно как-то, – говорю. – Как вы не понимаете? Нехорошо. Старая история с формой и содержанием. Конечно, содержание первично, но все-таки. Все-таки, понимаете? В этом поселке надо бы сделать музей, или мемориальный комплекс. Нельзя там селиться. Даже если больше негде. Тем более, если есть.
– Но послушайте, – сказал редактор. – Послушайте… Кроме старых большевиков в Переделкино жили, например, Пастернак и Чуковский… И вас ведь не возмущает и не удивляет, что Лев Толстой пережил в Ясной Поляне красный террор и начало коллективизации. Ведь вы это воспринимаете нормально?
В этот момент в кухню зашла симпатичная сотрудница Вика, и пока я сначала здоровался, а потом следил, как она наливает себе чай, смысл сказанного не вполне дошел до моего сознания. Когда же этот смысл до моего сознания дошел, я решил, что редактор Максим прикалывается или предлагает мне сюжет для неплохого фэнтези. Ведь была же, кажется, книга, где избежавший расстрела поэт Гумилев превращается в Бэтмена и мстит большевикам. Книга, насколько я помню, имела успех.
Но потом, когда Вика ушла, я понял, что редактор не шутит.
– Что вы, Максим, – сказал я после небольшой паузы и взял нотой выше. – Какую коллективизацию пережил Лев Толстой?
– А что, – сказал редактор, – он ведь умер, насколько я помню, году в тысяча девятьсот двадцать шестом. Разве нет?…
Дорогие друзья! Уже неважно, что было дальше, но это был момент некоторого озарения, вот что я вам скажу. По-английски это называется inside. Как говорится, я многое понял. Понял, как говорится, откуда ноги-то растут.
Дальнейшее можно не говорить, но я все же проговорю.
Потому что если Лев Толстой в сознании симпатичного редактора уважаемого издательства пережил коллективизацию, причем, в своем поместье “Ясная Поляна” (представим себе, например, картину маслом “Лев Толстой беседует с В. И. Лениным в Ясной Поляне” – продаю этот сюжет будущим живописцам), то нет ничего страшного и странного, что диссидент со стажем, не морщась, живет на даче старого большевика, поэт Николай Гумилев превращается в Бэтмена, а маленькая симпатичная девочка-лесбияночка двадцати годков из предыдущих глав этой повести считает, что у нас должен быть не президент, а Царь.
Как писал Лев Толстой в 1991 году – все смешалось в доме Облонских.
Здесь мне слышится даже некий “хрустальный”, как писал когда-то Гессе, смех, – но, возможно, это мне только слышится, или смех этот вовсе не хрустальный.
Причем подруга-коллега Максима, закончившая, как я уже вам говорил, филфак МГУ и любящая, по ее словам, современную и классическую русскую литературу, при всем-том не проронила ни слова. Впрочем, возможно, она ничего не слышала, а думала о чем-то своем, далеком, глядя за большое окно издательской чайной комнаты. Я же говорю, в тот день у нее были довольно грустные глаза.
Потом пришел мой знакомый редактор, человек, как говорится, старшего поколения, шестидесятник, – над ними теперь все смеются, впрочем, они и правда часто бывают забавными, – мы немного поговорили о делах, выкурили по сигарете, пошутили, но состояние, прямо скажем, ох.ения, которое я испытал в чайной комнате, не проходило. Редактор даже спросил меня: чего ты, не выспался? Я не стал говорить.
Только спросил, не помнит ли он дату смерти Льва Толстого? (Стыжусь этого вопроса). Он сказал и удивился: а что, зачем тебе?
Теперь не поймите меня неправильно, но, выйдя из уютного особняка, где происходил описываемый мной разговор, на улицу, под начавшийся мелкий майский дождь, я испытал чувство некоторого… Вы удивитесь – чувство некоторого одиночества и… и печали. Пожалуй, это будет довольно точное определение в данном случае. Причем чувство это временами становилось почти паническим. Шок от реплики редактора Максима прошел, а вот оно осталось. Я читал, что верующие турки и арабы называют такое ощущение “хюзн” – печаль – и говорят, что оно возникает от подсознательно ощущаемой невозможности быть ближе к Богу, к Аллаху… Очень хорошее и точное определение. В Азии хорошо знают, что означает слово “невозможно”.
Понимаете, мне вдруг показалось, что грубо отреставрированные и от того сильно изменившиеся старые особняки по обеим сторонам любимой мной с юности и хорошо знакомой улицы в районе Арбата – это какая-то декорация, картон, остатки чего-то бывшего, большего, большого, из которого куда-то ушла (или почти ушла) суть, прежнее содержание, чувства, немаленькие мысли, какое-то серьезное, длинное, наполненное событиями (и некоторыми знаниями, кстати, тоже) прошлое. Но ведь это прошлое было в значительной степени советским, я бы ни минуты не задумывался, спроси меня о том, испытываю ли я по нему ностальгию, – нет, конечно, – о чем же я тогда жалею?… – спрашивал я себя.
Добавлю: странное дело, почему-то мне думалось, что в этом советском, серпасто-молоткастом прошлом, несмотря на все репрессии, еще оставались большие куски той, дореволюционной жизни, грубо говоря, оно было ближе ко Льву Толстому, чем нынешние времена. Несмотря на развевающийся над Кремлем трехцветный флаг. Поразительно, грустно это сознавать, но за эти восемнадцать лет несоветской жизни мы ушли от старой России дальше, чем за семьдесят лет жизни советской.
Но почему?…
Впрочем, это слишком мощное утверждение, с ним надо разбираться детально, а сейчас это уведет нас в сторону.
В общем, пока я шел к стоянке такси, мне все думалось, что во всех окружающих меня домах находятся подобные той, где я только что был, симпатичные конторы с евроремонтом и компьютерами, где работают, в общем, милые и иногда даже очень милые люди, в головах которых, увы, – находится либо пустота, либо, в лучшем случае, нешуточный компот.
Ассорти, как говорили раньше.
Помните? Вишенки, груши, сливы, сироп. Между прочим, во времена советских дефицитов все радовались этому компоту. Как-то даже симпатично это выглядело, если я не ошибаюсь.
В тот вечер по дороге домой в переходе под Садовым кольцом я случайно встретил знакомую, она дизайнер в одной из известных риэлтерских фирм Москвы. По горячим следам пожаловался ей на Льва Толстого и редактора Максима. Дизайнер долго смеялась, а потом сказала, что она уже привыкла к подобным нелепостям, и ее эти анекдоты даже забавляют. Не надо относиться к ним так серьезно.
Часть четвертая
Зачем ему это нужно?
В модном кафе раздавали листовочки – “антифашистский марш”.
На хорошей бумаге: “вставайте-вставайте”. Будут участвовать известные люди, политики, актеры, рок-музыканты (чуть ли не сам Макаревич обещал), и пройдем от Чистых прудов до Лубянской площади. Там будет митинг. С намеком – Лубянская площадь, мол… Я листовочки взял и даже расклеил две-три в своем подъезде, у лифта, по пути в магазин, – правда, они провисели около часа, потом кто-то из жильцов сорвал (может, кстати, не сорвали, а взяли на сувениры), – но сам я не пошел. Там сбор был в 12.00, а я же “сова”, ложусь поздно, сплю до этого времени, да и жена сердилась: зачем ты пойдешь, хочешь по физиономии получить?
– У нас эти дела управляются сверху: если там решат, что нужен фашистский марш, будет фашистский марш, потом решат, что нужен антифашистский, – будет антифашистский. А тебя просто на эмоции разводят, как всю интеллигенцию, статисты же нужны, массовка покричать, вот и все. Все фашисты и антифашисты заведены в один компьютер, понял?
Мне, конечно, стыдно, но, знаете, я не пошел. Дал себя убедить. Посчитал, что моего участия в виде расклеивания листовок в подъезде будет достаточно. Потом про это немного показывали по телевизору, и объявленных деятелей культуры было мало, почти никто не пришел. Наверное, тоже спали или не смогли. И Макаревича не было. Я еще немного удивился, как-то даже кольнуло: а он почему не пошел? Я-то ладно, но он-то может. Он – известный, что ему сделают? Неужели тоже, как и я, – испугался и проспал? Плохо дело тогда.
Прошло недели две, и как-то вечером я крутил приемник и наткнулся на станцию, где у Макаревича брали интервью, и, представляете, именно на том месте подключился, где у него спросили, почему он не был на том марше. Надо же, совпадение. Значит, надо было, чтобы я это услышал. А он сказал, что он уже говорил, мол, его, правда, не было в Москве в этот день, просто не было в городе, вот и все. И это “правда”, оно как-то звякнуло, будто ложку уронили, я сразу вспомнил летнюю мышку-официантку из “Гоголь-моголя”, и он, видно, это почувствовал, потому что заметно рассердился и сказал еще что-то типа, что он ходит, куда хочет и когда хочет и никому отчитываться ни в чем не должен, ясно? И вообще, он музыкант и в политике не участвует!…
Грустно это было слышать, конечно, и как-то страшновато немного, я еще подумал: и чего я включил радио, такой вечер был хороший, тихий такой, январский, снежный, приятно было в окно смотреть, к тому же мы люди образованные и понимаем (или помним), что раз начинаются такие разговоры – ну, дела плохи. Я боюсь. Он боится. Она боится. Мы боимся. So, oни – не боятся.
А потом, прошло какое-то время, и почему-то я опять вспомнил про эту передачу. Сейчас уже не помню, почему, газету, что ли, как обычно прочитал, телевизор ли посмотрел, но я вдруг подумал, что Макаревич не то что прав, но ход его размышлений можно понять.
Возможно (утверждать я, естественно, не могу, в чужие мозги не влезешь), он (я, она, мы – но, не они) рассуждал примерно так:
“…Предположим, я пойду. Даже: мне надо туда пойти. Но – вдруг случится какая-нибудь фигня? Может такое быть? Запросто. Например, какая-то сволочь что-нибудь бросит в толпу. Идея, как говорится, лежит на поверхности. И что? Кому от этого будет плохо, даже если меня просто слегка заденет? Демократы будут говорить о разгуле ксенофобии и бессилии милиции, десяток газет напечатают возмущенные статьи, по ТВ дадут комментарий, что возбуждено уголовное дело, и через три недели максимум все это забудется. После чего у меня надолго останутся отвратительный осадок (а ведь и так настроение не самое бодрое), царапины (это в лучшем случае), и я опять буду думать о том, что надо уезжать. А мне ведь на минуточку положено работать, музыку писать – я все-таки художник. И в этой музыке я должен выразить то, что волнует всех… Кроме того, как отреагируют так называемые простые люди, – лучше не представлять. “Пошло оно все на”, – с большой долей вероятности подумают они. Вот, например, Остап Петрович из предыдущей главы, он ведь может сказать, что “черные вообще-то обнаглели”? Может. И будет в бытовом смысле в чем-то даже прав, что самое смешное. Даже если не брать в расчет его военный опыт, вам что, кавказцы или выходцы из Средней Азии на улице никогда не хамили? Хамили. А тогда – для кого я это все делаю, иду на марш, рискую собой? Кто что-то понимает, понимает и без антифашистского марша. А кто не понимает, не поймет и с десятью маршами. С двадцатью.
Все равно, все решится не сейчас. Не так. Похоже, что “нецивилизованным путем”. Или позже, это в лучшем случае. Мы все надеемся, и будем надеяться на лучшее – если не думать об исторических привычках our country. Еще, возможно, современные технологии сделают свое дело и победят бюрократию. Цена на нефть упадет… И так далее, и тому подобное.
Так какой смысл туда идти?”
У нас такое пока невозможно
Мой приятель-актер уезжал, и я поехал его проводить на Казанский вокзал. Приятель участвовал в съемках фильма о Гражданской войне в Сибири. Адмирал Колчак, крестьянские бунты, все такое. Сейчас это модно.
В дороге мы разговаривали о кино, смотрели на ярко освещенные улицы, и даже шум, пыль и бесприютность огромного ангара вокзала не смогли сбить наше хорошее настроение. В дорогу приятель купил ярко-оранжевый номер свежего мужского журнала, и, оставив его вещи в купе, где хорошо пахло кожей и, уютно гудя, горел желтым светильник на потолке, мы вышли покурить на перрон совсем довольными. Было какое-то хорошее настроение, которое иногда дают комфорт, деньги и хорошее общение. Когда поезд тронулся, я медленно пошел обратно, тоже купил номер красивого мужского журнала и на ходу стал снимать с него блестящую целлофановую обертку.
Выходил я не через здание вокзала, а коротким путем – налево, в арку, в тихий Рязанский проезд, что тянется вдоль вокзала, а потом, петляя, выведет вас почти к Елоховской церкви и метро Бауманская. Выйдя под открытое небо и торопясь покинуть привокзальную площадь, у самого окончания тротуара я вдруг увидел лежащих вповалку людей. Их было много, человек двадцать, какие-то, как сейчас говорят, черные, в основном женщины и дети, хотя с ними было и несколько мужчин. Приятель уезжал поздно, и люди на тротуаре почти все спали, лежа на голом асфальте, они накрылись сверху большой полиэтиленовой пленкой, которой в деревнях иногда прикрывают теплицы. Они лежали так тихо, что я едва не наступил на них. Вообще, пока я не увидел, что кто-то с дальнего края шевелится, я даже подумал нехорошее.
Знаете, не могу сказать, что я вообще не видел в Москве, чтобы люди спали на улице, или на вокзале, это было, но один-два человека, бомжи, а чтобы в таком количестве – нет. И вокруг ни милиции, ни скорой, никого.
Мимо проходил водитель из междугороднего автобуса, – знаете, они там сбоку, у железнодорожного моста всегда тусуются, – и по глупости я спросил у него, кто это.
– Какие-то беженцы, – он пожал плечами. – Азиаты… Или на работу приехали, а ночевать не на что. Не знаю. Тебе-то какая разница? Не покупай у них ничего, обманут. Х.й с ними!
И пошел дальше со своей пиццей в коробке. Он в пиццерию соседнюю ходил – там недалеко. А я, несколько раз оглянувшись, тоже пошел дальше и, дойдя до сталинской высотки на Красных воротах, уже почти забыл про вокзал и этих людей под пленкой, а глядя на огни и рекламу, думал, в какой клуб или кафе мне пойти: не хотелось заканчивать вечер.
Остановился на одном ночном кафе на Мясницкой, там бывает смешная публика, крутят этно-музыку и в целом довольно недорого.
Решил и пошел, тем более это от Комсомольской недалеко – за сто рублей можно доехать.
Взял машину, доехал, вхожу, а там – дым коромыслом. Девушки разгоряченные, на щеках румянец, руки-ноги голые, музыка гремит, к стойке не протолкнешься. А ведь будний день… Взял пива и сто грамм украинской горилки, потом удачно освободился столик у стены, – присел, смотрю, как народ колбасится. Одна блондиночка кустодиевских форм – особенно выделялась. Так скакала – просто было трудно усидеть на месте, захотелось присоединиться. Но я не стал. Не танцевальное в целом было настроение, тем более через час-полтора домой. Ограничился наблюдением. Но вижу, она меня и мой интерес заметила. Улыбнулась весело. Девушки любят, если на них смотреть с улыбкой, а не просто тупо пялиться. Увы, мы не всегда помним об этом. Заколебался, но вспомнил изречение Кобо Абе: “Неразделенная любовь не вызывает раскаяния”, – и остался на месте.
Вообще смешно – там, в этом заведении, народ довольно забавный, студенты в основном и молодые менеджеры, офисный люд, в целом ощущение от них вполне себе оптимистичное, и лица хорошие, еще есть ларек со всякой прикольной музыкой, и я в тот раз купил диск такой кудрявой темненькой девушки – Ayo. Может, знаете? Она поет песенки под гитару мелодичным, чуть хрипловатым голоском – мне нравится. Папа из Африки, мама из Германии – современная европейка. Еще я удивился, диск недорогой, но лицензионный и по этикетке выходило, что записан был в русском отделении знаменитой компании UNIVERSAL, которая когда-то выпускала пластинки “Биттлз” и Элвиса Пресли.
Может, я велосипед сейчас открываю, но для меня было неожиданно, что эта компания имеет у нас отделение. Будто это не Россия, а какая-то Велико-британия или Япония. В смысле, будто мы – нормальная страна, мол, что такого-то? Хотя повторюсь, что я в этом отношении человек неграмотный, и кто-нибудь, разбирающийся в музыке, сейчас поднимет меня на смех: стосорокамиллионная страна, огромный потенциальный рынок, бизнесу плевать на политическое устройство – лишь бы их товар покупали, у них и в Китае есть отделение, несмотря ни на какой Тибет и посадки диссидентов, why not?
Life is real, я живу свою жизнь и не очень волнуюсь о том, что думают окружающие, жить своей жизнью, вот все, чего я хочу, – пела девушка с копной черных волос, судьба которой отчасти похожа на судьбу нового президента Америки. Может, она права?
В общем, ушел я довольный, в час ночи, а то и позже, и картинку с лежащими на земле людьми у Казанского вокзала больше не вспоминал. Жена потом ругалась: где шляешься, сказал, уйду на час-полтора, товарища проводить, это что такое?
В следующие несколько дней было много работы, и впечатление от вокзала вдруг всплыло в пятницу, в конце недели, когда мы пошли на фильм “Тайная жизнь слов”, про который хорошо писали в одном журнале про кино, – он снят ученицей Альмодовара, – и еще мне очень понравилось название, – согласитесь, оно довольно удачное.
Содержание фильма было очень простым. Девушка-работница со странностями выгоняется администрацией некоего скандинавского предприятия в отпуск. “Выгоняется” потому, что сама она идти в отпуск не хочет. Почему – пока не ясно, но не хочет, и все. Очутившись в отпуске, она не понимает, что делать с собой и неожиданной свободой. Сцена немотивированной ярости в аккуратно прибранной комнате приморского отеля закрепляет впечатление.
Пойдя вечером поужинать в кафе, она случайно слышит телефонный разговор за соседним столиком, что на морскую нефтедобывающую платформу, где произошел несчастный случай, срочно требуется сиделка для ухода за пострадавшим рабочим. Она предлагает себя и тут же отправляется на платформу на вертолете. (Следуют красивые кадры морского заката и застывшего волнения моря, вид сверху.) Далее героиня оказывается наедине с обожженным, но очень симпатичным мужчиной много старше ее, к которому постепенно привязывается, и, слушая его историю (что-то о любовном треугольнике его развалившегося брака), не сразу, но рассказывает свою.
Выясняется, что она – беженка из бывшей Югославии и на своей родине в течение месяца подвергалась пыткам и регулярным изнасилованиям от каких-то солдат. (Сторона не называется, и это правильно.) Забавная деталь: она говорит, что прибывшие в их город войска ООН (европейцы) ничего не изменили в положении жителей – издевательства продолжались в километре от их поста, пока не пришли американцы.
Все, впрочем, заканчивается хорошо, ее пациент, выписавшись из больницы (следуют кадры его эвакуации с платформы на вертолете не то датских, не то голландских ВВС – к собственным гражданам европейцы относятся очень бережно), разыскивает девушку через организацию помощи беженцам, и она выходит за него замуж.
Финальный кадр – большое окно загородного дома, чудесный лесной пейзаж, голоса детей и слова девушки, которая не понимает, действительно ли был в ее жизни пережитый на родине ужас. Не знаю, что вы поняли от моего пересказа, но фильм, хочу вам сказать еще раз, неплохой.
А рассказываю я о нем так подробно потому, что как только на экране пошли разговоры о бывшей Югославии, я сразу вспомнил картинку с лежащими вповалку темнокожими людьми у Казанского вокзала… Выйдя из темного кинозала вместе с другими зрителями, мы с женой взяли кофе и присели за столик в современном и очень хорошо оформленном вестибюле нового кинотеатра, где крутили фильм. Вокруг сидели модно одетые молодые люди, на большом плазменном экране танцевала какая-то грудастая певица с MTV, и только что увиденная история настойчиво желала представиться фильмом, искусством, не более того.
Чтобы немного снизить градус впечатления, я даже немного поговорил с какими-то ребятами с соседнего столика, на которых фильм (это было видно) тоже произвел большое впечатление.
– Хороший фильм, – сказала темненькая девушка с короткой стрижкой и тяжело вздохнула.
Было видно, что она находится под воздействием увиденного. Но мне особенно понравилось, что ответил на мой вопрос “как вы думаете, может ли что-то подобное показанному в этом фильме произойти у нас?” молодой человек темненькой девушки.
Он подумал немного и ответил:
– Пока нет, я думаю… Пока нет.
О, это “пока”, мой читатель!… Впрочем, чтобы не быть слишком серьезным, я хочу напомнить себе и вам сцену из на этот раз очень забавного французского фильма “Распутницы”, где играли мои любимые Натали Бей и Жозиан Баласко.
(Эта глава у нас получается прямо целиком киношной, особенно если вспомнить, что она началась с моего приятеля, уезжавшего на съемки фильма о Гражданской войне.)
Итак, дело по сюжету происходит во время телевизионного ток-шоу, где Бей и Баласко, играющие вышедших в тираж модных тусовщиц, изображают “классиков” мира моды.
– В чем суть нашего времени, мадам? – тоненьким голоском спрашивает гей-ведущий, которого отлично играет какой-то неизвестный мне французский молодой актер.
Бей несколько секунд думает, неподражаемым жестом медленно подно-ся свою длинную руку к крашеным химией белым волосам, потом говорит:
– Тенденции, мой милый, тенденции… Понимаете?
Массовка аплодирует, занавес.
– Тенденции, мои милые… Понимаете?
Впрочем, возможно, я, как всегда, сгущаю краски.