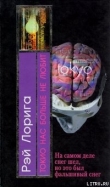Текст книги "Москва нас больше не любит"
Автор книги: Слава Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
У них будет другая жизнь
“Полчаса – поезда под откос, полчаса – не твоя полоса, полчаса – полчаса не вопрос, полчаса не ответ – полчаса-а…” – гремит музыка в клубе. Это “Тату”.
“…Не моя карусель, и мечта не моя”…
Люблю этих девочек – в них есть какая-то сила. Новая Россия – вот она. Молодые – другие. Не их карусель. Те, кому сейчас двадцать, – они выросли в свободное время, этим они обязаны нам – кому после тридцати пяти, кто в свои двадцать пять и тридцать вышел в 1991-м к Белому дому! Но им плевать на наши “подвиги”, “мысли” и “опыт”. Они могут с нами переспать, это в лучшем случае. Они относятся к нам с уважением, пока мы разговариваем с ними иронически или шутим. С ними почти нельзя быть серьезным – тогда они смеются, пугаются или испытывают неловкость.
Иногда я из-за этого злюсь и даже комплексую, иногда думаю, что это все ерунда, и колесо сансары, повернувшись, просто подцепило цветные бумажки другим боком. Ну-ка, где моя бамбуковая флейта? Вот она. Сейчас я вам сыграю и спою. “Звенела музыка в саду таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду”.[4]4
Герой вспоминает стихотворение Анны Ахматовой.
[Закрыть] Я уже немного пьян, они сидят за соседним столиком – две девчухи, черненькая с кудряшками и беленькая с распущенными волосами. Сколько им? – думаю я, заказывая еще сто красного сухого. – Черненькая, она наверняка закончила какую-то школу в центре, у нее такой вид, что она… она могла быть моей одноклассницей, – вдруг спьяну думаю я. В школе я не обратил бы на нее внимания – меня тогда интересовали другие типажи, а сейчас, наверное, от выпитого, я смотрю на нее и умиляюсь. Привет, “одноклассница”! Это твой клон или твоя дочь сидит напротив меня в начале ХХI века? Они студентки? Склонившись над столом, что-то увлеченно набирают на мобильном. У брюнетки в ухе наушник, и она периодически передает его блондинке. Слушают, хохочут. Наверное, музыка. Это сейчас модно. Блондинка – или не москвичка, или откуда-то с окраин. У нее неплохое декольте, но какое-то странное, злое, взрослое лицо. 25 лет назад она была бы комсомольской активисткой.
С этими телефонами, кстати, смешно. Однажды мы с женой возвращались из Крыма, и с нами в купе оказалась молоденькая девочка-хохлушка. Лет ей было не больше 20. Ехала в Белгород, к бабушке. Первые часа три она спала, потом проснулась и среди прочего рассказала, что служит в… украинской морской разведке. У нее отец бывший советский моряк, теперь вот офицер украинского флота. Устроил и ее. Через 5 лет обещали дать квартиру и неплохо платят. У них женщинам можно служить – они же хотят в НАТО. Впрочем, про американцев она говорила плохо. Говорила, что они часто посылают разведывательные самолеты – для облета Крыма. А локаторы все это фиксируют и передают им.
Я было не поверил в ее рассказ, обычная такая девочка, в джинсовой курточке и спортивных штанах, но потом меня смутили глаза. У этих людей, которые из “органов” (неважно, из каких), у них всегда очень специфические глаза. Стеклянные какие-то… Неважно. Я к чему это рассказываю-то: когда мы разговорились, она принялась меняться с другой нашей соседкой, средних лет строительной бизнес-вумен, мелодиями из мобильников. Через какой-то блю-тус и инфракрасный порт. Я в технике ничего не понимаю. Помню, что меня удивило: сотрудник украинской морской разведки увлеченно меняется мелодиями для мобильного телефона. Хотя что, они не люди? Или времена (для них) тоже изменились?
Но я отвлекся… Смотрел, я смотрел на девочек за соседним столиком, дождался, пока длинноволосая отойдет в туалет, и говорю черненькой: знаете, а вы могли быть моей одноклассницей.
В общем, чтобы не тратить много времени, скажу вам, что в результате я пересел за их столик, хотя мне было неудобно, взрослый дядечка пристает к детям. Но слишком интересно было: какая она, “одноклассница”? – Подруга ваша, – говорю, – красивая. – Да, – говорит, – это моя лучшая подруга. – Понятно. – Я, – говорит “одноклассница”, – сейчас развожусь. – Вот как. Долго ли были женаты? – Два года. – А почему же разошлись? – Он изменил мне. – Извините. – Уже ничего. (Пауза). Вот с ней. – С кем?… – С лучшей подругой. – Хм. Но она осталась лучшей? – Ну да. – Интересно. – Я ей даже благодарна. За что? Она помогла ему в трудную минуту.
Высокие отношения, – думаю. “Покровские ворота – 2”. Сейчас пишу – смешно, а тогда был немного пьян, устал – разозлился. – Что за х…ня, – говорю, – Лена? (Ее так звали). – Кому она помогла? Чем? Это же нехорошо, вы что, не понимаете? – Нет-нет, – говорит, – не сердитесь, она помогла мне, правда. Тогда я говорю, подумав: – А может быть, эта ваша толстуха в вас… влюблена? Ну, не явно (надеюсь), а подсознательно? Пауза. Улыбнулась. – Ну, подсознательно и я в нее влюблена… немного. Подсознательно-то.
Так, – думаю. – Зачем я подсел? Так хорошо сидел за своим столиком, на публику смотрел, зачем я подсел только? Нет, я к меньшинствам хорошо отношусь, но такие фигуры в 20 лет, согласитесь, это лихо. “Одноклассница”, будто услышав мои мысли, говорит: – Нет, вы не подумайте, мне женщины вообще-то не нравятся. Я еще раз замуж хочу выйти. Потом. – Ладно, – говорю, – Лена. Только знаете, – говорю, – дам совет. Недавно вычитал его в одной умной книжке. Когда будете искать себе мужа, спросите его, была ли его семья полной и счастливой. Говорят, это важно. Напряглась. – Что вы? – Ничего. – У вас семья неполная? – Нет… все нормально. Только они не живут друг с другом. – Как это? – Так я об этом недавно узнала. От меня скрывали все детство. Просто живут в одной квартире, и все. У каждого своя жизнь. Уже очень давно.
Я взял еще два по сто сухого красного. Разлил себе и ей. – За счастливое детство! Выпили. Помогло, но не очень. Опять подумал: – зачем я пересел?… На фиг мне это надо? И подруга пропала. Какой-то выездной сеанс психологии. – А чем занимаетесь? – Я историк моды. Пишу в журнале. В каком? В “Афише и отдыхе на неделю”. – О, я читаю ее иногда. Но там же была… кажется, ее звали как-то на Л.? – Она ушла. Уже полгода. Вы, видно, давно нас не читали. Я вместо нее.
– Ясно, – говорю.
– А вы чем занимаетесь? – спрашивает “одноклассница”.
– Тоже пописываю слегка.
Пришла подруга. Села. Сердито на меня посмотрела. Точно, думаю, латентная лесбияночка. А декольте отменное… Познакомились. – А вы тоже в журнале “Афиша на неделю”? – Да. – Тоже мода? – Нет. Я про музыку пишу. – Ясно. Я не очень в музыке. – Ну еще бы. – Ха-ха, почему? – я удивился. – Ваше поколение не очень в музыке разбирается. – Почему? Это вы зря. У меня есть приятель, он был музобозревателем на “Голосе Америки”. С самим Севой Новгородцевым знаком. Слышали о таком? – Слышали. Но это исключение. А вообще все люди вашего возраста не очень в этом понимают… Вам под сорок или уже больше? – Под. – Ну вот, я и говорю. Вы только не обижайтесь. – Ладно, – сказал я, – все понятно. Я совсем не обижаюсь. Вообще у меня дома “Дым над водой” лежит. Еще на виниле. Но это не важно, скорее всего, вы не знаете, что это. Приятно было познакомится. Пойду, пожалуй. Поздно уже. Надо домой. Семья ждет.
“Одноклассница”, может, увидела, что я как-то расстроился, а может, я ей немного понравился, сейчас это модно, чтобы мужчина был старше, и говорит: – Погодите. Давайте еще минут десять посидим и пойдем все. Нам тоже пора. Это у вас что за книжка? (А у меня на столе Войнович лежал, “ 2042”). Я говорю: – Это Войнович. Не знают. – Интересно? – Да. Это про… Рассказал. Лена напряглась. – Не люблю, – говорит, – этого. Очень. Это к нам отношения не имеет. У нас будет совершенно другая судьба и другая жизнь.
– Да, – говорю. – Наверное. И даже знать не хотите? На всякий случай, чтоб не спутать. Судьбу, так сказать. – Нет, – говорит. – Зачем?
Помолчали. И тут меня стала злость разбирать. Потихоньку так. Другая жизнь, значит. При этом подруга спит с ее мужем, а она гипотетически с подругой. Ладно. Но сдержался. Какие-то, думаю, две писюхи в богемном клубе. Чего ты хотел-то. Ясное дело, что здесь можно встретить и не такое. В литературе, опять же, такие случаи описаны.
Что-то пошутил, выпили, но смотрю, подруга все сердится. Ну, ясное дело, ревнует.
И тут она говорит:
– Знаете, а вы, наверное, Путина не любите?
Честное слово, товарищи, так и спросила. Тут же ничего не придумано, вы знаете. Я как-то даже растерялся.
– А надо? – спрашиваю. – Именно любить? Это же выборный персонаж. Кто-то его выбирает. Кто-то нет. Я к нему персонально, кстати, неплохо отношусь. Он здесь такое мог бы устроить… При всеобщем одобрении. Не устроил же пока. За это большое спасибо… И потом, я не уверен, что ему нужна эта всенародная любовь.
– Нет, – говорит подруга. – Нужна… А вы, наверное, не русский, да?
Нормально, а?! Повторяю, эта глава полностью документальна.
– Ну так, – говорю после паузы, – частями. Няня у меня зато чисто русская. Вологодская область. Как у Пушкина, ха-ха.
– Сразу видно, – не обращая внимания на няню, говорит подруга. – Потому что если бы вы были русский, вы бы именно любили Путина. У русских не бывает чиновников-президентов. У русских президент – Царь. И его все любят. Должны любить!
Я искоса поглядел на Лену-“одноклассницу”: интересно стало, как она на такие тексты реагирует? Ну, слава Богу, не кивала. Сделала мне большие глаза и пожала плечами потихоньку. Мол, не стоит с ней об этом.
– Должны, – говорю. – Да.
И тут я наконец-то разозлился. Причем сильно. Глупо, конечно. Две маленькие девочки, а я взрослый человек. Какого хрена на них реагировать. Но, с другой стороны, – в 1991 году им было по 4-5 лет. Откуда они набрались этой х…ни?! Кто им ее рассказал на ухо? Не живущие вместе родители? Соседи? Учителя с крошечной зарплатой? Взрослые дяди и тети по телевизору?
И я довольно жестко сказал:
– Знаете, я знаю много очень достойных русских людей, которые не думают так, как вы.
Сказал и думаю: вот зачем я это? Две маленькие девочки, зачем? Кому и что я доказываю?
И вдруг вижу, ребята, “комсомолка”-то растерялась!… Реально растерялась. Сидит, не знает, что сказать. Даже рот открыла, как рыба. И я обрадовался. То есть не застыло в ней это еще, да? Не стало железобетонным. Может, ей просто никто ничего не объяснил? Не объяснял никто ничего никогда?
Тут “одноклассница” достает журнал. – Я здесь, – говорит, – печатаюсь, посмотрите. Может, ей надоел наш разговор, а может, чтобы разрядить обстановку. И показала мне свой раздел, “моду”. И знаете, неплохая съемка. Называется “Городские окраины”. Свежо как-то. Даже с юмором. Конечно, не так, как было у Л., но тоже неплохо. Девочки с окраин в спортивной и молодежной одежде во дворах, на детских площадках, у пивных киосков, вечером, после работы, в пустынные выходные. Со злыми и сексуальными лицами. Неплохо… Поймала что-то. Пульс времени.
И мы стали прощаться. До свидания, мол. Пока. И я подумал: наверное, у этой “комсомолки” жизнь – не позавидуешь. Злится на всех, “любит” царя-президента, жить негде (сказала еще раньше, что она не из Москвы), хочет-ненавидит свою лучшую подругу… И все это, подчеркиваю, – в двадцать лет! Хороший компот для литературной героини, но по жизни… даже не по себе становится. Новая русская пассионария. Впору опять фильм снимать – “Мне двадцать лет”.
Да, у них, конечно, будет “другая судьба, другая жизнь”, это верно, это уже видно… “Одноклассница” права. Еще я подумал, что поколение их родителей – это люди старше меня от силы лет на пять, ну десять. То есть в принципе, это без чего-то я. Тат ва мази, – как говорили в Древней Индии. – Ты – это я. И я (спьяну, конечно) вдруг попросил у девочек прощения. Что мы не научили их почти ничему из того, что знаем и понимаем сами. Не нашли времени, слов, смысла.
– Простите, девочки.
Они удивились. Решили, что я напился с трехсот грамм вина. Проводили меня удивленными взглядами. Переглянулись.
И вы, читатель, меня, конечно, тоже простите, за высокопарность.
Мальчик-снайпер
Начав просить прощения, трудно остановиться. Впрочем, не вижу в этом ничего страшного.
Сидели как-то зимой в одном художественном подвале на Чистых прудах, и то ли из-за морозов, то ли еще из-за чего, но народу в тот день было мало. Кажется, готовился, репетировался какой-то концерт, но мы пришли в самом конце – музыканты собирали свой багаж, гитары, разноцветные, раскрашенные, как деревянные ложки, барабаны, большие концертные колонки hi-fi, двое пьяниц о чем-то горячо толковали в углу, мужчина обнимал девушку на переднем плане, какие-то девчонки в коротких юбочках тусовались у барной стойки – вот, в общем, и все посетители, весь задний план нескольких следующих кадров…
Мне нравится иногда бывать в этом подвале. Это место кажется мне почти правильным, временами я даже думаю, что какая-нибудь “Бродячая собака” – она в свое время, в каком-нибудь 1910-1912 году, была примерно такой же, как этот подвал.
Ну вот, мы с женой сели, сделали заказ, я открыл книгу, а минут через пятнадцать за соседний столик сели двое каких-то мальчишек, беленький и черненький, сели так тихо, что я даже не сразу их заметил. Потом беленький зажигалку, что ли, попросил, не помню уже, и слово за слово мы разговорились.
Беленький, оказывается, только что демобилизовался, он сразу об этом с гордостью так и сказал: я – дембель.
– О, – говорю, – круто. В каком чине демобилизовался?
– Прапорщика. Ротой командовал.
Я, честно говоря, не поверил, прапорщик – это ведь складская должность, завхозная, в наше время на этих должностях усатые дяденьки сидели, и говорю:
– Да ладно.
– Что “ладно”, правда.
– А сам откуда? – спросила жена.
– Друг вот сейчас в Москве живет, а я из Волгограда.
– Один в семье?
– Нет, брат есть, старший.
– Он тоже служил?
– Да. Но давно, десять лет назад.
– А маму как зовут?
– Татьяна. А зачем вам?
– Так просто. Если не хочешь, мы не будем спрашивать.
– Да нет, спрашивайте. Вы кто?
– Журналисты.
– А, понятно. Напишете обо мне? – он засмеялся и добавил: – А папы нет.
– Они развелись что ли?
– Неважно. Нет, и все. Мама работает. У нас свой дом в Волгограде, все есть, телевизор, холодильник, огород, даже СВЧ-печка. А вот отца нет.
– В Москву в гости приехал?
– Ну да, к другу. После армии. Мама денег дала.
– А друг чем занимается? Он тоже дембель?
– Нет, он не служил. Он на “Мультфильме” работает. Тоже волгоградский.
– О, художник?
– Ну да.
– Я мультипликатор, – с гордостью сказал черненький. – Компьютерная графика. Мультфильм “Добрыня Никитич и Змей Горыныч”, слыхали про такой?
– Конечно.
– Я участвовал. Там мой персонаж есть.
– Выпьем за искусство, – сказал беленький.
Выпили.
– А ты где служил-то? – спросил я у беленького.
– Под Калугой, потом в Чечне был в командировке, я же снайпер, потом…
Да… А я смотрю, они же совсем дети. Просто совсем. То ли я постарел, то ли они какие-то сделались маленькие, думаю – даже если врет, и ни в какой Чечне он не был, как можно такого младенца куда-то “призывать” – это же мальчишка, ему в футбол надо гонять, за девочками бегать, с книжкой за партой сидеть. И потом, что он может, если дать ему в руки автомат?
– А чем, – спрашиваю, – собираешься заняться в столице? Или просто погостить приехал?
– Пока не знаю, я только приехал, а вообще я пою. Ну, под гитару. Хотите вам что-нибудь спою? У нас гитара с собой, – он показал на чехол у стола.
– Ну, спой. Что сейчас в армии поют. Спой что-нибудь армейское.
– Тут нельзя, наверное.
– Ничего, сейчас народу мало. Ты спой, а если скажут перестать, перестанешь.
Он достал гитару и запел что-то, ну, знаете, что подростки у подъездов поют – смесь какой-то полууголовной романтики, пошлятины и юношеского томления. И голосом таким запел, под группу “Ласковый май”, или кто там их сейчас замещает. Минут через пять подошел охранник, сказал, что петь нельзя, и бывший прапорщик перестал.
– Ну, как?
– Это в армии пели?
– Это.
– Группа “Танцы минус”, – сказала жена, – “оставил девушке половинку себя”. Ее по радио часто крутят. Ты слышал, но забыл.
И я представил себе, как такие вот мальчишки, вечером, в казарме хором пели эту песню группы “Танцы минус” (минус что? или кто?), а потом, если он не врет и действительно был в Чечне, сидели с автоматом в блиндаже, вглядываясь в чужую, душную темноту, откуда вполне могла прилететь пуля или граната, и почему-то мне захотелось… попросить прощения у его мамы.
За что?
Простите меня, Татьяна, что ваш сын сидел вот так, в казарме, на солдатской железной кровати и пел идиотскую песню. Хотя почему “простите меня”, я-то тут причем?! Я ведь всегда голосую за СПС, а СПС был против обязательной армейской службы, пока не развалился. А вот вы, Татьяна из Волгограда, вы, скорее всего, вообще не ходите на выборы, а если ходите, голосуете за “Единую Россию”. Потому что вам нравится Путин. Он хороший, положительный и немного похож на вашего начальника цеха. И вообще, сейчас ведь, простите за повтор, много лучше жить стали, чем раньше.
Я спросил:
– Слушай, а твоя мама на выборы ходит, ты не знаешь?
– Не, не ходит. Один раз ходила, я не помню, когда. К ним на завод разнарядка пришла, столько-то человек должно пойти и проголосовать. Она пошла. А так нет, не ходит. А вам зачем?
И все равно, как говорится, “несмотря на” – простите, Татьяна, что так получилось. Что вы голосуете так, как голосуете. И живете так, как живете. Что мы за 10 лет 1990-х годов не смогли вам ничего объяснить и, в общем, даже не пытались, и в результате ваш сын был снайпером в Чечне и стрелял в своих же сограждан, которым тоже никто ничего толком не объяснял. Что единственное, чему смогли научиться наши дети в минувшее десятилетие, это принципу “каждый за себя, и все против всех”.
Тогда я сказал: давай, что ли, познакомимся. И назвал себя.
Он протянул руку:
– Остап.
Все засмеялись.
– Прикалываешься? – спросил я.
– Почему? Меня, правда, так зовут. Могу паспорт показать.
– Ну, покажи, – сказал я, и он достал из сумки паспорт с двуглавым орлом, и рядом с фотографией, где он был еще более маленьким и еще более испуганным, чем сейчас, в этом кафе, и я прочитал: Остап Петрович Пушкарис.
Мальчишки засмеялись: а вы не верили.
– Ты что, прибалт?
– Да нет, наша бабка была из немцев.
– Из кого?
– Из немцев. Ну, она была из Сибири. Мамка говорила.
– Поволжские немцы, – сказал я. – Выселенные Сталиным в Сибирь. Потом вернувшиеся.
– Что? – он не понял.
– Тебе что, про это не рассказывали?… Ладно, Остап Петрович, давай выпьем. За тебя. За нашу армию. Ты что, и правда, был снайпером?
Мальчишка с торжеством достал из сумки военный билет – все-тот же двуглавый орел на обложке, развернул:
– Вот.
Как паспорт, только поменьше. Герб, мелкие надписи, графы: рядовой, сержант, сержант-снайпер, прапорщик.
– Тебе что же, и стрелять приходилось?
Он отвел глаза, и я тоже испытал странное стеснение, а ну как скажет “да”?
Что я буду говорить: и попадать?… Ха-ха-ха! Ха… Я вспомнил недавнюю передачу по ТВ, там рассуждали – всерьез мы сейчас живем, или все это – пародия. Один телевизионный персонаж, большой прикольщик, говорил, что пародия, не всерьез. Вот этот парнишка, с анекдотичным именем Остап, которого научили стрелять и который, возможно, скорее всего, применял свои знания на практике, – он отчего пострадал, от “серьеза” или “пародии”, которые даже в его имени сплетены? Про тех, в кого он стрелял, я даже не говорю.
Распрощавшись с ребятами, мы с женой потом долго шли по улице, было холодно, по Покровке из Кремля в сторону Садового пронеслась кавалькада черных иномарок с мигалками, вспоминали весь разговор, и почему-то мне опять вспомнилась его мать.
Пушкарис Татьяна, в девичестве Честнёва (бывший прапорщик назвал фамилию), работница, мать двоих детей, город Волгоград, бывший Сталинград, от их дома полчаса на автобусе до Мамаева кургана, сказал Остап Петрович.
Пушкарис Остап Петрович, двадцать лет, демобилизовавшийся прапорщик российской армии, бывший школьник, бывший снайпер, бывший командир взвода на Кавказской войне, сейчас гостящий у друга-художника в Москве, и его мать, и старший брат, и я, и жена, и редкие прохожие, и даже те, кто промчался мимо в “членовозах” с голубыми маячками, мы все – граждане Российской Федерации, чей герб как будто между прочим красовался у Остапа Петровича на паспорте и военном билете.
Фабрика бутербродов
Меня иногда ругают – где вы это все берете? Придумываете, наверное. Из пальца высасываете. Наверное. Вот тут недавно “высосал”. Дополнение к предыдущим главам. Как говорится, тема – и вариации.
Были на выставке Филонова в Пушкинском музее. Юбилейная, сто лет – из Питера привезли, с, так сказать, места жительства. Это было почти сразу после Нового года, числа третьего, – я наткнулся на афишу в журнале, – давно собирались, плюс делать было нечего, в посещении друзей надо было сделать перерыв, и мы пошли.
Как ни странно, народу было много и было много хороших лиц, видно, у многих людей в посещении друзей был перерыв, мы долго ходили по залам, рассматривая все периоды: 1910-е, 20-е, 30-е годы. Ну, в 30-е я заглянул мельком, уж очень тяжелое ощущение исходило от картин, а в 1920-х ходил долго. Филонов, конечно, молодец, гениально все подметил – как от предметов и отдельных образов, от тонкой индивидуальности и аристократической отдельности эпоха перешла к количеству, снежному кому винтиков и гаечек, огромной горе несамостоятельных деталей, как раньше говорили, “масс”, – теперь картинка складывалась из них, из их течения, их грандиозных муравьиных построек и битв. Поднявшись на второй этаж, посмотрели на большой стенд с датами жизни и творчества – после 1929 года все как положено – в 1930-х не выставлялся, в 1942-м умер в блокадном Ленинграде, но обошлось без лагеря.
Постоянно писал, писал как сумасшедший, ничего другого практически не делал, его заставляли хотя бы поесть, детей не было, работы не было, друзей и знакомых почти не было, жена была старше на двадцать лет – она кормила и работала, все картины завещал Русскому музею, честь и хвала сотрудникам – не выставляли, но и не выкинули и не распродали по частям, хотя могли бы. Минуя сорок послевоенных лет, когда был полузапрещен и замолчан, все сохранилось в запасниках до новых времен – Советский Ван-Гог. Более того, Союз художников СССР, оценив завещание умершего от голода мастера, сумел не дать похоронить его в общей могиле, как было принято в блокаду, и теперь мы (в отличие от Мандельштама, например) даже знаем, куда положить цветы. О том, чтобы добыть художнику лишние сто грамм хлеба в день, пока он был жив, никто не заикается, ясно, что об этом не могло быть и речи.
Во время выставки я периодически выскакивал в соседние залы – чтобы “проветриться”, “сбить” слишком сильное впечатление, не пугаться – слишком точно все это резонировало с общим настроением, с чем-то, висящим последнее время в московском воздухе. А поскольку выставка проходила в залах ХХ века, в соседних помещениях выставлялись “Мир искусники”: Ларионов и Гончарова, Кустодиев, Добужинский, Сомов, Бенуа… Конечно, сравнивать невозможно и ненужно, но я невольно подумал, что насколько все-таки это разные вещи, Филонов – и “Мир искусства”. Я понимаю, что говорю сейчас банальности с точки зрения искусствоведа, но поймите чувства и эмоции “простого зрителя” – в одном зале победа тысячи над единицей, разноцветный железный поток, винтики и гаечки безумной машины, сошедшей с горы лавины, селевого потока, хвоста кометы…
Плюс человеческая судьба Филонова, плюс бес времени года – московская зима, январь, полупустой город, все, кто хотел и мог, – уехали на праздники, ощущалась какая-то странная, непривычная для Москвы пустота и брошенность – здорово все это было, в смысле как-то очень пронзительно.
И, всего лишь в соседнем зале, – тихая ирония, юмор, камерность, барочная театральность, легкое одиночество, женский смех, лето, зелень и чайные сервизы на дачных столах.
Мог ли Филонов уехать? Нет, конечно. Мог ли уехать в 1920-х годах Андрей Платонов, гидроинженер по профессии (легко бы там устроился, почти наверняка продолжил бы писать), с которым Филонов, оказывается, дружил? Тоже нет.
Выйдя на улицу, за музейную ограду, молча пошли по бульвару в сторону Арбатской. Серый снег лежал по сторонам, старые дома, видевшие и мир-искусников, и Филонова и многих, многих других, молча стояли по сторонам, городская картинка выглядела гравюрой, черно-белым рисунком углем.
Вдруг, уже у самого метро, сбоку увидели цветную неоновую вывеску кафе, уютный современный интерьер, желтый, кремовый, темно-синий, название тоже показалось смешным – “Фабрика бутербродов”. Жена сказала:
– Я когда-то была тут днем, здесь неплохо кормят. Зайдем?
Народу внутри совсем не было. Только какой-то очень напряженный мужчина с короткой стрижкой, по виду госслужащий, что-то заказывал у стойки, обращаясь к бармену и девушке-официантке почему-то на “ты”, те немного смущенно, впрочем, с юмором отвечали, – вот и все посетители.
Сели у окна. Мужчина в конце-концов ушел, завернув бутерброды в пакет и подарив нам неприязненный взгляд, и девочка подошла к нам. Симпатичная, с голым загорелым животом и круглой серьгой на пупке, улыбаясь, приняла заказ. Мальчик-бармен предложил из-за стойки:
– Апельсиновый сок кончился тридцать первого декабря, нового еще не завезли, будете ананасовый? За счет заведения, с Новым годом! – он улыбался.
Ребята зажгли лампочки в витрине, чувствовалось, что они нам рады, особенно после того, стриженного.
– Из гостей или в гости? – спросила официантка.
– Нет, мы из музея, – сказала жена.
– Музея? – девушка удивилась. Даже перестала готовить что-то там за стойкой.
– Из Пушкинского, здесь недалеко.
Она кивнула:
– Знаю.
Пояснила мальчику:
– Это около большого храма.
Он все улыбался.
– Были на выставке? Художника?
– Да.
– Какого?
– Филонов, не слыхали?
– Как? Нет… Современный? Ваш знакомый?
– Нет, что вы. Это еще довоенный. Почти классик. Советуем, очень здорово.
Девушка улыбнулась:
– Если время будет, сходим, спасибо. Работы много. Но я в живописи не очень. Обернулась к бармену:
– А ты?
Они засмеялись. Я подумал, что им, наверное, лет по 20, не больше, совсем молоденькие. У мальчика в ухе тоже была серьга.
Принесли бутерброды, чай в белом симпатичном чайничке, мы заказали фруктовый. Я приоткрыл крышку, пахло хорошо. Посмотрел за окно, на памятник Гоголю, на здания военного министерства с той стороны бульвара, на новую, с иголочки часовню у метро. Впечатление от выставки все не выветривалось, картины стояли перед глазами.
– Чай хороший, не сомневайтесь, – сказал мальчик. – Наш байер заказывает только настоящие. Он зажег на нашем столе маленькую ароматическую свечку:
– Для уюта. Отдыхайте.
Жена достала мобильный, написала эсэмску подруге, поздравила с Новым годом, потом мы написали эсэмэску моему редактору, предупредили его, что где-то числа десятого, после Рождества, на пару недель уедем.
Девушка-бармен периодически поглядывала из-за стойки, все улыбалась. Потом спросила:
– А вы сами тоже художники?
Я покачал головой:
– Нет. Похожи?
– Похожи.
Мне хотелось поговорить.
– А этот мужчина, что брал с собой бутерброды, он кто, как вы думаете?
Она пожала плечами:
– Военный, наверное. Их много тут, какая-то их контора напротив. Или милиционер.
– Не люблю их, – вдруг сказал я. – Ментов, я имею в виду. Впрочем, я в этом смысле не оригинален.
Девушка промолчала. Потом сказала:
– Сейчас каждый зарабатывает свой хлеб как может.
– То есть? – говорю.
– Ну, как “то есть”… – Она мне показалось, даже удивилась. – Как может. Что тут непонятного. – Добавила: Мне год назад предлагали устроиться в милицию.
– Ну и что же вы, не пошли?
– Как видите, не пошла.
– Почему?
Она неопределенно улыбнулась, пожала красивыми плечами.
– Не знаю. Работа нервная. Я не думала, почему, просто не пошла, и все.
Мальчик засмеялся.
Она посмотрела на него:
– Правда,…?
Я не расслышал имя, переспросил.
– Йорик. Это его кличка, ник. На самом деле его зовут Валентин.
Она прибавила музыку, стала пританцовывать. Йорик-Валентин у стойки подпевал.
Картинка за окном из этого кафе казалась очень симпатичной. Вот мы сидим тут, зимние ранние сумерки, свечки на столах, красивые ребята танцуют за стойкой, бульвар, даже казенное здание военного министерства выглядело отсюда не таким страшным. Были на замечательной выставке, то, что изображено на картинах, надо думать, уже стало историей. Вот только этот противный стриженый мужик был вначале, но мало ли неприятных людей, если на всех обращать внимание, знаете…
Я сказал:
– Все-таки хотел бы уточнить… – Пояснил: – Я журналист, мне интересно. Вы не пошли туда работать, но их не осуждаете. Правильно я понял?
Жена толкнула меня под столом коленом:
– Что пристал к детям?
Девушка опять засмеялась:
– Да, правильно. Я так и подумала, что вы кто-то такой. Журналист или художник… Я вообще стараюсь не думать о всякой ерунде. И так жизнь сложная. От нас мало что зависит. Вот и Йорик со мной согласен.
Я посмотрел на мальчика. Он возился с тостером, потом достал мобильный. Машинка была новая, светло-синего цвета, совсем плоская по последней моде. Было невозможно понять, что он думает, да и слушает ли нас вообще. Телефон мальчика запищал, потом стало слышно мелодию. Я узнал – это были Вrainstorm, симпатичные русские ребята из Латвии, поющие по-английски.
– Это будильник, – засмеялась официантка. – Сейчас тосты привезут. Чтобы мы не проспали.
Я подумал, что парень совсем молодой, просто пацан, лет 17-18, только после школы. Еще подумал, что у этих ребят, кому нет 20, совершенно особая пластика. У некоторых. Какая-то… несоветская. Я бы написал “свободная”, но, помня о некоторых встречах, описанных чуть выше, не решаюсь. Посмотрел на военные здания за окном. Интересно, в армию пойдет?
Я не стал спрашивать, перевел разговор на другое: вечер был слишком хорошим.