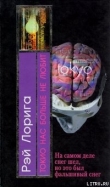Текст книги "Москва нас больше не любит"
Автор книги: Слава Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Разные реальности
Вечером следующего дня мы с женой, как обычно, пошли пройтись по набережной. Ветра уже не было, но похолодало, высыпали звезды, и море было тихим, с небольшим волнением. Людей на набережной почти не было и мы, немного постояв напротив маяка, в той части, где швартуются спортивные яхты, медленно пошли в сторону Ореанды, и в единственном работающем в этот поздний час кафе у самого берега увидели наших московских друзей. Они тоже нас увидели, и я подумал, что смешно, встретившись за полторы тысячи километров от Москвы, как дети дуться друг на друга, тем более из-за какой-то пьяной ерунды, и помахал им. Они ответили, но крикнули при этом что-то типа “вот идут местные жители!”, и жена спросила меня, а точно ли мы должны к ним подходить? Я сказал, что если мы не подойдем, это будет глупо и невежливо и очень по-московски, в современном понимании этого слова это будет значить, что мы тоже злимся, а этого же нет?
Мы подошли и сели, и я сразу почувствовал, что жена была права. Саша хоть и улыбался, но смотрел нехорошо, и хотя я сказал ему, чтобы он этого не делал, и даже извинился за вчерашнюю шутку и сказал, что мы ведь все очень давно знакомы, он это помнит? – он все равно сердился, и Аня была тоже напряжена, хотя и посадила нас рядом с собой. И хотя она и налила нам вина, никто даже не пошевелился поставить рядом с рюмками какую-то тарелку, хотя стол был еще полон, и я почувствовал, что начинаю медленно раздражаться.
Даже не от того, что кто-то косо на меня смотрел, просто повторюсь, это все было очень смешно – не видеться столько лет, встретиться на этой набережной, где плещется южное море, и сидеть, дуясь друг на друга из-за какой-то фигни! Сердишься, скажи “сам банален!” и поехали дальше. При этом я, конечно, понимал, что случайно наступил на какую-то больную мозоль и что, наверное, у них что-то не так в отношениях (помните, как она сказала “найди мне других”?), – но, согласитесь, этот Саша-2, он же совсем не дурак и очень милый человек, он же должен понимать, что я-то тут ну совсем-совсем не причем?
Мы с женой подняли рюмки за его happy birthday, а потом они стали собираться в свой дом отдыха, продолжать праздновать, ну, а мы с женой откланялись, тем более что нас с собой никто особенно не звал. И несмотря на то, что я, естественно, не пошел бы с ними: зачем? пить дальше, участвовать в этих идиотских ссорах? – я почувствовал, что опять злюсь. С Аней и с еще одной девочкой, которую я тоже давно знаю, мы, впрочем, попрощались довольно тепло, и эта девочка мне даже сказала тихо, чтобы я не обижался, потому что этот Саша, он сейчас ревнует Аню к каждому столбу и вообще неадекватен немного.
Впрочем, отойдя от них метров на двести, мы оглянулись, и, глядя, как они идут всей гурьбой по набережной в свете фонарей, на затихшие портовые краны и вытащенные на мол на зиму прогулочные катера, я вдруг расслабился и улыбнулся и сказал жене, что, мол, это все ерунда, и было смешно встретить здесь москвичей, – я сказал “москвичей” и обратил внимание, что сказал это так, будто сам не москвич, и при этом у меня почему-то крутилась в голове старая песня, которую сейчас с большим юмором иногда исполняют по ТВ Кикабидзе и Вайкуле. Знаете, эта:
Что сказать вам, москвичи,
на прощанье?…
Так до свиданья,
так до свиданья…
Дорогие москвичи,
доброй ночи…
И мы с женой медленно пошли по набережной, разговаривая об этой забавной любовной троице и всяких других пустяках, а у нового памятника “Даме с собачкой” (говорят, его сделал тот самый скульптор, автор столь же нелепого памятника в Камергерском переулке, в Москве) стоял пожилой дядька с подзорной трубой и всем желающим предлагал полюбоваться на звезды и планеты за сумму, примерно равную десяти рублям. Особенно он нажимал на Сатурн, говоря в виде рекламного слогана, что обычным взглядом его кольца не разглядишь, а через трубу – пожалуйста.
Этот дядька часто там стоит. Как правило, возле его трубы толпится народ, – в основном это гогочущие подростки и отдыхающие из ближайших санаториев, украинские тетеньки и дяденьки бальзаковского возраста, и молодежь хватает даму с собачкой за такие места, что становится неудобно. Но в тот день, наверное, из-за холода, никого не было, и жена предложила: а, что, давай посмотрим? Я согласился нехотя: что ты там разглядишь, с таким крошечным увеличением, это же не телескоп, – но жена теребила: давай-давай, – и уже прильнула к окуляру. Причем я ворчал, чтобы она не прислонялась глазом, мало ли кто там смотрел до нее, осторожнее, а дяденька-хозяин трубы что-то прилаживал и настраивал, потому что “все же вертится и движется, – сказал он, – ничто во Вселенной не стоит на месте”, и я даже не понял сначала, о чем он, что вертится и движется? И решил, что это он о своем “телескопе”, а жена сначала говорила, что ничего не видит, одна чернота, а потом сказала: ой! Вот! И некоторое время смотрела, не отрываясь, а потом сказала мне: посмотри, – и отодвинулась.
– Что, правда, что-то видно? – спросил я недоверчиво.
Но тут дед потребовал предоплату, труба работает по принципу один человек – один билет, – сказал он, – если ваш муж или кто он вам, хочет посмотреть, надо еще раз заплатить, без этого выхода в космос не получится.
И я непонятно почему сказал: да ладно, не надо, пойдем, – но жена к счастью настояла, и дед снова стал что-то настраивать в своей трубе, снова приговаривая свое “все же движется, как мы знаем, все ни секунды не стоит на месте”, а я спросил его, с обсерватории ли он, с той, что видна на горе по дороге из Зурбагана на юг, к Форосу, но он сказал, что нет, он любитель и всю жизнь смотрит на звезды только со своего балкона, или в отпуске – с гор, или вот, подрабатывая, – с набережной.
– А что именно движется? – спросил я. – Это вы в переносном смысле, так сказать, общественное развитие, выборы?… (В тот год в той стране должны были пройти какие-то очередные выборы, и я подумал, что дед говорит об этом).
– Согласно Копернику, движется Вселенная и все во Вселенной, от звезды до последнего атома, – высокопарно сказал, или даже не сказал, а отчеканил дяденька, – я имею в виду именно это! – И я прислонив глаз к окуляру, сначала не видел ничего, но потом в углу черного поля появилось ярко-голубое пятно с кольцом типа веретена вокруг и довольно быстро стало перемещаться, причем кольцо тоже вращалось, или мне так показалось.
– Видишь? – спросила жена.
Я кивнул. Пятно было ослепительно голубым и двигалось в полной черноте.
– Это Сатурн, – сказал дяденька, – более миллиарда километров от нас.
– А почему он так быстро перемещается? – удивилась жена.
– Так вы представляете, сколь бесконечно мала дуга, которую выхватывает наша труба из небесной сферы, и сколь велика скорость, с которой наблюдаемая нами планета движется по этой микроскопической дуге? – Дед сделал эффектную паузу. – Вы школьный курс геометрии помните? Мы находимся в вершине равнобедренного треугольника с бесконечно малым основанием и сторонами, в земном понимании, равными бесконечности!…
Похоже, хозяин трубы заводился от собственных высказываний, так как на слове “бесконечность” он даже немного взвизгнул.
Минут через двадцать мы сидели с женой на скамейке у самой воды и смотрели на еле колышущееся море.
– Трудно себе представить, что где-то, в полной тишине и пустоте несется эта махина, – сказала жена.
– Собственно говоря, мы тоже несемся, – сказал я.
– Не надо, – попросила жена, – крышу сносит.
Мы еще помолчали.
– Разные реальности, – сказала вдруг жена.
– Что?
– Разные реальности. Наша здесь. Московская, откуда приехали твои друзья. Тверская, метро, машины… И та, что мы видели в телескоп. Ледяные пространства, и там летит что-то огромное. Это как-то сочетается?
– Конечно, – сказал я. – В твоем сознании, как сказал бы один философ… А мы вот сейчас пойдем в Мак-Дональдс и съедим по пирожку с вишней. И это будет тоже божественной симфонией. – Я засмеялся. Жена улыбнулась.
Почему-то мне не хотелось говорить об увиденном в телескопе: возможно, ощущение было слишком сильным. Мы подняли головы и посмотрели в сторону, где по идее должен был быть Сатурн. Не очень яркая звезда висела над морем. Чуть ниже, в миллиарде земных километров, около дядьки с трубой уже толпился народ.
– А почему она двигалась как-то… не плавно? – спросил я. – Без торжественности?
– Это показалось, наверное. А может, это ты трясся. Или из-за огромного расстояния и беззвучности. Попробуй плавно запустить такую махину. Я не знаю, – сказала жена.
Судия – народ
Жена принимала участие в социологическом опросе “За кого вы проголосовали на недавних выборах?”. Дело было в новом, спальном районе, и поэтому люди отвечали по-разному, скажем так. Впрочем, что интересно, ни один их не послал. На языке социологов это называется “отказ от ответа в резкой форме” и в данном случае косвенно указывает на повысившуюся общественную культуру наших граждан. В основном люди из этого района голосовали за “ЕдРо” – мы ведь сейчас неплохо живем, правда? Один интеллигентный дядечка сказал, что всегда голосует за “Яблоко”, но при этом ласково спросил жену, почему она до сих пор не уехала из страны; одна бабка стала орать, что у них перед домом всю зиму не чистят снег, и она два раза уже свалилась, а на вопрос: а голосовала-то ты за кого? – отвечала, что -… Что, в общем, она всех в одном месте видала и в следующий раз обязательно проголосует за коммунистов, потому что они хотя бы – … (заполните сами).
Один широкоплечий мужчина аккуратно ответил на все вопросы (он сказал, что всегда голосует за ЛДПР), но потом сказал жене, что она ему должна 200 рублей за ответы и что он сейчас приведет люберецкую братву, если она ему их не отдаст. Пришлось ей полчаса отсиживаться в ближайшем Мак-Дональдсе в страхе перед “братвой”. Одна тетенька, садясь в приличную иномарку, сказала, что она-то голосует за СПС, но на вопрос, не даст ли она номер своего сотового телефона (чтобы начальство жену могло проверить, а то вдруг она все анкеты дома на кухне нарисовала?), от души расхохоталась и спросила: ее что, за дуру принимают?
Но был один ответ, за который какой-нибудь писатель, любящий порассуждать о мистическом русском сознании (неважно, порассуждать всерьез или шутя), многое бы отдал. Может быть, даже душу.
Две тетеньки лет пятидесяти с хвостиком (одна – по виду интеллигентная учительница, другая – усталая комсомолка), лучезарно улыбаясь, сказали моей жене:
– А наш депутат – Господь Бог, деточка. Мы его уже давно выбрали!
Но не торопитесь умиляться (и пусть писатели, любящие порассуждать о мистическом русском сознании, оставят свою душу себе): сказав это, тетки протянули жене брошюру по типу Свидетелей Иеговы или что-то в этом роде, попросили внимательно с ней ознакомиться и, бодро улыбаясь, быстро удалились к метро.
Жена даже расстроилась. Неплохой был ответ в первой своей половине, согласитесь. Просто хоть сейчас в газету. Своими “свидетелями Иеговы” тетки все испортили. Никакой мистики из этого уже не сделаешь, жаль.
А вот одной их сотруднице – студентке МГУ – не повезло: ее сильно облаяла какая-то советская бабуся у подъезда. То есть у нее был этот самый “отказ от ответа в резкой форме”. Традиционная тема – “нечего!”. “Нечего” здесь ходить и спрашивать в смысле, а потом бабка стала что-то кричать про маленькую пенсию и 100 лет тяжелой работы и одиночества, и про молодое поколение, которое занимается всякой херней (типа социологического опроса) вместо того, чтобы работать, как они. Грустная история, конечно. И ведь они действительно работали как волы, что самое печальное. Всю свою жизнь тянули лямку, от Сталина до Горбачева транзитом через двадцать лет “товарища Л. И. Брежнева”. Растили детей, копили на цветной телевизор, год стояли в очереди на диван… И получили за свою работу кожуру от банана по государственным праздникам.
Но студентке МГУ такие мысли, видимо, уже не свойственны, а может быть, ее бабушка не орет на молодых людей, обращающихся к ней с вопросами. В общем, она не выдержала и, несмотря на строжайший запрет инструкции и абсолютно не думая о сложной истории страны в ХХ веке, послала бабку на три буквы, при этом еще и добавив от себя:
– Сама во всем виновата, старая дура!
И, не слушая ответную реплику, быстро удалилась к соседним подъездам. У нее ведь работа сдельная, долго разговаривать некогда: чем больше сделаешь, тем больше заплатят.
Это молодое поколение, оно вообще жестокое до невозможности.
– Вообще, – говорит жена, – сейчас в Москве первая реакция людей на подходящего, любого подходящего, даже женщину, молодую симпатичную девушку – напряженное недоверие, закрытость, страх, почти физический, желание пройти мимо, иногда, от страха – агрессия. Если рядом ребенок, его могут инстинктивно прикрыть рукой, придвинуть к себе. Как животное в лесу. Потом, когда обнаруживается, что это социолог, просто уличный опрос – облегчение: а-а, вот вы что, ну, давайте, давайте поговорим… Хотя недоверие сохраняется, часто ехидно спрашивают: а зачем это вам?
Так что неправда, когда говорят, что у нас люди неотзывчивые и грубые, даже как пройти куда-нибудь не скажут, мимо пробегут, – они просто всего боятся! Я же говорю, как звери в лесу.
Церковь Праскевы-Пятницы
Зимой ездили в Казань, к родственникам жены и заодно проветриться немного, на снег посмотреть. В Москве последнее время с этим плохо. Хорошо съездили, и правда, на снег насмотрелись, на сугробы, на то, как он блестит под фонарями вечером, как пушистым ковром покрывает дворы и по нему поздно вечером цепочки одиноких следов тянутся. Потом, город такой после Москвы тихий, хотя и современный, последние годы сильно похорошевший, много торговых центров, кафе и все сильно дешевле по сравнению со столицей нашей родины. Иногда я бродил там один, особенно в районе исторического центра и казанского Кремля. Тихие улочки, старинные дома, улицы не заполнены автомобилями, как в Москве. В тех местах, кроме огромной новой мечети в черте Кремля, много церквей, часто недавно отреставрированных и покрашенных, рядом храм со знаменитой чудотворной иконой Казанской Божьей матери, которую папа Иоанн Павел II подарил (или вернул, как угодно можно сказать) нашей стране. В одну из таких церквей, всю белую, чистую, с большими синими куполами, я и зашел, честно говоря, в основном, чтобы погреться. Еще название меня привлекло необычное на дорожном указателе – церковь Праскевы-Пятницы.
Зашел и обрадовался – в церкви никого не было. Ни одного человека, несмотря на воскресенье. Все-таки что значит не совсем русский город. Только горели несколько лампад и свечей перед образами и настольная лампа в углу, где киоск со свечками и иконами, где какая-то бабушка читала, шевеля губами, церковную книгу. И так необычно для церкви – в боковом приделе стояло несколько кресел, именно кресел и журнальный столик. Я спросил у бабушки, можно ли присесть, сел и огляделся. Увидел большой, метр на метр, наверное, образ Святителя Игнатия Брянчанинова, и обрадовался: я читал его проповеди в Интернете, и еще у меня есть его книжка. Это святитель пушкинского времени, и у него в проповедях есть одно очень хорошее место, где он говорит о людях, считающих свою веру чуть ли не заслугой. А ведь в Евангелии сказано – “милости хощу, а не жертвы…”, пишет Брянчанинов. Я спросил у бабушки, откуда здесь эта икона.
– А это нашему настоятелю подарили в Москве, – сказала она. – Это писатель один.
– Писатель подарил? – не понял я.
– Нет, писатель на иконе. Вы что, интересуетесь? – спросила она немного погодя. – У нас во дворе часовня есть. Недавно построили. Показать вам? Я могу отпереть выход, что туда идет.
Симпатичная была какая-то бабушка, простая, но не сердитая, как иногда (или, увы, часто) это бывает.
Она принесла ключи и сказала:
– Это… на месте репрессий возвели часовню. Сталинских. Не так давно.
Отперла дверь, и я вышел на церковный двор.
– Вы вернетесь? Я не буду запирать тогда, – сказала она.
Во дворе было очень заснежено. Небольшая часовня с мемориальной доской стояла неподалеку. Чтобы подойти, мне пришлось почти протаптывать дорожку в сугробе. “Невинно убиенным в 1930-1940-х годах новомученикам российским” было написано на доске мелко. За часовней был виден церковный двор, стена, и дальше, с пригорка, открывался неплохой вид на город, на ближние Черные пруды подо льдом и недавно отреставрированные, старые, дореволюционные дома с той стороны прудов. Выделялся один из домов со странными, затемненными евро-окнами (позднее мне сказали, что это республиканское ФСБ). Сбоку был виден кусок белой стены местного Кремля. Над домами стояла неполная луна, придававшая всему пейзажу вид картинки из 1001 ночи. Было странное ощущение, что я стою около исторического памятника. Я подумал, что последние недели живу немного по-другому, чем жил в Москве. С другим ощущением и, пожалуй, самоощущением. Что я чувствую себя как бы не совсем в России. Так это и правда, не совсем Россия, подумал я. Точнее, уже не совсем Россия, несмотря на университет, где преподавал Лобачевский, дом Льва Толстого и “затемненные окна”. Я вспомнил девушек с покрытыми хеджабами головами, виденных мной пару дней назад в супермаркете, мечети в старом городе, стариков в фесках. Это уже немного Восток, наверное. Странный, заснеженный Восток… О надписи на часовне думать не хотелось.
– Посмотрели? – спросила бабуля, когда я вернулся.
– Посмотрел.
– На пожертвования построили, – сказала она. – Люди жертвовали. Разные. Наш батюшка собирал. Тут в тридцать седьмом году, во дворе, братская могила была. Грузовиками хоронили. Тыщи людей. Вон тот дом, – она показала куда-то в сторону, – потом сверху построили.
Думать о том, что говорит бабушка, по-прежнему не хотелось, но я сказал:
– И ведь никого не наказали за это, вот что.
– Тут накажут… – сказала бабушка. И вдруг добавила с виноватой улыбкой: – Еще нас накажут за это… Когда-нибудь.
И вопросительно на меня посмотрела.
Я немного опешил и чего-то даже испугался. Хотя чего? Чего?! Реально думать о том, что сказала бабуля, по-прежнему не хотелось, но со всей твердостью, на которую я был способен, я сказал:
– Как вас зовут?
– Татьяна.
– А с отчеством?
– Татьяна Петровна.
– Никого уже не накажут, Татьяна Петровна, – сказал я. – Честное слово. Не бойтесь.
Татьяна Петровна опять несмело улыбнулась. Я видел, что она мне не очень верит. Не не верит, а именно не очень верит. Уже прогресс, согласитесь.
Я купил у нее образок Святителя Брянчанинова и поставил свечку к его иконе и к иконе Всех Святых. Немного постоял. Сфотографировал церковь изнутри. Посмотрел, что получилось. Вспышка отразилась от стекла на иконе. Получилось, что где-то внутри у иконы горит свечка.
Вышел на улицу.
Дома посмотрел в Интернете, кто эта Праскева Пятница. Оказалась, христианская мученица, жившая когда-то на территории Малой Азии, отказавшаяся даже на словах отречься от христианской веры. В нашей стране довольно много посвященных ей церквей. На Руси она почему-то считается покровительницей женщин и сельскохозяйственных работ.
Несправедливость всего этого
( утешение философией )
Однажды, когда я работал в журнале “N”, я брал интервью у одного философа. Философ был довольно известный и уже немолодой, раньше я читал его книги, и если бы тогда, в начале 1990-х, мне кто-то сказал, что я буду сидеть перед ним с диктофоном и задавать вопросы, а рядом будет щелкать фотоаппаратом фотограф, я бы не очень поверил…
Причем я пришел к нему какой-то немного нервный, он назначил встречу на поздний вечер, а днем приезжала в гости младшая коллега жены, молодая девочка двадцати лет, и мы с ней неожиданно поругались из-за какой-то ерунды. Как можно было всерьез воспринимать слова двадцатилетней девочки… Наверное, это все по Фрейду. Хотя, с другой стороны, не такая уж и ерунда.
Речь случайно зашла (наверное, что-то показывали по ТВ) про эти пресловутые карикатуры в датском журнале на… не знаю, как сказать… на ислам? на мусульман? – и она сказала вдруг, что понимает, из-за чего разгромили датское посольство в… – я уже не помню, где разгромили, в какой-то арабской стране.
А теперь представьте: сидит молодая симпатичная девчонка, модно одетая, в джинсах и короткой майке Mango, в плеере поет Мадонна, и, насупив брови, говорит: – Правильно они обиделись. Нечего всякую фигню печатать. Я сказал (зачем-то), что если что-то не нравится, надо судиться, тем более в Европе, с их любовью ко всяческим “меньшим братьям”, суд будет выигран почти наверняка, причем тут посольство и большое и сильное государство Дания? Там же свобода слова и принц Гамлет, да за такие картинки газета по суду могла бы схлопотать очень большой штраф – и все, больше никому в голову бы не пришло печатать никакие карикатуры. На что коллега жены отвечала, что, мол, все так, но она, красивая московская девочка из престижного экономического вуза, начинающая делать неплохую карьеру, их – понимает.
Вообще-то, честно говоря, сейчас я уже не помню точно, что она отвечала. Я же говорю, человеку 20 лет, как можно всерьез на него реагировать? Но, по-видимому, в последнее время настолько часто приходится слышать всякую ерунду, что как-то уже нет сил улыбаться, “не обращать внимания” и искать для всех оправдания.
Один еще молодой, другой уже старый, третьему никто ничего не объяснял (никогда), четвертого мама в раннем возрасте оставила у бабушки и уехала с чужим дядей, у пятого сексуальные проблемы, и они все сердиты за это на весь мир… Нет сил, понимаете? Короче, осадок от общения вышел неприятный.
Плюс еще в феврале дело было, все уже устали от зимы, авитаминоз, потом зимой в том году стояли какие-то совершенно аномальные морозы, доходило до минус 30, рано темнело, – короче говоря, когда мы к десяти вечера приехали на Никитскую, где философ жил на съемной квартире (постоянно он жил в Лондоне), настроение у меня было, честно говоря, не очень хорошим.
И, когда после первых приветствий философ попросил не задавать ему общих вопросов, – спрашивайте что-то конкретное, – сказал он, – если у вас лично есть ко мне вопросы, я отвечу, – я почти сразу спросил его: а что делать, если идешь ты по улице, и даже не по улице, а встречаешь где-то вроде бы милого человека, и он вдруг начинает нести всякую дичь? Например о политике? “Плюнули на ботинок” – назвал я свои ощущения, хотя был не очень точен, так как что мне лично с того, что младшая коллега жены – и еще 1 000 000 ее российских подруг – не понимают, откуда взялись их сd-плейер с Мадонной и модная майка Mango?
– Так это же не вы несете чепуху, – сказал философ. – Если бы вы – еще можно было расстраиваться.
– Но они же не понимают, – сказал я, – куда это может привести!
– Может быть, и не понимают, – сказал философ. – Но, может быть, это их дело – нести чепуху и не понимать, куда это их может привести, откуда вы знаете? Вы же понимаете?
– Вроде бы.
– Ну вот, – он засмеялся.
Я хотел сказать философу, что это общее и многочисленное непонимание элементарных вещей меня пугает, причем пугает не содержанием, а именно количественными показателями, так сказать, числом непонимающих, и почему-то вспомнил, как один мой очень милый знакомый, актер по профессии, сидя в модном и дорогом кафе неподалеку от места нашего интервью с философом, за чашкой кофе по-венски, как-то сказал мне, что “очень не любит американцев”, – я как раз просматривал газету, и там, по-видимому, была какая-то звонкая статья на эту тему, – но я вдруг подумал, что, может быть, философ прав, и надо легче относиться к подобным вещам?
И, к тому же, слова моего знакомого – следствие не только профессиональной (sorry-sorry) актерской глупости, но и дурацкой сегодняшней моды на все антиамериканское – кроме, конечно, их машин и недвижимости.
Ведь была же такая мода в Европе, особенно во Франции в 1960-х годах. Сам лично видел где-то, как мой нежно любимый Годар в одном своем фильме того времени брякнул какую-то ерунду про СССР, типа “при капитализме тоже нет свободы!”, позируя перед камерой в “интифаде”, а до публикации солженицынского “Архипелага” массовым тиражом быть “другом нашей страны” во Франции считалось просто-таки хорошим тоном. Так что коллега жены, она что – повзрослеет и, может быть, поумнеет.
– Поймите, – сказал философ, – все как-то устроено. Justice of it all, – как говорил Гурджиев. – Справедливость всего этого.
Мне очень нравилась эта фраза, я где-то уже слышал ее, но не знал, что она принадлежит Гурджиеву. Еще я со стыдом вспомнил, что у меня уже несколько лет на полке лежит нечитанная книга этого Гурджиева, “Письма Вельзевула к своему внуку”, называется как-то так. (Мою лень извиняет то, что книга очень толстая). Еще я вспомнил, что кто-то мне говорил, что Гурджиев в царские времена брал с желающих у него поучиться 1000 рублей ассигнациями – огромную сумму по тем временам – и что у него был друг и ученик Петр Демьянович Успенский, с которым они вместе путешествовали и который тоже написал книжку – “В поисках чудесного”. Успенский с учеников денег не брал, после революции 1917 года они вместе эмигрировали и там, в Европе и эмиграции, сильно рассорились…
– Причем устроено в вашем сознании, – тем временем сказал философ. – Не думаете же вы, что на Западе кто-то что-то понимает? И что там вам будет менее неуютно? Ведь вы говорите не об этом, я так понимаю?
Поскольку журнал, в котором я тогда работал, был скорее политическим, чем культурным, я не стал углубляться в тему Гурджиева и, ухватившись за последние слова философа, сказал:
– Но если люди ни фига не понимают, они же соответствующим образом проголосуют? Как-нибудь, при удобном случае. Пока это происходит как надо властям, но потом – кто знает… “Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков”, – пел Высоцкий, вы же помните. Разве не существует ответственности власти в данном случае? – Мне очень понравился мой вопрос, и я даже возвысил голос в тот момент: – Разве не существует ответственности власти?!
При этом я подумал, что философ сам немного похож на Гурджиева своим лысым черепом и торчащими усами. Только взгляд у него был чуть добрее, чем у автора “Писем Вельзевула”, чей портрет был помещен в книге на моей полке.
Еще я мельком вспомнил, что у меня был приятель, жена которого сильно увлекалась этим Гурджиевым, и еще мадам Блаватской, книгами Кастанеды и всеми делами. С ней было очень интересно разговаривать, особенно учитывая тот момент, что внешне она была тоже симпатичной… Потом она ударилась в православие, потом они развелись, и эта увлекавшаяся Кастанедой и православием бывшая жена вместе со своей мамой лет пять не давали моему приятелю видеться с ребенком. Вот так. Здорово, правда?… Но, – подумал я, – подражая философу, – может, это было ее дело, не давать приятелю видеться с ребенком и делать ему какие-то мелкие гадости? Приятель-то ничего плохого ей не делал, только изменял немного, когда они были женаты. Так поступают многие мужчины, и ему этим укорять, наверное, нельзя.
– Но о какой ответственности власти можно говорить, когда подвластные традиционно безответственны? – тем временем, как всегда, афористично, высказался философ. – Никто ни о чем не думает и думать не желает. Все плывут по течению и надеются, что все как-то утрясется без них! – Он даже немного возвысил голос.
– И благодарят администрацию президента за предоставленную возможность приобрести новую модель Citroen C4, – вдруг, неожиданно для самого себя ввернул я (C4 – очень симпатичная машинка, я тогда подумывал взять кредит в банке, чтобы ее купить, поэтому, наверное, я вдруг не к месту об этом вспомнил).
Философ удивленно посмотрел на меня и вздохнул: да-да.
По-моему, он даже не очень понял, о чем я. Мы помолчали.
– Мне один московский профессор сказал недавно, – вспомнил философ, – сказал: а мы думали, все уже наладится. – А мы думали… – передразнил он профессора и неожиданно опять возвысил голос: – А ты разве думал когда-нибудь вообще, а, рыло грязное?!
Хотя я несколько опешил, мне очень понравилась эта фраза, и я решил ее запомнить, а было задремавшая редакционный фотограф встрепенулась и, испуганно на меня посмотрев, защелкала фотоаппаратом.
Я подмигнул ей, показывая, что все нормально, а сам подумал, что будет неплохо дать эту фразу в виде подписи под большой фотографией философа на развороте ближайшего номера.
Потом, я уже не помню, как, наш разговор вышел на возможность в России отдельного существования. Причем термин “отдельное существование” предложил сам философ. Мы говорили о русском философе Семене Людвиговиче Франке, высланном из СССР в 1922 году на знаменитом “философском пароходе” Львом Троцким (и этой высылкой, как ни смешно, спасшего многих), и я вдруг спросил философа:
– А можно ли в географическом пространстве России перестать быть… объектом? – Мне очень понравился мой вопрос, мне он показался очень философским.
– Объектом для чего, – не понял философ, – для философии?
– Какой для философии, – я махнул рукой. – Для истории!
– Так вы ведь не хотите не быть объектом, – вдруг сказал философ. – Ведь никто не хочет перестать быть объектом, потому что тогда надо становиться субъектом, и при этом почти все отношения с окружающим вас миром будут изменены. Из “страдательного” вы перейдете в “действительный” залог, если рассуждать не очень серьезно. Вы перестаете быть ребенком и начинаете быть взрослым – раз, и вместе с этим лишаетесь “материнской” или “отцовской” любви или нелюбви так называемых “окружающих” – два. Вас любят ваши близкие, ваши друзья, знакомые, сослуживцы, но они вас любят по-другому, это уже совсем другие, в каком-то смысле, если хотите, партнерские отношения. Они чего-то хотят или ждут от вас, причем совершенно необязательно материального, вы понимаете? Их любовь или нелюбовь не безусловна, как родительская, вот что печально и что совершенно не устраивает очень многих наших сограждан. А всем остальным, им вообще становится на вас начхать!
Философ весело улыбнулся:
– А если у вас нет реально близких, или вы отказываетесь от какой бы то ни было ответственности перед ними, и поэтому вы, увы! – становитесь постепенно никому не интересны и не нужны? Остаются история и… государство. Они, как терпеливая няня Арина Родионовна, ждут нас среди чудесных русских полей и лесов. Они просто есть. Вы не должны их любить или ненавидеть, но вы обязательно будете находиться с ними в каких-то взаимоотношениях. Обязательно. Правда, существует точка зрения, что им вы тоже не нужны, так как они, вместе с лесами и полями, находятся в великом восточном самосозерцательном покое, но об этом почему-то думать никому не хочется…