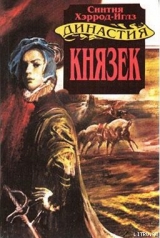
Текст книги "Князек"
Автор книги: Синтия Хэррод-Иглз
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
– Ты чересчур мягкосердечна, дитя мое, – ты забываешь, что годы, проведенные в том суровом краю, неминуемо должны были его изменить. Он уже не тот Джон, которого ты помнишь, – не тот нежный мальчик, который был твоим верным рабом в детстве. Мы все уже не те, что прежде... – прибавила она, и на лицо ее легла тень всех печалей и утрат, пережитых за эти годы. – Иногда... иногда я думаю, что зажилась на этом свете...
– Ох, не говорите так! – Джейн осенила себя крестом. – Все в Его руках. Жизнь еще наладится – вы же видите, все уже налаживается! Мой малыш – это лишь начало обновления. В доме зазвенят детские голоса, в очагах вновь затеплится огонь...
– И семья Морлэнд восстанет из этого пламени, словно Феникс? Это ты хочешь сказать? – Нанетта устало улыбнулась. – Ну что же, возможно, дорогая моя... В любом случае, твоя беременность несколько разрядила напряженность в отношениях между Полом и Джэном. Всем сердцем молюсь Господу, чтобы он даровал тебе сына – тогда снова настанет мир.
...И действительно родился мальчик – здоровый, крепкий мальчик, – Иезекия назвал его Неемией: Нанетта втихомолку ворчала, что могло быть и хуже, но навряд ли... Пол был счастлив до умопомрачения и устроил по случаю крестин самый пышный праздник чуть ли не за всю историю усадьбы. Даже к Джэну он помягчел, считая, что рождение малыша разрушило все коварные планы Чэпемов. Он разомлел настолько, что дал согласие на помолвку между Селией Баттс и Николасом Чэпемом. Мудрая Нанетта удержалась от комментариев и всеми силами унимала раздраженную Маргарет. Ведь если та вновь не выйдет замуж, то вся половина наследства, принадлежащая ей, отойдет к будущим детям Селии – что, разумеется, удручало старшую сестру. А сообщение о том, что корабль Дрейка вовсе не затонул, а преспокойно себе пиратствует, грабя испанские галеоны, и вовсе ее опечалило: ведь это значило, что она, возможно, вовсе и не вдова. Но когда поздней осенью 1580 года в Йоркшир пришло известие об исчезновении Артура Морлэнда, Маргарет вторично надела траур. Когда же она прослышала, что его никто не видел мертвым и никто не хоронил его тела, то в душу ее закралось подозрение, что муж вовсе не погиб... Но она молчала, оставив свои соображения при себе. Маргарет хотела вновь выйти замуж – а если какое-то время спустя Артур соизволит возвратиться и обнаружит ее замужем за другим... Что ж, вот тогда она об этом и задумается. Она вовсе не собирается провести свои цветущие годы, храня верность супругу, которому вовсе нет до нее дела.
Одно лишь слегка ее утешило – в усадьбу прислали долю богатства, принадлежащую Артуру, и даже после того как отец получил значительную часть, оставшегося вполне хватило, чтобы Маргарет стала весьма состоятельной, а оттого еще более привлекательной вдовушкой. А при помощи Мэри Сеймур, с которой Маргарет весьма близко сошлась, она соорудила себе ультрамодный и весьма дорогой наряд на Рождество – свадебное платье Селии померкло рядом с ним. Селия и Николас поселились в усадьбе Морлэнд – Уотермилл-Хаус был чересчур мал для молодой четы, и если не считать стычек Селии с сестрой, в которых новобрачная козыряла перед Маргарет своим статусом замужней дамы, то можно было считать, что это было счастливое Рождество.
Когда Марджери, вторая супруга Вильяма, умерла, произведя на свет мертвое дитя, на муже это никак не отразилось. Его тесть, Джон Грин, скончался за несколько месяцев до того, и Вильям вовсе перестал заниматься делами, проводя почти все время в своей мансарде. Себ, новый владелец таверны и постоялого двора, от всего сердца старался обустроить мужа покойной сестры, в первую очередь заботясь о сиротах, – но когда миновал период траура, а Вильям не вернулся к своим обязанностям, Себ счел необходимым потревожить, наконец, вдовца в его «студии».
И вот, погожим мартовским днем, он поднялся по ступенькам, слегка отдуваясь – очень уж был он дороден: худой хозяин – плохая реклама для таверны... Прежде чем войти, он деликатно постучался – Вильям поднял глаза от бумаг и слабо улыбнулся.
– Ах, это ты, Себ... – протянул он и вновь вперил глаза в свою писанину. – Проблема в том, что никак не могу понять, какой инструмент тут должен звучать, а как без этого достичь полифонии, ума не приложу... Но все же...
– Вилл, – твердо прервал его Себ, для которого это все было сущей тарабарщиной. – Нам надо поговорить. Клянусь, я был терпелив – я вообще отличаюсь терпением, ты сам знаешь…
– Это сущая правда, Себ, – и я всегда был благодарен тебе, – сказал Вильям.
– Да неужто? А я-то думал, что ты ничего вокруг себя не видишь. Да заметил ли ты, что умерла твоя жена? По-моему, тебя это даже не удивило – впрочем, как и всех прочих в доме. Знаешь, отчего она померла, Вилл?
– Думаю, на то была воля Господня, – ответил Вильям, несколько удивленный неожиданным поворотом дела. Себ отрицательно помотал огромной головой.
– Она умерла оттого, что во чреве ее был мертвый ребенок – ведь все эти месяцы она делала твою работу за тебя, чтобы лишний раз тебя не побеспокоить. Негоже беременной носить вверх-вниз по лестнице тяжелые бадьи с водой и уголь для очага. Но ты не марал рук – и ей приходилось одной этим заниматься. А твои несчастные дети?
– Мои дети? А что случилось? Они захворали? – Детей Вильям любил: Амброза, Сюзан, Мэри и сына Марджери Вилла. Ему нравилось, как они щебечут, играя – а порой малышки танцевали, чтобы угодить отцу.
– Нет, слава Господу, они здоровы – хотя если бы и захворали, ты вряд ли обратил бы внимание. Но они растут как сорная трава, без любви, внимания, ласки... Амброз позорит всех нас, бегая по улицам босиком!
– Я думал, он ходит в школу... – сказал Вильям. – А почему? У него что – ботинок нет?
– Он прогуливает! А башмаки продал одному мальцу, чтобы купить силки для ловли кроликов.
Вильям оставался невозмутим:
– Что ж, это торговая сделка. Вероятно, силки ему нужнее...
И тут Себ потерял терпение. Его огромная рука сжалась в кулак:
– А теперь слушай меня внимательно, Вилл Шоу! Я довольно валандался с тобой после смерти отца – но теперь хватит! У меня дома достаточно ртов, да еще незамужние сестры – мне есть о ком побеспокоиться, кроме тебя и твоего отродья! Либо ты впрягаешься в лямку наравне со мной, либо иди на все четыре стороны вместе с ребятишками! Что ты за человек, в самом деле – почему спокойно смотришь, как другой кормит твоих детей? Сидишь здесь, корябая бумагу, пишешь всякую чепуху – да, я знаю, отец был высокого мнения о твоих песенках. Но красивые слова на хлеб не намажешь! Итак, либо отрывай задницу от стула и работай как все – либо я умываю руки! Вот и весь сказ.
В последних словах Себа Вильям расслышал нечто, доступное лишь ему одному – и перекрестился. Увидев это, Себ поморщился.
– И вот еще что. Не желаю больше терпеть папистов в своем доме! Я давненько за тобой наблюдаю – нет, ты не добропорядочный христианин, как все мы тут. Вот-вот в парламенте подпишут новый акт, и со всеми католиками разом будет покончено – а раз ты один из них, то скатертью дорожка! Ты понял?
Вильям, озадаченный и задумчивый, глядел на него.
– О да, Себ, я все понимаю. Ты выразился предельно ясно.
– Вот и ладно. – Себ был ошеломлен: отсутствие сопротивления со стороны Вильяма сбило его с толку. Он не привык, чтобы люди так легко позволяли ему на себя орать. – Вот и ладно, – повторил он, переступая с ноги на ногу. – Пожалуй, спущусь-ка я вниз. – Он помешкал, и Вильям вежливо улыбнулся ему. – Скоро ужин поспеет, – уже своим обычным голосом проговорил Себ. – Как раз когда детишки из школы вернутся.
– Я спущусь и помогу тебе. – Вильям отложил свои бумаги в сторонку. Себ выглядел озадаченным как никогда.
– Хорошо, – ответил он. – Спасибо, Вилл.
И он стал спускаться по ступенькам, осторожно ступая. Вильям шел за ним со странной улыбкой на губах, которая исчезла, как только они вошли в таверну.
Через две недели он подошел к Себу – тот как раз вгонял затычки в бочонки с вином – и сказал:
– Я много думал над нашим разговором, Себ, – и принял решение.
Себ выпрямился и рукавом стер пот со лба:
– Какое, Вилл? – с неловкостью в голосе спросил он.
– Верно, тебе нужно содержать семью – и я не вижу причин, по которым ты обязан содержать еще и меня с детьми. Я ухожу – и забираю с собой детей.
– Э-э-э, погоди-ка, погоди-ка, Вилл! Не пори горячку! – запротестовал Себ. – Я вовсе не собирался выгонять тебя – я хотел лишь, чтобы ты начал, наконец, помогать мне в таверне! Ну, оно конечно, я понимаю – песенки тебе писать надо, хоть ты расшибись – но... – Добряк уже горько сожалел о том, что тогда так взорвался.
– Нет, ты тогда был прав, – стоял на своем Вильям. – Я решил вернуться на прежнюю стезю – снова буду актером. Моей труппе необходим сейчас опытный человек, и я с радостью присоединюсь к ним.
– А с детьми-то как? – Себ был сбит с толку. – Погоди, парень, не можешь ведь ты таскать их с собой по дорогам, словно цыганят – а маленькому Виллу и трех-то не стукнуло!
– С ними все будет хорошо. Как ты говорил, Амброз от рук отбился. Вот я и пригляжу за ним.
– А девочки, девочки-то что? А в школу?.. – теперь Себ опечалился уже всерьез. – Послушай, Вилл, прости, ежели я что не так сказал тогда... Но я же зла на тебя не держу – ты ведь меня знаешь! Давай-ка все забудем – а кто старое помянет, тому и глаз вон, а?
Вильям нежно улыбнулся и от всего сердца пожал мозолистую грубую ладонь Себа.
– Дорогой мой Себ. Я ухожу вовсе не потому, что зол на тебя – поверь, дело не в этом. Просто меня снова тянет в дорогу. Что-то гонит меня прочь отсюда – а что, я и сам до конца не могу понять... – Опечаленный и ничего не понимающий Себ молча уставился на него.
– Ну, по крайней мере, детей-то хоть оставь! – заговорил он, сообразив, что Вильям во что бы то ни стало решил уходить. – Мы позаботимся о них, поставим на ноги...
Вильям рассмеялся в ответ:
– Амброз в жизни не простит меня, если я его оставлю. Ну-ну, старина, приободрись – с ними все будет просто замечательно.
Уговоры Себа действовали на Вильяма, как припарки на мертвеца – а когда о предстоящем отъезде объявили детишкам, то они пришли в такой неописуемый восторг, что все пути назад были напрочь отрезаны. И через пару дней Вильям с детьми отправились вдогонку старой труппе – Себ и его родня молча глядели им вслед. Все их пожитки погрузили на большого белого мула – туда же поместили и обеих девочек, Сюзан и Мэри – они сидели прямо на тюках. Вильям нес за спиной малютку Вилла, завернутого в одеяльце, и вел за руку старшего сына – Амброз от волнения совершенно онемел. Дойдя до угла, Вильям обернулся, махнул рукой на прощание – и маленькая процессия направилась в сторону Лондона навстречу новой жизни, а, может, и на свидание с прежней...
...В труппе к тому времени произошли ощутимые перемены – умер Остен Хоби, Джек Фэллоу превратился в добропорядочного хозяина трактира, а Дик Джонсон перешел в другую труппу. Но старина Кит Малкастер по-прежнему был на месте – и принял Вильяма с распростертыми объятиями.
– Ах, как хорошо, что у меня снова есть умный собеседник! А твоя игра и особенно пение поможет всем нам. Ведь сегодня между труппами бешеная конкуренция – и чтобы преуспеть, необходимо выделиться. А уж с тобой-то... Но твои бедняжки... А паренек умеет петь? Он весьма хорошенький и сможет вскоре играть женские роли – если, конечно, сумеет выучить текст.
Вильям улыбнулся: – Амброз – находка для нас. А что до девчонок – они пока малы, но шить уже умеют, и от них будет польза.
Кит пожал плечами:
– Хорошо-то хорошо, но, думаю, все-таки нужна женщина, чтобы приглядывать за малышом.
– Женщины всегда найдутся, их всюду хоть пруд пруди, – беспечно ответил Вильям. – Но никак в толк не возьму, почему я сам не гожусь в воспитатели. Подумаешь, тайна за семью печатями! Их нужно кормить, когда они голодны, и следить, чтобы они хоть время от времени мылись. Они ведь словно зверюшки – сами дадут понять, чего им надо. Заплачут, когда проголодаются, а если захотят спать – просто лягут и уснут.
Кит от души рассмеялся:
– Совершенно новая концепция воспитания! Поручусь, что эти дети будут куда счастливее всех прочих!
– Ну, а теперь, давай-ка потолкуем о важном – какие пьесы мы будем ставить? И уж коли мы заговорили об Амброзе, то у меня есть новая песенка...
Так началась новая и удивительная жизнь для детей – переезды с места на место, из таверны в таверну, на спине белого мула или же в тряской повозке среди груды костюмов, ночи в дешевых гостиницах или крошечных мансардах – а иногда просто в стогу сена... А порой они засыпали прямо там, где сидели – на скамейке, на полу... Они научились выпрашивать еду и знали, как растрогать какую-нибудь сентиментальную вдовушку или же сердобольную хозяйку таверны. Зачастую их брала на время под крылышко одна из множества добросердечных бездетных шлюх – когда папа был чересчур занят...
Они смотрели все пьесы подряд – и вовсю помогали: передвигали мебель, устанавливали декорации, шили костюмы, переписывали роли... Амброз, счастливый и гордый до глубины души, уже играл небольшие роли и пел песни, а Сюзан с Мэри за сценой изображали гром и звуки битвы при помощи барабанов и свистулек. Много странного и непонятного довелось им увидеть – порой они удирали от сборщиков налогов, сидели в бесконечных тавернах, где пьяные мужики тянули нараспев непристойные песенки, а проститутки наперебой предлагали себя клиентам... Покуда папа и дядя Кит обсуждали пьесы и музыку, дети засыпали прямо на соломе – или же их втихомолку укладывала в постель жена хозяина гостиницы. Словом, дивная была жизнь – и никто из них не променял бы ее ни на какие сокровища!
Осенью 1581 года Селия родила близнецов – девочку и мальчика, которых назвали Алетея и Амори. Джэн и Мэри были в восторге от имен – а Нанетта поворчала, но вынуждена была признать, что это прелестнейшие малютки, каких ей когда-либо приходилось видеть.
– Ну разумеется, – поддразнивал ее Джэн. – Они ведь твои правнуки. И наверняка будут не только самыми красивыми, но и самыми умными, и самыми...
Габриэль, склонившись над колыбелькой, озадаченно рассматривал младенцев:
– По-моему, они просто маленькие уродцы – все красные и сморщенные. И с чего вы решили, что они будут умненькие – они ведь не могут говорить, и вообще ничего не умеют!
– Не волнуйся, это уже сейчас ясно видно, – ответила Нанетта. – И пододвинь-ка колыбельку поближе, дитя мое, – и подыми кружево, чтобы я могла посмотреть. – Габриэль послушно исполнил просьбу: он боялся острого язычка бабушки. Нанетта глядела на младенцев с затаенной нежностью. Она уже не могла взять их на руки – ведь в последнее время руки ее сильно отекали, немели и болели: она и ложку-то поднимала с трудом, и даже порой, когда боль становилась невыносимой, уединялась в своей комнате, и там Одри кормила госпожу с ложечки, словно ребенка. Страдания ее усугублялись еще и тем, что она всегда втайне гордилась красотой и белизной своих рук. Она знала, что все в мире тленно – и все же как хотелось ей прижать младенцев к груди!
– Хорошо все-таки, что в доме появились дети! – сказала она. – Дом, в котором нет детей – мертвый дом. Хотела бы я, чтобы Джейн прислала Неемию сюда – это так бы обрадовало Пола, а он в последнее время сильно приуныл...
– Ты думаешь, он болен? – спросил Джэн.
– Не знаю. Может быть. Он все меньше ест и с каждым днем худеет. И потом... – она осеклась и ни слова больше не произнесла, чуть было не выложив то, что рассказывала ей Одри: она слыхала от Клемента, что Полу часто плохо после еды – он страдает от невыносимых болей в желудке, а потом начинается рвота... Прислуга поговаривает об отравлении – но слугам свойственно сплетничать на подобные темы, особенно в случае внезапной болезни или смерти хозяев. Но кто был заинтересован в смерти бедного Пола? Кроме разве что... Но на эту тему Нанетта строго-настрого приказала себе не думать. Николас, Селия и дети прочно обосновались в усадьбе Морлэнд, а Джейн воспитывала Неемию дома, в Шоузе. Если Пол умрет сейчас, когда Неемия еще так мал – о, чудовищная мысль... Нет, решиться на такое мог лишь человек алчный и бесчестный – в наличии этих качеств у Мэри Сеймур Нанетта не сомневалась, но этого недостаточно. Надо потерять всякий стыд, утратить человеческое достоинство – нет, в это Нанетта отказывалась верить... Все-таки Мэри была хорошо воспитана, и Нанетта полагала, что она не решится на подобное злодейство – пусть даже она предала веру отцов, обратившись к протестантизму.
Но тем не менее Пол, слегший в постель, стремительно угасал – он таял буквально на глазах. Управлять делами он был уже не в состоянии, и Нанетта взяла это на себя. К тому же она тщательно следила за тем, как готовится пища, чтобы прямо из кухни она попадала непосредственно на стол Пола. Она заставляла кухарку отведать каждого блюда, прежде чем предложить его хозяину – видимо, Нанетта старалась убедить самое себя в необоснованности слухов. Ее предосторожности еще более убедили слуг в том, что слухи об отравлении – не пустая врака. Они всполошились настолько, что Нанетте пришлось собрать всю челядь в большом зале и отчитать как следует, чтобы попридержали языки. Но несмотря на все предосторожности Полу становилось все хуже. Желудок его не принимал ничего, кроме жидкой овсянки и бульона, но вскоре он не мог проглотить и этого, лишь время от времени делал глоток вина, чтобы поддержать силы. Всем было ясно, что он умирает, и Симон сказал потихоньку Нанетте, что настало время последнего причастия, Нанетта и Симон вошли в комнату Пола – в его огромную спальню, где он лежал, весь обложенный подушками, на кровати Баттсов. Нанетта сразу же поняла, что напрасно они откладывали так долго... Тело Пола настолько истаяло, что под стеганым теплым одеялом едва обрисовывался контур человеческой фигуры, а лицо его больше всего напоминало череп, обтянутый кожей – губы словно прилипли к зубам. Жизнь, казалось, уже покинула эту плоть – и лишь глаза горели угрюмым и злобным пламенем, словно давая понять, как тяжко измученной душе в гробнице гибнущей плоти. Он не желал умирать. Клемент стоял подле кровати и всхлипывал, стараясь подавить рыдания. Он провел рядом с Полом всю жизнь. Симон подошел к постели, взял безжизненную руку и заговорил – зазвучала знакомая, успокаивающая душу латынь. Нанетта преклонила колени и, преодолевая боль, сложила скрюченные руки. В комнату вошли домочадцы – Селия и Николас, Джейн и Иезекия – и Нанетту обожгла мысль, что с Полом в его смертный час будет лишь единственное его дитя... Но усилием воли она сосредоточилась на молитве.
Симон пытался добиться от Пола знака, что тот готов к покаянию – но Пол не мог ни слова вымолвить, ни даже шевельнуться, и лишь мрачные глаза его останавливались то на одном лице, то на другом... Наконец, взгляд его остановился на Симоне, и тот счел это условным сигналом. Он совершил помазание, перекрестил умирающего и помог Нанетте подняться, чтобы она смогла приблизиться к ложу. Джейн взяла Нанетту за локоть и пропустила ее вперед, тем самым признавая за ней право первой проститься с Полом.
– Пол... – Нанетта опустилась на колени у самого изголовья так, что их лица оказались почти вровень. – Я знаю, что ты умираешь как истинный христианин. И я прослежу, чтобы в усадьбе Морлэнд заупокойные мессы по тебе служили до тех пор, пока стоит часовня... И погребальная церемония пройдет как должно... – Глаза умирающего жгли ее, словно раскаленные уголья. – Ты хочешь что-то сказать? Что? Хочешь, чтобы я позвала Джейн? – Пол не сводил взгляда с лица Нанетты. – Или ты беспокоишься о завещании? Ты ведь оставляешь все детям Джейн, не так ли? – Но умирающий не отвечал – слышно было лишь хриплое дыхание, и мрачным огнем горели глаза...
Один за другим к постели подходили проститься домочадцы, слуги – кто-то рыдал, а кто-то молча склонялся перед господином, другие благодарили его за доброе и ласковое обращение с ними... Но нельзя было с уверенностью сказать, что Пол что-то осознавал – весь день пролежал он, недвижимый, с изможденным лицом, на котором жили одни горящие глаза: он из последних сил боролся со смертью. И лишь в девять вечера, во время второй смены свечей, Пол Морлэнд, хозяин усадьбы Морлэнд, испустил последний вздох – и дочь его Джейн закрыла ему глаза.
Глава 18
Леттис незаметно вступила в пору женской зрелости. В 1585 году ей исполнилось тридцать восемь лет – она была красивой и величавой женщиной, тревоги мятежной юности остались позади, и она, казалось, уже свыклась со своим образом жизни. Теперь она прочно обосновалась в Бирни-Касл и чувствовала себя здесь как дома, ведя хозяйство по собственному усмотрению, а в Аберледи даже не наезжала. Когда умирали старые слуги, новых выбирала она сама, и атмосфера в доме мало-помалу стала более непринужденной, так что отпала необходимость в былой скрытности и настороженности. Леттис, как и прежде, посещала протестантские богослужения для отвода глаз – но у себя в спальне они вместе с Кэт и Дуглас читали католические молитвы, и, хотя никто из челяди не говорил об этом, всем это было известно. В доме жили практически одни женщины. Джин, падчерице Леттис, минуло тридцать один – она по-прежнему была незамужней, ведь Роб не обеспокоил себя поисками подходящей партии для старшей дочери. И Джин была не только компаньонкой Леттис, но еще и домоправительницей, прекрасно управлявшей делами хозяйства. Она обладала практическим умом и прекрасной памятью на мелочи. Леттис часто искренне сожалела, что высокое происхождение не позволяет Джин стать женой человека более низкого звания – о, какой прекрасной женой она могла бы стать! А так ей приходилось вечно составлять списки продуктов, хранящихся в кладовых, делать описи белья, лежащего в многочисленных шкафах... Она сновала по дому – от подвалов до чердака – всегда с огромной и тяжелой связкой ключей в руках. А вечерами портила глаза, штопая белье при свечах…
Двадцатичетырехлетняя Лесли, более спокойная и покорная, казалась вечно полусонной. У нее было две страсти – музыка и еда. Пухленькая в юности, она, войдя в женский возраст, просто растолстела, утешаясь в своем затянувшемся девичестве бесконечными леденцами и цукатами – и мечтами о том, как однажды к замку подъедет прекрасный рыцарь верхом на белом коне и вызволит ее... Роб, наведываясь к семье, подсмеивался над ней – называл ее пасхальной курочкой и шутливо грозил зарезать ее и поджарить на обед. Но Лесли ничуть не обижалась – напротив, это забавляло ее: ведь она обожала отца и представить себе не могла, что он не отвечает ей тем же. Она никогда не позволяла Джин обвинять его в том, что они остались незамужними, вечно находя ему оправдания.
– Он выдал бы нас замуж, если бы только мог, – говорила она, хрустя леденцом. – Но ведь так трудно найти подходящих женихов нашего круга. Он, должно быть, и сам расстроен...
А Джин непокорно встряхивала головой:
– Ах, какая же ты все-таки дурочка! Мы с тобой засиделись в девушках лишь потому, что ему нет до нас ровным счетом никакого дела – а ты, глупая, этого не видишь!
Джин тоже любила отца и с трепетом ожидала его приезда, ее завораживал его сардонический юмор – но девушка была достаточно смышлена, чтобы воображать, будто отец ее любит – он всю жизнь ее и в грош не ставил. И лишь теперь, когда было уже слишком поздно, он начинал испытывать к старшей дочери какое-то подобие отцовских чувств, и даже порой ласково заговаривал с ней. Когда это происходило, она вопреки велению сердца отвечала холодно или резко – и выходила из комнаты. Доброту его Джин было тяжелее снести, нежели его жестокость: она была слишком горда, чтобы позволить ему себя жалеть. Лесли он привозил подарки – коробки леденцов или банты для лютни, частенько просил ее спеть и сыграть: девушка, будучи полностью во власти своих фантазий, относилась к этому без иронии. А Джин это было не дано – и она страдала, одновременно презирая сестру и мучительно завидуя ей.
Леттис все это подмечала – заметила она также нечто странное и удивительное: обе ее падчерицы искренне любили Дуглас, и в этой любви не было ни тени ревности, хотя младшенькая и была отцовской любимицей. А Дуглас в свои семнадцать блистала во всех отношениях – природа наделила ее всеми мыслимыми достоинствами. Она была удивительно красива, вся лучилась весельем, была очаровательна, грациозна, умна и воспитана. Она обладала прекрасным голосом, умела играть на трех музыкальных инструментах, скакала верхом не хуже любого мужчины и целыми днями носилась по парку галопом верхом на своей гнедой кобыле – подарке отца. Она врывалась в дом вся раскрасневшаяся и растрепанная, с глазами, сияющими как звезды – она смеялась, счастливая лишь оттого, что живет на свете. Лесли вскрикивала: «Ах ты, моя красавица!» – обнимала ее и предлагала лучшую конфету, а Джин мрачновато говорила: «О, дитя, в каком беспорядке твои волосы – дай-ка я их заколю». Каждая из сестер выражала свою любовь по-своему, а Дуглас принимала эту любовь с обычным своим милым кокетством. И не будь она от природы наделена любящим сердцем и добрым нравом, то стала бы невероятно избалованной. Но в ее сердечке хватало любви для всех и вся, вплоть до последней бродячей псины – и сердца людей раскрывались ей навстречу.
Леттис несколько опасалась, как бы Роб не оставил Дуглас незамужницей, подобно сестрам – хотя очевидно было, что он любит ее куда сильнее. Он наслаждался ее обществом, привозил ей подарки, а частенько они ездили на верховые прогулки вдвоем, даже без слуг – но ни разу он и словом не обмолвился о матримониальных планах в отношении Дуглас, ни разу не привез в Бирни возможного жениха... С тех пор, как Дуглас вошла в возраст, Леттис всякий раз, когда вот-вот должен был появиться Роб, давала себе слово заговорить с ним на эту тему, но вот как-то все не удавалось... Она бывала с ним наедине так редко и столь дорожила этими мгновениями счастья, что забывала обо всем, кроме того, что любимый ее наконец-то с ней.
Обычно тихий дом всякий раз гудел, словно потревоженный улей, когда приезжал хозяин. Он всегда за день до приезда предупреждал домочадцев через нарочного – и поднимался дым коромыслом: слуги драили полы, выбивали подушки и перины, стирали белье, расстилали свежие скатерти... Потом все мылись, надевали лучшие одежды – а в кухне тем временем творилось такое, что можно было подумать, будто сам король должен пожаловать к обеду. А затем, обычно за час или два до того времени, когда его ждали, Роб въезжал во двор, спешивался и входил в дом, принося с собой запахи дорожной пыли и ветра – и словно молния озаряла все. С ним врывались с оглушительным лаем собаки, женщины спешно сбегали по лестнице, чтобы приветствовать его, а Роб резко отдавал распоряжения, что заставляло слуг смущенно и восхищенно ухмыляться.
– Ну-ка, где мои кумушки? Отстань, Бран, лежать, Финч, – Фергюс, убери-ка собак! Ах, вот вы где – Дуглас, моя ласточка, – вот тебе гостинец: поскорее открой коробку и скажи, понравилось? Лесли, ты специально откармливала себя к моему приезду? Ах, я, блудный отец, – да, Джин, слово самое подходящее. Прикажи подать мне вина, дочка. О, леди Гамильтон, а как ваше здоровье? Каково вам в этом дамском мирке, насквозь пропахшем духами? Подойдите, сударыня – и дайте мне полюбоваться на вас.
Леттис трепетала от его прикосновений, подходила и подставляла щеку для ритуального лобзания, смотрела в глаза мужа – и терялась... Взаимная их страсть не угасала, хотя теперь, когда Леттис стала старше, Роб чуть медлил, прежде чем удалить слуг и отвести ее в спальню. А порой он привозил с собой друзей – и тогда они лишены были возможности даже прикоснуться друг к другу до самой ночи. Но одно оставалось неизменным: тяга их тел друг к другу, сладостное слияние, а потом, когда оба в полнейшем изнеможении покоились в объятиях друг друга – бесконечные беседы. Порой, томясь в одиночестве по нескольку месяцев, Леттис воскрешала в памяти их свидания – и ей начинало казаться, что этих-то бесед ей более всего и не хватает. Иногда ей с трудом удавалось представить его лицо во всех подробностях – но она вспоминала, как в темноте он обнимал ее, устав от ласк, а она, прижимаясь щекой к его мускулистому мощному плечу и чувствуя каждую клеточку своего утомленного от любовных утех тела, слушала его голос... Он говорил не умолкая, рассказывая ей обо всем, что произошло в его жизни со дня их последней встречи, посвящая ее в свои планы и тайные мысли, зная, что ее интересует все, что с ним связано, – до малейших, казалось бы, незначащих подробностей... Он советовался с ней как с мужчиной, как с другом – нет, как с самим собой: ведь в темноте они были единым существом...
И Леттис жадно ловила звуки его голоса, каждое его слово. Она любила его голос – этот глубокий, богатый тембр, его звучную красоту: для нее он был сродни неведомому музыкальному инструменту. Она любила, когда он говорил ровно и нежно, когда задыхался от страсти, когда смеялся, когда слова слетали с уст резко и отрывисто – она словно кожей чувствовала этот голос. А, оставшись одна, вспоминала его – и волосы шевелились у нее на голове и сладко ныло в груди... Леттис знала, что негоже католичке любить смертного столь сильно, что такая любовь возможна лишь к Богу – но когда она молилась, то не просила у Господа за это прощения – словно, прощенная, она не имела бы уже права так страстно любить. «Что ж, я за все это заплачу там, – думала она, поднимаясь с колен, – ведь в этом вся моя жизнь...»
...Когда он вновь приехал, летом 1585 года, Леттис сразу почувствовала, что его что-то тяготит, и он это от нее скрывает. Он казался спокойнее, и хотя при посторонних он вел себя как обычно, но время от времени уносился мыслями куда-то далеко... Это было на него непохоже. Он проводил больше времени с дочерьми, и Леттис отметила, что он необычно нежен с ними. В его шутках с Лесли ясно угадывалась ласка, с Джин он говорил необыкновенно уважительно, а Дуглас он посадил к себе на колени, как в детстве, и с восторгом любовался ей.
Леттис глядела на него и не могла наглядеться: он становился старше, черты его лица сделались резче, в волосах и бороде блестела седина, а во взгляде кроме привычной насмешливости появилось еще что-то – что? Грусть? Или просто усталость? Она пристально изучала его, с изумлением замечая глубокие морщинки у глаз и то, как опускаются уголки губ, когда он умолкает, и то, как слегка сутулятся его плечи... Она вдруг ясно осознала, чем станет ее жизнь, если он вдруг умрет – она содрогнулась и отогнала прочь ужасающую мысль. Так зимой захлопывают ставни и подвигаются ближе к огню... Роб заметил ее движение – и на губах появилась обычная его сардоническая ухмылка.








