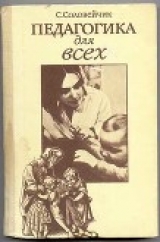
Текст книги "Педагогика для всех"
Автор книги: Симон Соловейчик
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
И любимые дети! Честные, хитрые, красивые, уродливые, здоровые, больные, капризные, угрюмые, наглые, ленивые, плаксивые, смелые, трусливые – всякие дети до тех пор дети, пока их любят.
А что значит любить? Любить – значит принимать человека таким, какой он есть.
Женщина жалуется на мужа (и всего-то полгода как поженились, немолодые люди, второй брак у каждого): с ним невозможно жить.
– А он вас тоже критикует? – спрашиваю я. Насколько мне известно, моя собеседница отнюдь не лишена недостатков.
– Нет, – говорит она простодушно, – он меня очень любит.
Ей кажется, что он ее любит потому, что она без недостатков... На самом деле он любит потому, что любит – принимает ее такой, какая она есть...
– Но как же? Как же? – снова слышу я. – Ведь надо же бороться с недостатками детей!
Заколдованный круг. Бороться, конечно, нужно, но победить их можно лишь любовью. Ведь перед нами не враг, а собственный ребенок.
12
Насколько ребенку труднее живется, чем взрослому! Его постоянно оценивают. Он получает отметки за каждый шаг не только в школе, но и дома. Что бы он ни сделал – хорошо, хороший мальчик. Или – плохо, плохой мальчик. Мы все время гадаем: хороший, плохой, способный, неспособный? Примерьте такую жизнь на себя – да выдержим ли мы? Потому мы все и тянемся к родным, любящим, близким людям: они не оценивают, они принимают нас такими, какие мы есть. Нельзя, чтобы жизнь ребенка превращалась в вечный экзамен, а мы, родители, были вечными экзаменаторами.
Ребенка надо принимать таким, какой он есть, обуздывая свою педагогическую страсть, свое постоянное желание переделывать его во что-то другое.
Волны воспитания – это любовные волны, они идут не по умственному каналу "понимаю – не понимаю", а по душевному каналу "принимаю – не принимаю". Понимают – умом, принимают – душой. Чувствуешь, что к тебе хорошо относятся, и любое замечание стерпишь. Не любят тебя – и слушать не хочу, всегда готов к отпору. Даже справедливое не доходит до разума, не может преодолеть фильтр защиты. Поэтому речи одного человека доходят до нас, другого – нет.
Перед ребенком, как перед каждым человеком, огромнейшее количество информации. Если бы он всю ее воспринимал, он захлебнулся бы в ней. Но в его душе воздвигается невидимая и прочная плотина, загораживающая путь рекам сообщений и требований. В каком месте откроется шлюз, какая информация будет впущена в сознание? Это полностью зависит от того, как относится ребенок к нам. Если мы, родители, источник напряжения, неудобств, неудовольствия, опасности, ребенок загораживается от нас и ни одно наше слово не доходит. Мы – как радиостанция, которую никто не ловит, хотя она тратит огромную энергию. Силой разрушить плотину против информации невозможно, она лишь укрепится, эта плотина. Я принимаю сына или дочь такими, какие они есть, и тем удовлетворяю их первую потребность – потребность в безопасности и признании, потребность в правде. Если я оттолкну сына от себя, если буду досаждать ему своими замечаниями и укоризнами, то дом станет небезопасным для него. Вон из дому, туда, где принимают без всяких условий! И я потеряю влияние на ребенка. Он уйдет душой из дома, и все недостатки его лишь усилятся, а я останусь при своей благородной фразе – "я его воспитывал, я его учил хорошему". При благородной фразе и неблагодарности ребенка останусь я.
Нет, я принимаю его, и он бежит в дом, а не из дому. Пока он дома, еще есть надежда. Я принимаю ребенка таким, какой он есть, и чем ужаснее его недостатки, тем больше нуждается он в том, чтобы его недостатки и любили. Ничто другое его не излечит. Принимая его, я снимаю озлобление, из-за которого и происходят пороки. Если же я не принимаю его, если его пороки и проступки вызывают одно лишь негодование, то ребенок никогда не услышит меня. И он пропал, и я вместе с ним пропал.
Предположим, что он очень плохой человек, мой сын. Но я принимаю его плохим, и он рано или поздно становится все лучше и лучше. Человек набирается ума лишь от тех людей, которые его принимают.
Если действовать категориями "понимаю", "не понимаю" – то где же место добру, любви? Мальчик – отличник, мальчик – общественник, мальчик – чистюля; это мне понятно, и всем понятно, и не надо обладать выдающимися душевными качествами, чтобы любить его – отличника и общественника. Но вот другой мальчик – двоечник, лентяй, грязнуля; не понимаю, отказываюсь понимать! Но тут-то и начинается добро, любовь, великодушие, тут и проявляется культура воспитания.
Добро начинается с этого порога – с принятия непонятного и неприятного в человеке. При-ять непри-ятное – вот добро. Вот в чем труд души, все остальное никакого труда не составляет.
Добрый ко мне тот, кто любит меня, кто меня принимает таким, какой я есть, кому я нравлюсь. Любишь женщину – и все готов ей простить. А не любишь – все раздражает, всегда она виновата, никак ей, бедной, не оправдаться.
13
Шестилетний умный мальчик грустно говорит маме:
– Я думал, вы с папой хорошие люди, а вы нет, вы недобрые, вы меня не любите. Я у вас всегда виноватый.
За вопросом "виноват?" или "не виноват?" скрывается вопрос "люблю" или "не люблю". Ребенок все время виноват перед нами? Значит, мы его не любим. Скоре всего мы боимся за него, но страх не любовь. Или мы стыдимся своего ребенка перед другими людьми, что тоже весьма не похоже на любовь. Виноват – значит, нелюбим. Любимые не виноваты! И значит, мы перед ребенком виноваты во сто раз больше, чем он перед нами: на нас лежит тяжелый грех нелюбви к собственным детям.
Врач говорит:
– У вашего ребенка будут частые насморки, у него носовые ходы неправильные.
Что же? Операция? Переделывать носовые ходы?
Нет, просто у ребенка будут частые насморки, только и всего.
И так во всем. Откажемся от мысли, будто у нас должен быть идеальный ребенок, без насморков и других недостатков; откажемся от мысли доводить ребенка до совершенства. Примем его таким, какой он есть, и он с каждым днем будет лучше и лучше, и постоянно будет идти внутри него незаметная работа улучшения. А если мы его не принимаем, он сопротивляется каждому нашему слову, каждому движению, и все наши усилия ни к чему не приводят.
Есть семьи, где дети навсегда признаны неудавшимися и навечно виноваты перед родителями. С ними и не разговаривают. Какие могут быть разговоры? Он мне в душу плюнул, он меня покоя лишил, а я с ним разговаривать должен? Начинается эта война с невинного на первый взгляд наказания: "Я с тобой не разговариваю, – объявляет мама дочке. – Я на тебя обиделась, я тебя не люблю". Отказ в любви – так называют психологи этот чисто женский способ влияния на детей. В детстве, лет до шести, до семи, такое наказание действует, ничего страшнее для ребенка нет, особенно для девочки: мама меня не любит, мама со мной не разговаривает! Но придет час, и дочка объявит маме: "Я с тобой не разговариваю, я тебя не люблю".
Обычно мы отказываем в любви ребенку тогда, когда он больше всего нуждается в нас, когда у него неприятности: устал, неудачи в школе, запутался в делах, нечаянно совершил серьезный проступок и его мучит совесть. Он хуже ведет себя, дерзит, огрызается – тут-то мы и отворачиваемся от него. Мы, видите ли, разочаровались, мы не ожидали, что у нас вырастет дурной сын, мы собирались стать родителями-медалистами. А вместо этого – конфуз.
Веселого и благополучного ребенка все любят, от неудачливого отворачиваются, хотя именно ему нужна наша любовь. И мы оставляем ребенка одного перед лицом жизни, перед лицом всех его неприятностей. Самые злобные чувства рождаются в душе ребенка, самые мстительные картины появляются в его сознании.
14
В идеале мать и отец относятся к ребенку по-разному.
Материнское отношение: "Я принимаю тебя (люблю) за то, что ты есть".
Отцовское отношение: "Я принимаю тебя (люблю) за то, каков ты".
При таком сочетании ребенок чувствует, что он нужен, что он любим, что он хорош, – и в то же время знает: от него ждут, что он станет лучше.
Трудно приходится матери без мужа. Хорошо, если она продолжает играть свою естественную материнскую роль: "Принимаю такого, какой есть". Но, чувствуя особую ответственность за воспитание, она обычно берет на себя непосильную роль отца. Отец умеет критиковать, не затрагивая отношений с ребенком; у матери каждое слово касается личности, отношений, любви. Отцовская критика – просто критика, материнская – отказ в любви (так кажется ребенку). Если отец отвернулся от меня – проживу, если мать отвернулась – пропал. Мать имеет отношение к самому существованию моему, мать – это почти я. К тому же, оставшись одна, женщина из страха оказаться несостоятельной начинает так настойчиво воспитывать, что ребенок чувствует себя отверженным, нелюбимым. Потеряв почему-либо отца, он теряет следом и мать.
Мать с ребенком без мужа – ситуация не вполне естественная, и, как всегда бывает в таких ситуациях, для нее нет идеального решения. Одна мать и не может дать ребенку то, что дают и отец, и мать вместе, но она хорошо воспитает детей, если будет оставаться матерью.
Принимать – это что же? Во всем уступать ребенку? Подлаживаться к нему? Нет, тогда бы я был не я, потому что я не терплю к кому-нибудь подлаживаться. Я не уступаю, не подлаживаюсь, я просто принимаю своего ребенка, ну как это еще объяснить? Я его люблю!
Замечательно, что легче всего принимают, больше любят и потому лучше воспитывают детей больных, отсталых и даже уродливых. В этом случае у родителей нет честолюбивых мыслей о совершенном ребенке, и начинается настоящее воспитание. Видали ли вы когда-нибудь женщину, у которой неизлечимо болен ребенок? На этих женщинах свет лежит, они всегда прекрасны! Их возвысила любовь и необходимость принимать ребенка таким, какой он есть. Я знаю женщину, которая до того затуркала своего сына-восьмиклассника, добиваясь от него успехов в школе, что он стал невротиком и попал в клинику. Тут мама испугалась, примирилась с мыслью, что ее ребенок не такой, как все, что он больной и не обязательно ему учиться так уж хорошо. Она оставила сына в покое, была ласкова с ним, принимая его таким, какой он есть. Они вместе переживали семейную беду, объединились... И что же? Сын быстро поправился, закончил школу, пошел работать на завод, а спустя два года поступил в вечерний институт и учится теперь так, что мама уговаривает его поменьше заниматься.
Мы с ребенком в одной комнате, но мы видим комнату и все вещи в ней разными глазами, с разных точек зрения. Я сверху, почти с потолка, а он снизу, почти с пола. Так, в переносном смысле, будет всю жизнь. Но мы не можем представить себе мир его глазами, и мы не можем даже вспомнить этот мир, населенный, как сказал один писатель, бесформенной массой великанов, которые иногда наклоняются над кроваткой, заслоняя свет, и громко гудят – то есть разговаривают. И наклоняться нужно, и гудеть, разговаривать тем более; но удержать бы в памяти эту разницу в мироощущении! Сколько бы времени мы ни проводили вместе, все равно ребенок ложится спать, и у него свои мечтания; мы в них не участвуем, мы в них не были, мы их не разделяем. У него свои сны, свои страхи, свои привязанности и оценки. Мы стараемся понять ребенка; одним это удается лучше, другим хуже; но даже самые понятливые из нас, самые старательные в своих усилиях касаются лишь близкой границы мира ребенка. Чужая душа – потемки. Это справедливо и в том случае, когда перед нами не чужая, а родная душа сына или дочери. Все равно другая, все равно потемки! Не станем винить себя за непонимание этих потемок, не будем сердиться на потемки за то, что они не освещены для нас ярким светом. Единственное, что нам остается, – понимать, что мир так устроен. Понимать – и потому принимать существование всех эти чужих тайн и скрытностей, существование другого мира, другой души.
15
–Прошу считать меня человеком и быть великодушными со мной...
Все люди знают, что к детям нужно относиться по-доброму, с добром. И все знают, что есть дети, которые добра не понимают, над добрым словом смеются. Что ж, и мы порой путаемся, где добро, а где зло.
Тогда подальше от зла, в ту область, где нет и не может быть ошибок, – в область великодушия!
Нет на свете ни людей, ни детей, которые не понимали бы и не принимали великодушия. Учитель-словесник В. Я. Буяльский пишет в книге "Путь к мастерству": "Главнейшей особенностью педагога следует признать великодушие". И это для учителя, у которого сорок ребят в классе, сорок чужих ребят! Что же сказать о родителях?
Первого нашего заводского наставника, Героя Социалистического Труда Степана Степановича Витченко упрекали:
– Он великодушием хочет совесть в подростках пробудить. А им плевать на его великодушие, им подавай гитару и поллитровку на троих.
Но Витченко верил, что именно великодушие пробуждает совесть, и знал, что придет время, когда его подростки будут стыдиться своей праздности, презирать лень и нерадивость, – так он пишет в своей книге "Встреча с юностью".
Чтобы ребенок вырос человеком, должен же хоть кто-то потратить на него душевные силы, отнестись к нему великодушно. Витченко стеной вставал, не давал уволить прогульщиков, бегал по милициям и прокуратурам, утешал в любовных страданиях, мирил с родителями. А как же иначе? Ну и останемся мы при высоких теориях воспитания, при нашей благородной принципиальности, но с пропадающим ребенком. Витченко, армейская косточка, человек, четверть века проживший в солдатской дисциплине, полковник в отставке, возвел в принцип: во что бы то ни стало обойтись без "ежовых рукавиц". Он возвеличил слово "заступничество", это слово великодушных людей... "Мы вправе спросить с подростка не более, чем спрашиваем с самих себя", – пишет он. И так Степан Степанович Витченко заступничеством своим и великодушием вывел в люди сто пятьдесят труднейших, совсем было пропавших ребят. Вот эффективное воспитание!
В детском доме Януша Корчака при разборе проступков выносили одно из двух определений: или признать невиновным, или простить.
Причем те, кого прощали, еще и сердились: все-таки их признали виноватыми.
Когда ребенок набедокурил, провинился, у нас есть две возможности: показать, что мы его меньше любим, что мы сердимся, негодуем; и показать, что мы по-прежнему или даже больше любим его, жалеем и разделяем с ним его неприятности. Тогда источником неприятностей и мучений совести будем не мы, родители, а сам проступок. Плохо то, что я плохо поступил, а не то, что родители узнали об этом и наказали меня. Родители всегда со мной в моих бедах.
Маму с дочкой-семиклассницей вызвали к директору школы. Девочка плохо учится, дерзко ведет себя, вступает в споры с учительницей. "Да, да, я вас понимаю!" – Мама кивает головой. Мама вздыхает, мама чуть не плачет, и девочка плачет. Но, выйдя из кабинета, мама смотрит на девочку, ей жалко дочь, и она... Она ведет ее в кондитерскую и покупает пирожное. Как назло, сюда же приходит и директор, видит эту антипедагогическую сцену.
Слышу: "Пирожные ей покупаете? А за что? Чем она заслужила? Тем, что мать опозорила? Что это за воспитание такое?"
Но мы относимся к детям не так, как к взрослым, по заслугам их, а как к детям, то есть великодушно. Дети потому и в радость нам, что только к ним мы можем относиться великодушно без особой опасности. Перебираю в уме все возможные детские прегрешения: какое из них нельзя простить? Не простишь, когда маленькие дети выбегают играть на проезжую часть дороги, когда спички берут... Вот, пожалуй, и все! Остальное можно принять, понять, простить. Умные мамы так и говорят самым маленьким детям: "Все можно. Все! Нельзя только "раз, два, три": подходить к плите, трогать штепсель, выглядывать в открытое окно. Все остальное можно!" Полное, бескорыстное, безусловное прощение трогает самое зачерствелое сердце и действует куда сильнее, чем наказание. Оно часто бывает и шоком: чем глубже вина ребенка, тем большее впечатление производит на него наше помилование.
Высший идеал человечества, всепрощение, не может быть воплощен в жизнь взрослых, до этого еще очень далеко. Но этот идеал должен быть воплощен в наших отношениях с детьми. Вырастут – научатся и наказывать, и мстить; но детство должно быть идеальным. Только в идеале истинная сила духа и источник мужества.
В одном доме пятилетний мальчик рос в окружении многих взрослых – мама, папа, тети, дяди. Каждый наказывал его, говорил: "Иди в угол". Он хмурился, но шел безропотно и лишь спустя какое-то время гордо кричал из угла: "Эй вы, прощайте меня кто-нибудь!"
Я знаю дом, где ребенок, пока дорос до пяти лет, до сознательного, можно сказать, возраста, разбил семьдесят две чашки. Их считали, потому что приходилось покупать все новые и новые.
И его ни разу не наказали и ни разу не накричали на него...
Если у вас запущенный мальчик, его не возьмешь злом, то есть наказаниями; его не возьмешь и добром; к нему не пробьешься обыкновенным душевным отношением. Ему нужно великодушие, только великодушное отношение в конце концов спасет его.
16
В основе нижеследующей истории – действительно случившееся событие, описанное "Учительской газетой".
В одном городе женщина-судья возвращалась с дочкой-старшеклассницей из кино. На них напали подростки, двенадцать человек. Хулиганы пытались отбить девушку от матери, угрожали, издевались, оскорбляли, и дочь в отчаянии кричала: "Мама, ну скажи им, кто ты!" Но судья ничего не сказала. На счастье, подошел автобус, и мама с девушкой были спасены.
На следующий день судья нашла эту компанию. В ее распоряжении были такие средства. Началось педагогическое следствие. И что же оказалось?
У шести хулиганов не было отцов.
У других шести отцы были, но все шесть были крайне строги с сыновьями, не допускали ни малейшего своеволия и, когда те приходили домой, обрушивались на них с руганью, обзывали их – "воспитывали".
Притча о двенадцати отцах.
17
– Прошу считать меня человеком и помнить, что я – другой!
Обычно родителям говорят:
– Вспомните, какими вы сами были в детстве.
Мама десятилетнего мальчика сказала мне:
– Воспитывать очень легко, надо лишь помнить, какой ты была сама, когда была маленькой.
Справедливо.
Но еще полезнее помнить, что перед нами совершенно другой человек. Не я. Не такой, каким я был в моем детстве. Иной. Другой.
Когда ребеночка приносят из родильного дома в родительский, мы остро чувствуем, что перед нами таинственное, непонятное существо – другой. Быть может, никогда в жизни только что родившийся человек не будет вызывать к себе такого уважения, как сейчас. Но проходит время, мы привыкаем к ребенку, узнаем его и... чудо исчезло, другой перестал быть другим. Что чашка – другое, это я чувствую. Что плошка – другое, это я чувствую; и кошка с собакой – другое. Но что человек – другое, не я, об этом я постоянно забываю. Я не смотрю на человека с таким же удивлением и вниманием, с каким смотрю на другое, на неизвестное.
Нам будет легче принимать нашего ребенка, если мы научимся видеть в нем другого человека. Будем обучать себя, тренировать, привыкать смотреть на другого – как на исключительно другого человека. Утверждают, что до конца это доступно только гениям. Так писал Михаил Бахтин о Достоевском. Гениальной глубины понимания другого человека как другого трудно достичь, но будем хотя бы стремиться к этому.
Человеку говорят: "Пойми, другие люди такие же, как ты". Но он видит, что другие во многом отличны от него, а все, на него не похожее, сбивает его с толку, возмущает. Но люди не такие, как вы, как я; каждый из людей другой. Попытаемся это понять, и нам легче будет выносить всех, кто не похож на нас, и мы спокойнее будем относиться к странным на первый взгляд особенностям в характере нашего ребенка.
Другой, иной, новый человек растет у меня в доме. Я ему не хозяин, и он не моя собственность, ни один человек не собственность другого.
Спорят, есть ли другой разум в космосе, кроме человеческого.
Есть. Это разум ребенка.
Нам кажется, будто каждый из нас, взрослых, хомо сапиенс – человек разумный, а он, ребенок, пока что дитя неразумное, и надо быстрее приладить его к нашему миру, вразумить. Но ребенок не есть неразумное существо, у него другой разум, по-другому устроенный. С точки зрения ребенка, многое из того, что мы делаем, глупо и нелепо. Но если нам трудно это понять, то признаем хотя бы, что ребенок имеет право на глупость (с нашей точки зрения), он имеет право говорить глупости и совершать глупые поступки. Отнесемся к ним с уважением, это какая-то новая, еще неизвестная нам глупость, она своя у каждого поколения. Мудрость не меняется веками, а глупость молодых всегда новая, из этой новой глупости молодых постепенно вырастает обычная старая мудрость, лишь чуть-чуть не похожая на мудрость прежних поколений. И так мир делает маленький шаг вперед... Глупость взрослых – просто глупость, она безнадежна; глупость детей – кто знает, что из нее вырастет? Она вызывает надежды.
И чем ребенок виноват, что у него совсем другое детство, не похожее на наше?
Другой человек, другой ум, другая глупость, другое детство... Если мы не понимаем, не чувствуем этого, мы стараемся другое сделать похожим на свое, другого на себя, а это невозможно, никому не удавалось. Другой всегда останется другим, и мы лишь испытаем горькое чувство бессилия и разочарования. Только в том случае, если я научусь смотреть на ребенка как на другого человека, я научусь уважать его, я смогу говорить с ним открыто, непредвзято, без поучительства, не сгибаясь перед ним, не наклоняясь к нему. У меня нет превосходства перед ним, мы не можем ни в чем сравняться, мы разные: он другой, и я другой.
Попробуем хоть несколько дней, хоть несколько минут посмотреть на детей таким взглядом, постараемся увидеть в другом человеке именно другого человека, и мы увидим, как открывается душа навстречу другому, как спокойно с другим человеком, как радует нас постоянное удивление людям, как легко поддерживать интерес к ним – если приближаешься к ощущению гения, до конца чувствуешь другого как исключительно другого человека.
18
– Прошу считать меня человеком и не пользоваться мною в своих целях.
Бескорыстие. Воспитание ребенка – это подвиг бескорыстия, только у бескорыстных людей вырастают хорошие дети.
Нет, мы не жадные, не гребем под себя, нам ничего не нужно... Но дети растут плохие, потому что мы не замечаем, как в каждом нашем поступке проглядывает родительская корысть.
Мелкое, незаметное, педагогическое корыстолюбие – вот что губит наших детей.
Сын плохо ведет себя в троллейбусе, шалит, вертится, громко разговаривает. Я дергаю его, угрожаю ему, я готов шлепнуть его – но не потому, что он ведет себя плохо, а потому, что люди смотрят. Я вовсе не о том волнуюсь, что мальчик мешает другим. Но люди могут плохо подумать обо мне, осудят, скажут – избаловал ребенка, не умеет воспитывать. Я не о мальчике беспокоюсь – о себе. Я хочу, чтобы обо мне хорошо думали, вот в чем моя корысть! И мальчик, не понимая этого, – понимает. Он нарочно ведет себя еще хуже.
Сын вырос, я хочу, чтобы он поступил в институт, заставляю его готовиться, умираю, если он получил на экзамене слабую отметку... Мне кажется, будто я забочусь о сыне, о его будущем. На самом деле мне стыдно перед знакомыми, перед соседями и сослуживцами. Я уже представлял себе, как я встречу Николая Петровича, он спросит: "Как сын?" – "Ничего, – скажу я скромно, – школу кончил, в институт поступил..." – и Николай Петрович посмотрит на меня с уважением.
А теперь что будет?
И не ради будущего, не ради сына, а ради малознакомого Николая Петровича я ссорюсь с сыном и при этом произношу высокие слова, невысокую цену которых он понимает.
Биография ребенка – продолжение или даже часть нашей собственной биографии. Больше того, жизнь детей – признанный результат нашей жизни. Если у меня благополучные, хорошо устроенные дети, значит, и со мной все в порядке. Дети – как аттестат; хорошо ли мы учились или плохо, но аттестат каждому хочется получше. Вот мы и дергаем детей, наваливаемся на них: "Давай! Не подведи!"
Но у выросшего сына своя жизнь, он сам по себе человек, а не приложение к моей жизни, не дополнение, не аттестат, не свидетельство. Он чувствует, что мы заботимся не о нем, а о себе, мы выпрашиваем аттестат получше. Мы хотим быть медалистами, а ребенок для нас – лишь медаль.
Лето; сын перешел в девятый класс, мама с папой собираются на курорт, а сына куда? Отправим-ка его в пионерский лагерь, и путевка, кстати, есть. Но сын отказывается ехать, он пионерский лагерь перерос, у него свои планы на лето. Нет! "Ты лежебока! Ты ничего в жизни не хочешь! Тебе ничего не нужно! У тебя и друзей-то нет! Тебя ничего не интересует!" – и так далее, сутками напролет. Все правильно; но на самом деле мама с папой хотят поехать на курорт и пожить там спокойно, не беспокоясь о сыне. Он чувствует эту мелкую и вполне, быть может, оправданную корысть. Но слова-то к чему?
Мальчик плохо учится, никто его за уроками и не видел. Но вот отца вызывают в школу, и он, вернувшись домой, разражается бранью, он кричит: "Что из тебя вырастет!" – он чуть ли не за ремень хватается. Он оскорблен в своих лучших чувствах и крайне обеспокоен судьбой сына.
А на самом деле он раздражен тем, что его побеспокоили, что ему пришлось пережить несколько неприятных минут в учительской. Покой – вот в чем его корысть. И он обрушивается на сына как будто бы за то, что тот плохо учится. На самом деле – за то, что он стал причиной беспокойства.
Денег многим из нас на детей не жалко, мы для детей на все готовы. Но поступиться покоем готовы не все. На покой мы жадны.
Я такой же, как все, я тоже охраняю свой покой, я тоже уверяю себя, что мне необходим покой для работы, но постепенно я начинаю замечать, что все мои претензии к детям сводятся к одному:
– Не мешайте! Не беспокойте меня! Не раздражайте меня! Оставьте меня в покое! Почему я из-за вас должен терпеть неприятности!
И мне кажется, будто я прав.
А на самом деле я просто хочу вырастить детей, ничем не поступаясь, – а это невозможно.
Я начинаю это понимать, и в каждом конфликте с детьми я, подобно детективу или судье, спрашиваю себя: "А кому это выгодно?"
И со вздохом обнаруживаю, что в девяноста случаях из ста я ищу выгоды себе, а не детям, что все мои фразы типа: "А что из него вырастет?", "Я забочусь о его будущем", "Но надо же детей воспитывать", – все эти благородные фразы – лишь дымовая завеса для собственной корысти.
19
– Прошу считать меня человеком и не бояться за меня, как за маленького...
Риск – вот труднейшее из педагогических воспитаний. Боюсь, ни в одном учебнике педагогики о риске не говорится.
Риск! Жизнь есть риск, и воспитание – тоже риск. Не рискуя не проживешь, не рискуя не воспитаешь человека. Воспитание – работа без гарантированного результата, и чем больше будем мы требовать гарантий успеха, тем хуже будет результат.
Мы начинаем закаливать ребенка, но при этом мы можем простудить его, как бы осторожны мы ни были. Так что же – не закаливать?
Мы выпускаем ребенка на улицу, но... И вымолвить страшно, что может случиться. Так что же – не выпускать? Всю жизнь за руку водить?
В педагогике есть понятие: нормальный риск жизнью ребенка. Мы должны выпускать его на улицу, он должен лазать по деревьям, все это риск и риск, и нам остается лишь одно – стоять внизу и смотреть, замирая от страха, потому что если крикнуть мальчику: "Слезай немедленно! Слезай, а то уши надеру!" – вот тут-то он и упадет.
Что делать? Бояться. Больше ничего.
В пионерском лагере "Маяк" (он был под Москвой, между Голицыном и Звенигородом) проводили день географии. Ребята играли в путешественников. Они плавали на плоту, они попадали в плен к дикарям, и они должны были перебираться по бревну с веревочными перильцами через овраг метров двадцать шириной и метров десять глубиной – довольно страшный овраг. Чтобы не принуждать тех детей, которые боятся высоты, и в то же время дать им возможность скрыть свой страх (зачем зря стыдить ребенка), установили правило, по которому из каждого отряда переправляется только треть.
То есть тем, кто боится, дали возможность отступить.
Но как же боялись взрослые, отвечающие за жизнь детей!
Врач "Маяка" сидел на дне оврага, под мостиком, с огромной сумкой.
Что делать? Надо, чтобы ребята переходили овраги и по опасным мостикам, иначе не вырастишь мальчика храбрым человеком.
Жан Жак Руссо, автор самой знаменитой из книг о воспитании, пишет, что он готов наняться в воспитатели мальчика при одном условии: он не отвечает за жизнь Эмиля, своего воспитанника. Если ты отвечаешь за жизнь, если тебе приходится ограждать ребенка от риска, мужчину не вырастишь.
Нормальный риск жизнью...
При слове "риск" обычно ставят и прилагательное "разумный", "нормальный"; но кто скажет, где они, эти разумные, нормальные пределы?
Старшему сыну было шесть лет, когда мы отправили его на каникулы в Ленинград. Взяли билет в "сидячий" поезд, во все карманы положили записки с московским и ленинградским адресами, сто раз договорились с ленинградскими друзьями, которые должны были встретить мальчика... А все равно страшно! Да и мальчик боялся. В последнюю минуту я снял с руки часы и отдал ему: смотри, когда эта стрелка дойдет до этой цифры, ты приедешь...
И отправили одного. А что делать?
А еще прежде, в пять лет, случилась такая история: мы снимали зимой дачу, и под полом ощенилась хозяйская собака. Хозяев не было. Маленький лаз под пол, только ребенку пролезть, а собака воет. Пустили маленького мальчика в темноту подполья, было страшно. Но полез, но вынес щенят!
И ведь не только жизнью ребенка приходится рисковать, но и судьбой.
В знакомой мне семье выросла девочка, ей шестнадцать лет, и она влюбилась, а парень кажется родителям негодным, опасным. С милицией знаком. Что делать? Скандалить – "не тот?" Кричать: "Рано тебе влюбляться!"? Запирать на замок? И так нельзя, и так нельзя, и каждый поступок – риск.
В нашей семье было: умерла от чумки овчарка Уран, и сын-десятиклассник перестал ходить в школу. Десятый класс – а он дома сидит. Неделю, вторую, третью, и ничего не поделаешь! Надо, чтобы он набрался сил переступить через себя и пойти в школу... Почти месяц дома сидел, и никто ему слова не сказал, никто не упрекнул, все понимали: не может человек. Хотя, признаться, это очень тяжело – видеть здорового парня на диване, да сутками. Но настал день, поднялся он, пошел в школу. Даром, конечно, прогул этот не прошел, школу окончил не блестяще, на вступительных экзаменах в вуз провалился – но зато потом, после флотской службы, стал учиться, и с увлечением.








