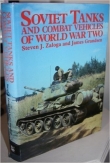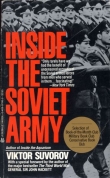Текст книги "Повседневный сталинизм"
Автор книги: Шейла Фитцпатрик
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
Случай двойного самоубийства, открыто и несомненно носящего характер обращения к власти, отмечен в дневнике коммуниста, которого послали его расследовать. Два брата-активиста, рабочие, поселившиеся в деревне и работавшие председателями сельсовета и колхоза, зимой 1930 г. оказались в состоянии конфликта с районным руководством, потому что братья предпочитали проводить коллективизацию добровольным путем, а районное начальство стремилось форсировать темпы. «Я пошел в избу к предсельсовета Петру Аникееву,– пишет мемуарист. – Холодное тело ждет погребения. Пошел к Андрею Аникееву. Он жив, но последние часы. Сказал, что районщики действуют против партии. Они с братом решили протестовать и из револьвера застрелиться, чтобы обратить внимание центра на произвол». Пафос этого обращения к власти тем сильнее, что скорее всего неправильно понимали линию партии идеалисты Аникеевы, а не районное начальство (о чем мемуарист благоразумно умолчал) [32]
[Закрыть].
Послание другого рода – в оправдание недостаточной стойкости – оставила женщина-курсант военной академии, покончившая с собой в начале 1930-х гг. Хотя записка самоубийцы была формально адресована мужу, ее тон и содержание показывают, что настоящим адресатом являлась партия ( «я умираю за недостатком сил вести дальнейшую борьбу за исправление генеральной линии партии»), – и руководство Военно-воздушной академии, где училась женщина, постаралось расследовать этот случай до мельчайших деталей. Полина Ситникова родилась в 1900 г. в Риге, в семье служащих, вступила в партию и в ряды Красной Армии во время гражданской войны, когда ей было восемнадцать лет. Ее первый муж погиб на фронте; второй, летчик, разбился в авиакатастрофе, в которой серьезно пострадала и сама Полина. Она жила на первый взгляд счастливой семейной жизнью с третьим мужем, по всем отзывам, чрезвычайно преданным ей, и маленькой дочкой, в комфортабельной квартире, с домработницей, имевшей дочку такого же возраста и присматривавшей за обеими девочками. Все проблемы Полины были связаны с Военно-воздушной академией, куда ее в начале 1930-х гг. направили на учебу. Учеба казалась ей трудной, она постоянно жаловалась на плохое самочувствие (у нее был туберкулез легких) и усталость. Ей казалось, что другие курсанты (мужчины) насмехаются над ней и ни во что не ставят ее революционное прошлое. Она начинала плакать всякий раз, когда в академии критиковали ее работу или когда курсанты поддразнивали ее (например, иронически спрашивая: «Как, товарищ Ситникова, себя чувствуешь?»). Расследование не обнаружило никаких намеков на политическое содержание конфликтов, которые возникали у нее в академии, так что смысл слов о «генеральной линии партии» остается неясным: возможно, это лишь попытка облагородить свою смерть и ослабить впечатление личной несостоятельности [33]
[Закрыть]. Особая статья – политические самоубийства. В большевистско-революционной традиции самоубийство являлось почтенным способом морального протеста или выхода из невыносимой ситуации; оно носило героический характер. Самоубийство троцкиста Адольфа Иоффе в декабре 1927 г. было совершено в знак протеста. По-видимому, то же отчасти можно сказать о самоубийстве жены Сталина Надежды Аллилуевой в конце 1932 г. Однако к середине 1930-х гг. партийное руководство стало пытаться пресечь эту традицию, либо не предавая политические самоубийства широкой огласке, либо представляя их как поступки малодушные и достойные презрения. Порой самоубийство по-прежнему служило средством спасти запятнанную репутацию. Но его все чаще стали трактовать как признание вины: о бывшем председателе Совнаркома Украины Панасе Любченко, покончившем с собой в сентябре 1937 г., говорили, что он совершил это, «запутавшись в своих антисоветских связях и, очевидно, боясь ответственности перед украинским народом за предательство интересов Украины». Подобная же формулировка была использована за несколько месяцев до того в случае самоубийства военачальника Красной Армии Яна Гамарника [34]
[Закрыть].
Твердую линию в отношении интерпретации самоубийств настойчиво проводил Сталин, заявивший на декабрьском пленуме ЦК 1936 г., когда речь зашла о смерти московского партийного работника по фамилии Фуpep, чье самоубийство нельзя было обойти молчанием, что он сам себя обвинил; его поступок был знаком протеста против ареста друга и коллеги, который он считал несправедливым. Кто-то может расценить это как благородный жест, сказал Сталин, «но человек прибегает к самоубийству, когда боится, что все раскроется, и не желает засвидетельствовать собственный позор перед обществом... И вот у вас есть последнее сильное и самое легкое средство, уйдя из жизни раньше срока, в последний раз плюнуть в лицо партии, предать партию» [35]
[Закрыть].
ПИСЬМА ВЛАСТЯМ
Советские граждане были большие мастера по части писания жалоб, ходатайств, доносов и разных других писем властям. Они писали (как правило, индивидуальные, а не коллективные письма), а власти нередко отвечали [36]
[Закрыть]. Этот канал связи между гражданами и государством функционировал лучше всех, предоставляя простым людям, не имеющим служебных связей, одну из немногих доступных им возможностей защитить свои интересы и возместить ущерб от тех или иных неверных или провокационных действий должностных лиц. Широко распространенная практика писем в руководящие органы – впрочем, весьма не новая и напоминавшая старинный обычай посылать ходоков с просьбами и ходатайствами – до некоторой степени заполняла брешь, образовавшуюся в результате ограничения свободы собраний и коллективных акций, а также слабости правовой системы в СССР. Игнорируя подозрительно патерналистские черты подобной практики, советские официальные лица смело заявляли, что она демонстрирует силу советской демократии и существование уникальной прямой связи между гражданами и государством.
Письма властям – это способ участия советских граждан в «борьбе с бюрократизмом» и «борьбе за революционную законность», писал один советский журналист в середине 1930-х гг. В буржуазных демократиях нет равнозначной формы прямого гражданского действия, заявлял он. «Рабочие и колхозники, чувствуя себя хозяевами страны, не могут пройти мимо нарушений общих интересов своего государства»: они пишут Сталину, Молотову, Калинину и другим руководителям страны о «расхищении социалистической собственности», «нарушениях правительственных постановлений», «классово чуждых» в государственном аппарате и всевозможных несправедливостях. Конечно, эти несправедливости обычно осуждаются ими не абстрактно, а исходя из личного опыта:
«Кого-то неправильно выселили из квартиры, кому-то отказали в квартире, на которую он имеет бесспорное право, кого-то уволили из учреждения, приписав ему грехи, в которых он не повинен. Кто-то проявляет усердие не по разуму, проявляет „бдительность“ и выбрасывает неповинного человека за борт советской жизни. Другой расплачивается репрессиями за смелое слово самокритики» [37]
[Закрыть].
Руководители партии и правительства тратили на письма массу времени. Калинин, один из наиболее частых адресатов писем граждан, говорят, за 1923-1935 гг. получил более полутора миллионов письменных и устных ходатайств. М. Хатаевич, секретарь Днепропетровского обкома партии, описывает работу с корреспонденцией такого рода как важнейшую сторону деятельности партийного секретаря: «Я получаю в день, кроме деловой переписки, 250 писем, так сказать, личного порядка, писем от рабочих, колхозников. 30 из этих писем я в состоянии прочитать и прочитываю, на большинство из них отвечаю лично». Возможно, в заявлении Хатаевича имеются некоторые преувеличения, но в целом объем почты, поступающей от граждан, показан верно. А. А. Жданов, секретарь Ленинградского обкома партии, согласно тщательным подсчетам его канцелярии, в 1936 г. получал в среднем 130 писем в день, еще 45 писем в день приходило в Ленсовет. Ленинградской городской прокуратуре, куда ленинградцы писали чаще всего, приходилось разбирать до 600 писем в день [38]
[Закрыть].
Многие советские граждане, очевидно, разделяли уверенность властей в том, что писание писем наверх – демократическая практика, сближающая граждан со своим правительством. Точно так же молодой российский историк (постсоветского периода) интерпретирует письма конца 1930-х гг. с жалобами на нехватку продовольствия. «Хотя они критикуют и даже порой ругают существовавшие порядки, тем не менее они обращаются к власти как к „своей народной“, которая бездействует либо от незнания, либо от недооценки сложившейся ситуации...– пишет она. – Авторы убеждены, что правительство не только может, но и должно помочь людям. Признание власти «своей», законной предопределило форму обращений к лидерам, а также систему аргументации – ссылки на авторитеты, освященные этой властью (Маркс, Ленин, Сталин, «Краткий курс истории ВКП(б)» и пр.)». Конечно, ясно, что гражданам и не имело смысла отрицать законность власти в жалобах и просьбах, к этой власти обращенных, однако вышеприведенное положение все же совершенно справедливо в отношении многих писем. Можно также утверждать, что лидеры вроде Хатаевича сами ощущали себя более «законными», получая письма и отвечая на них, разыгрывая роль «отцов-благодетелей», восстанавливающих справедливость, которой требовали многие авторы писем [39]
[Закрыть].
Власти всячески приветствовали письма отдельных граждан, но к письмам коллективным относились с гораздо меньшим энтузиазмом. «Пишете вы, скажем, заявление, излагаете там какую-либо просьбу, и подписывают его несколько человек,– говорил один бывший советский гражданин в послевоенном интервью. – Это уже групповщина. Тут же одного за другим вызывают в местную парторганизацию, в профсоюз и делают выговор. Но всю группу не вызовут, с каждым будут работать индивидуально, по отдельности» [40]
[Закрыть]. Люди все же иногда писали коллективные письма, невзирая на существующую опасность. В ленинградском архиве Жданова за 1935 г. соотношение коллективных и индивидуальных писем примерно 1:15, причем коллективные письма посвящены таким вопросам, как закрытие буфетов, задержки с выплатой зарплаты, потребность в чистой воде, уличная преступность и восстановление уволенного сослуживца [41]
[Закрыть].
Некоторые письма, в том числе и с подписями, были написаны с целью выразить государству свое мнение или дать совет по общественно-политическим вопросам. Вот несколько примеров, взятых наугад: один рабочий написал Молотову (незадолго до того назначенному наркомом иностранных дел), чтобы дать ему совет из области дипломатии ( «не верьте англичанам, французам и немцам. Все они хотят навредить СССР»); советский служащий из Пскова писал Кирову, предлагая принять меры против недоедания среди школьников; один ленинградец в письме другому секретарю Ленинградского горкома сокрушался по поводу поражения двух ленинградских футбольных команд и просил сделать что-нибудь [42]
[Закрыть].
Судя по ленинградским архивам, авторами писем с «мнением» часто были рабочие, которые, как свидетельствуют письма, до некоторой степени отождествляли себя с советской властью и в то же время (даже в середине 1930-х гг.) всегда готовы были сделать ей выговор. Один рабочий писал в 1932 г. Кирову, жалуясь на перебои с продовольствием: «Известно ли тебе, товарищ Киров, что среди огромнейшей части рабочих, и не плохих рабочих, существует большое недовольство и неверие в те решения, которые принимает партия?»Такие рабочие часто критически высказывались о нарождении привилегированного класса бюрократии. Начальники превратились в «касту», писал один из них в 1937 г.; партия «зазналась». Среди рабочих «только и слышу – ругаю[т] соввласть!»Автор другого письма весьма порицал тот факт, что партия потеряла связь с массами, партийное руководство отдалилось от рядовых партийцев, заводская администрация – от рабочих; неудивительно, что обнаружено столько вредительства – а будет еще больше! Руководство рискует повторить судьбу героя греческого мифа Антея, который погиб, когда потерял связь с землей [43]
[Закрыть].
Письма служили задачам контроля двоякого рода: во-первых, отчасти населению для контроля над бюрократией, во-вторых, режиму для сбора информации о гражданах. Но власти использовали в качестве источника информации и частную переписку граждан, и тут контроль был односторонним. Перлюстрация (которую начали практиковать незадолго до революции) имела целью как поимку отдельных правонарушителей, так и взгляд на социальные процессы и общественное мнение под другим углом. Один из тех, чье письмо было вскрыто и попало в ленинградский партийный архив, – колхозник Николай Быстрое. Быстрова мобилизовали от колхоза на лесозаготовки в Карелию, и он, по обычаю мобилизуемых, взял колхозную лошадь. Обнаружив, что в лагерях лесорубов нет никакой еды и многие бегут, бросая лошадей, он написал правлению своего колхоза: рассказал, что тоже подумывает бежать, и просил совета, что делать с лошадью [44]
[Закрыть].
Порой граждане сами передавали властям полученные ими частные письма. Например, студент-коммунист послал в Центральную контрольную комиссию частное письмо, полученное от другого коммуниста, с которым он вместе работал на посевной в 1932 г. Письмо проникнуто болью за голодающих («мужик голодает», «в Казахстане каннибализм») и смятением из-за поведения руководства («Сталин сошел с ума») и репрессий («писателей сводят в могилу»). После того как сам Сталин прочитал письмо, оставив на полях несколько негодующих замечаний, передавшего его вызвали на допрос. (Вероятно, автора арестовали, но из дела этого узнать нельзя [45]
[Закрыть].)
В редких случаях Ленинградский НКВД составлял сводки данных, полученных из перехваченной частной корреспонденции, и посылал их вместе с регулярным сводками донесений осведомителей. Так было во время продовольственного кризиса зимой 1936-1937 гг., в течение нескольких месяцев служившего главной темой донесений НКВД. Корреспонденция, перехваченная на пути в Ленинград и из Ленинграда, содержала душераздирающие описания переживаемых бедствий – в том числе «провокационную информацию» (как назвал ее НКВД) об отсутствии в ленинградских магазинах основных продуктов питания – и передавала ходившие слухи. «У нас поговаривают, что весь Питер на хлебный паек посадят, и поговаривают что-то про варфоломеевскую ночь – только никому не говорите», – писал отец дочерям в Ленинград.
Авторы использовали не тот язык, которым писали письма властям, например: «Не знаю, как господь поможет это перенести». Они рассуждали, хотя и в весьма деликатных выражениях, об ответственности режима за кризис. «Ты приезжай и посмотри, что делается в городе с утра,– писала жена (судя по всему, образованная женщина) из Вологды мужу-ученому в Ленинград. – Очереди занимают с 12 часов ночи, и даже еще раньше. Что ты на это скажешь, кто виноват в этом деле? Интересно, знают ли об этом в центре. В газете так ни одной заметки насчет хлеба нет» [46]
[Закрыть].
РАЗГОВОРЫ НА ЛЮДЯХ
«Народное обсуждение» – эксперимент, который пытались провести дважды, оба раза в 1936 г. Предметом обсуждения служили закон об абортах (см. гл. 6) и новая Конституция. Возможно, это была одна из попыток демократизации, как утверждает Арч Гетти, а может быть, просто новая форма сбора информации о настроениях в обществе [47]
[Закрыть]. В любом случае эксперимент больше не повторялся. Как мы видели, рассматривая дебаты по поводу абортов, «народное обсуждение» встречало много затруднений. Всегда существовала опасность, что высказывание неортодоксальных взглядов повлечет за собой неприятности с НКВД. Кроме того, власть объявила о своей позиции с самого начала, опубликовав проект закона об абортах и проект Конституции, так что крупных перемен ждать не приходилось; их и в самом деле не последовало.
Тем не менее, с точки зрения НКВД (а впоследствии – историков), обсуждение Конституции имело несомненную ценность, дав массу полезной информации о мнении общества по самому широкому кругу вопросов, в том числе и таких, которые редко ставились в других случаях. И дело тут не столько в том, что люди выступали на собраниях, сколько в том, что они разговаривали в кулуарах (как всегда, в присутствии агентов НКВД) и писали огромное количество писем по поводу Конституции в газеты и государственные учреждения. Учреждения-получатели, согласно обычной процедуре, составляли из этих писем сводки и отсылали их партийному руководству. В некоторых случаях сводки относились к особой категории «враждебных» высказываний [48]
[Закрыть].
Народное обсуждение означало организацию на всех рабочих местах фактически обязательных собраний. Люди часто ходили на них крайне неохотно, жалуясь, что все это пустая трата времени. «Рабочие все грамотные, газеты читают, и обсуждать нечего», – заявляли рабочие некоторых ленинградских заводов; кое-кто вообще отказывался ходить. На ткацкой фабрике им. Горького в Ивановской области администрация заперла двери и поставила перед ними охранника, чтобы не дать рабочим уйти с собрания, проводившегося после работы. Это глубоко возмутило рабочих; большинство из них были женщины, которых дома ждали дела. «Вот поставили сторожа и задерживают нас силой», – негодовала одна. Другая жаловалась: «У меня дети остались, а вы меня не выпускаете». Собрание окончательно пошло вкривь и вкось, когда несколько работниц хитростью пробрались мимо сторожа и «с криком отворили двери», через которые тут же ушло сорок человек. «Кто не успел уйти, сел на лестнице и спал до конца собрания» [49]
[Закрыть].
В ряду важнейших вопросов внутренней политики при обсуждении Конституции поднимался (правда, по-видимому, чаще в письмах, чем на собраниях) вопрос об отмене дискриминации, в том числе лишения избирательных прав, по классовому признаку. Этот существенный поворот курса был отражен в проекте Конституции, и впоследствии соответствующие статьи вступили в законную силу (см. гл. 5). Но одобряли его далеко не все – фактически в большинстве писем по данному вопросу авторы выражают тревогу по поводу упразднения дискриминации. Один сомневается, стоит ли давать право голоса бывшим кулакам, которые смогут воспользоваться своим новым общественным статусом, чтобы отомстить активистам. Другой не против, чтобы право голоса дали некоторым лишенцам, которые это заслужили, но считает совершенно лишним разрешать избирать и быть избранными на ответственные посты священникам. «Совершение религиозных обрядов – это не общественно-полезный труд» [50]
[Закрыть].
Такие же возражения вызвала статья 124 Конституции, гарантировавшая свободу вероисповедания, вместо которой автор одного письма предлагал «категорически запретить церкви, которые дурят народ»(очевидно, при этом он имел в виду все церкви) и « превратить церковные здания в дома культуры». Однако статья 124 имела и своих сторонников, поднявших голос в ее защиту, – священнослужителей и верующих. Они не только превозносили конституционную гарантию веротерпимости, но тут же принялись воплощать ее в жизнь, ходатайствуя об открытии церквей, насильственно закрытых в начале десятилетия, пытаясь устроиться на работу в колхозы и сельсоветы, ранее для них недоступные, и даже выставить своего кандидата на выборы в Верховный Совет СССР в 1937 г. [51]
[Закрыть].
Хотя народное обсуждение не привело к каким-либо серьезным изменениям в Конституции, было бы неверно считать, что оно ничего не принесло массам. Как указывает Сара Дэвис, после обсуждения в обиход населения вошла новая, правовая лексика. Молодой колхозник, отстаивающий свое право уехать из колхоза для продолжения учебы, пишет: «Я считаю, что право на образование имеет каждый гражданин, в том числе и колхозник. Так говорится в проекте новой Конституции».Подобные заявления стали встречаться на каждом шагу, свидетельствуя о том, что произошли настоящие перемены. Никогда раньше в своих просьбах и жалобах население не ссылалось на прежнюю Конституцию 1918 г., и вообще после революции правовые аргументы не слишком были в ходу [52]
[Закрыть].
Несомненно, с точки зрения режима, это отнюдь не были перемены к лучшему. Новая Конституция с замечательной щедростью обещала населению разнообразные права: статья 125 гарантировала свободу слова, печати, собраний, уличных шествий и демонстраций, на деле никогда не существовавшую в Советском Союзе ни до, ни после принятия новой Конституции [53]
[Закрыть]. Судя по замечаниям, сделанным в ходе обсуждения и попавшим в донесения осведомителей, люди и не принимали эти обещания всерьез (в отличие от обещания свободы вероисповедания, выполнения которого одни ждали, а другие боялись), но, тем не менее, расхождение между обещаниями и действительностью вызывало у них возмущение и насмешку: «Все это вранье, что пишут в проекте новой конституции, что каждый гражданин может писать в газеты и выступать. Конечно это не так, попробуй выступить, сказать, сколько людей в СССР от голода умирает, сразу загремишь на 10 лет»(это едкое замечание в сводке совершенно справедливо отнесено к категории «враждебных») [54]
[Закрыть].
Многие соглашались с тем, что Конституция – сплошной обман: «Издают законы, и все врут». Равноправие – пустой звук. «Нет у нас равноправия и не будет. Наше дело – работать как лошади и ничего не получать, а еврей ничего не делает, сидит у власти и живет за наш счет». Даже если равные права – не обман, все равно их нельзя ставить в заслугу советской власти: их записали в Конституции, потому что «иностранные державы оказали давление на Советский Союз»(автор этого заявления зловеще добавил, что скоро «власть вообще переменится»). Даже право личной собственности и наследования этой собственности – действительно соблюдавшееся на практике, хотя и не совсем надежное, – вызывало кое у кого негодование: один бывший эсер заявил, что оно «выгодно только коммунистам, которые награбили много ценностей во время революции и теперь хотят их сохранить» [55]
[Закрыть].
Развитию сатирических талантов у населения немало способствовала статья Конституции, утверждавшая, вслед за Марксом, принцип: «Кто не работает, тот не ест». «Неправда,– говорил один остряк, – на самом деле у нас все наоборот: кто работает, тот не ест, а кто не работает, тот ест». Другой предлагал заменить лозунг «Кто не работает, тот не ест» другим: «Кто работает, тотдолжен есть» [56]
[Закрыть]. В основном эти реплики принадлежали колхозникам, и столь большое их количество, несомненно, обусловлено тем, что начиналась голодная зима после неурожая 1936 г. Впрочем, у колхозников были и другие претензии к Конституции. От их внимания не ускользнул тот факт, что обещанные в ст. 120 якобы всему населению пенсии по старости и нетрудоспособности и оплачиваемые отпуска на деле доступны лишь городским рабочим и служащим. «Эта конституция хороша только для рабочих», – жаловался один колхозник [57]
[Закрыть].
Выборы
На выборах в Советском Союзе приходилось иметь дело с одним кандидатом, с одним частичным исключением, о котором речь пойдет ниже; орган верховной власти, в который избирались депутаты, реальной политической властью не обладал. Власти назначали кандидатов, старательно следя, чтобы по каждому округу должным образом были представлены рабочие, крестьяне, интеллигенция, женщины, стахановцы, коммунисты, беспартийные и комсомольцы, на местах проводились собрания для обсуждения предложенных кандидатов и актуальных вопросов текущего момента [58]
[Закрыть]. Как известно, часть населения была лишена избирательных прав по социальному признаку, а голоса городских жителей имели перевес над голосами жителей сельских.
День выборов проводился как праздник, но на людей оказывали сильнейшее давление, заставляя идти голосовать, и процент проголосовавших всегда был высоким (по крайней мере судя по официальным данным). У некоторых людей ритуал голосования вызывал ощущение душевного подъема. «Я почувствовала какое-то волнение, не знаю почему, даже комок застрял в горле», – записала Галина Штанге в дневнике после голосования на выборах 1937 г. Ее сестра Ольга, жившая в Ленинграде в самых жалких, нищенских условиях, написала ей письмо в том же духе: «8 часов утра. Я пошла голосовать и с чистой совестью отдала свой голос за Калинина и Литвинова. Опуская бюллетень в урну, я всем сердцем поняла правоту арабской пословицы: „Даже крошечная рыбка может взволновать океан“» [59]
[Закрыть].
Поскольку у избирателей не было возможности делать выбор между несколькими кандидатами, сами выборы давали режиму немного информации о настроениях населения, разве что данные о незначительных колебаниях числа не проголосовавших и испорченных бюллетеней. Но собрания во время подготовки к выборам такую информацию давали и служили темой регулярных донесений. Не следует преувеличивать формальность и бессодержательность советских выборов: до войны они не всегда представляли собой такую рутинную, бесконфликтную процедуру, как впоследствии. Две из четырех всесоюзных избирательных кампаний за период от первой пятилетки до Второй мировой войны – выборы 1929 и 1937 г. – имели свои драматические моменты.
Выборы 1929 г. проходили шумно и беспорядочно, было много «антисоветских» выступлений и попыток организовать оппозицию со стороны верующих и партийных оппозиционеров. В ходе этих выборов было лишено избирательных прав больше людей, чем когда-либо прежде, начало коллективизации и антирелигиозная кампания создали крайне напряженную атмосферу. Кроме того, участники разгромленных левых оппозиций (троцкистской и зиновьевской) все еще активно действовали и заставляли прислушиваться к себе во время предвыборной кампании. В Славгороде, например, троцкисты выпустили заявление, в котором говорилось, что «система диктатуры, существующая в партии, душит все живое»; в Москве троцкистские группы на заводах попытались выставить собственных кандидатов против официальных [60]
[Закрыть].
О требованиях крестьян организовать крестьянские союзы (под стать профсоюзам городского населения) сообщали даже из таких отдаленных мест, как Красноярск и Хабаровск. Кулаки, сектанты и другие лишенцы, по донесениям, использовали выборы для «агитации» против советской власти, были даже сообщения об угрозах и физическом насилии над коммунистами. В одной деревне Тарского района лишенцы с флагами прошли маршем по улице, к ним присоединились остальные крестьяне. Отовсюду шли сообщения об активности православных и сектантов, особенно подчеркивалась деятельность толстовцев и баптистов. В донесениях приводились замечания о том, что власть оторвалась от рабочего класса, что это не настоящая советская власть, что коммунисты подавляют свободу. Люди жаловались, что коммунисты стали новым привилегированным классом, «живут как бары, ходят в соболях и с тростями в серебряной оправе». Один человек из Тулы протестовал против международных революционных обязательств режима, спрашивая, зачем власти субсидируют китайский университет Сунь Ятсена в Москве (который он назвал «фабрикой желтого динамита») и во что это обходится Советскому государству [61]
[Закрыть].
На выборах 1937 г., последовавших вскоре после принятия новой Конституции, как объявлялось первоначально, должны были выдвигаться несколько кандидатов от каждого округа, т.е. избирателям предоставлялась реальная возможность выбора. Где-то в начале года эта идея отпала, по-видимому, став жертвой чрезвычайной подозрительности и политической неуверенности, сопутствовавших Большому Террору, и состоявшиеся в конце года выборы прошли по старому образцу, с одним кандидатом. Но сама последовательность событий отнюдь не производила впечатления обыденной, напротив – казалась странной и загадочной. Во всяком случае для Галины Штанге выборы 1937 г. сохранили оттенок чего-то особенного (они проводились впервые после принятия новой Конституции, причем избирались депутаты в новый орган – Верховный Совет СССР). «Мы были самыми первыми из первых избирателей на первых таких выборах в мире», – с чувством удовлетворения записала она [62]
[Закрыть].
Предвыборная кампания осенью 1937 г. проходила очень тихо из-за массовых арестов тех, кто добивался проведения выборов с несколькими кандидатами, обещанных прошлой зимой, и продолжавшегося террора. В каждом округе был выдвинут единственный кандидат «от блока коммунистов и беспартийных» (эвфемизм, скрывавший возврат к одномандатным выборам), на предвыборных собраниях, как показало наблюдение НКВД, говорилось мало существенного по политическим вопросам (гораздо меньше, чем при обсуждении Конституции предыдущей осенью). Как обычно, кто-то выражал нетерпение и раздражение по поводу всей предвыборной процедуры, потому что «все равно коммунисты назначат, кого захотят». Некоторые избиратели (помня о недавних разоблачениях «врагов народа» буквально повсюду) как будто сомневались в том, что новые кандидаты на высшие государственные посты окажутся надежнее своих предшественников. «Как человеку в душу залезешь?– спрашивала женщина на одном из московских предвыборных собраний в октябре. – Мы ведь и бывших коммунистов выбирали, думали, что они хорошие, а они оказались вредителями» [63]
[Закрыть].
Однако совсем без проявлений народного недовольства не обошлось. Были случаи возражений против официальных кандидатов, особенно руководителей из центра и знаменитостей. В Куйбышеве выступали против кандидатуры украинца, выдвигавшегося в Совет Национальностей (верхнюю палату Верховного Совета): «Пусть его Украина выбирает, а мы выдвинем своего [русского] кандидата» [64]
[Закрыть]. В Ленинграде раздавались возражения против кандидатур Микояна (по причине «распущенности в личной жизни»), Калинина («слишком стар») и писателя А. Толстого («уж очень жирный»). В Новосибирске на одном предвыборном собрании опротестовали даже кандидатуру Сталина на том основании, что он выдвигался одновременно от многих округов; вместо него предложили кандидатуру секретаря Новосибирского горкома партии Алексеева – и она была принята 150 голосами против 50, поданных за Сталина [65]
[Закрыть].
КУКИШ ЗА СПИНОЙ
Как мы видели, наблюдение советской власти за настроениями масс имело свой консультативный аспект в виде народных обсуждений, предвыборных собраний и готовности принимать индивидуальные жалобы и ходатайства. Но все эти публичные консультативные формы несли на себе множество ограничений и в той или иной степени не удовлетворяли обе стороны, и наблюдателей и наблюдаемых. Зная, что власть может покарать любого, кто скажет на людях что-нибудь не то, граждане предпочитали обсуждать общественные дела вне общественных мест и в форме, отличной от официально предписанной. Подозревая, что граждане вряд ли в общественных местах говорят то, что действительно думают, власти – особенно НКВД – стремились взять под наблюдение дискуссии, которые те вели «не для протокола», вне сферы государственного контроля. Это означало попытки следить не только за разговорами в частных домах и частной корреспонденцией, но и за анонимными и крамольными формами общения, такими как анекдоты, частушки, слухи, устные выпады в адрес режима и оскорбительные письма властям.


![Книга Soviet Military Power [Советская военная мощь] Издание шестое автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-soviet-military-power-sovetskaya-voennaya-mosch-izdanie-shestoe-284643.jpg)