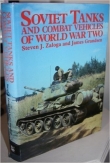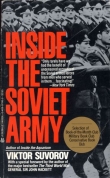Текст книги "Повседневный сталинизм"
Автор книги: Шейла Фитцпатрик
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Среди высланных из Ленинграда были «бывший барон Типольт, устроился бухгалтером на мелькомбинат, генерал Тюфяев, учитель географии, бывший шеф полиции Комендантов, техник на заводе, генерал Спасский, продавец табачного киоска». В сети попадалась и менее крупная рыба, вроде человека, работавшего в царском министерстве юстиции писарем, приказ о высылке которого был отменен только после четырех лет ходатайств. Ленинградские комиссионки были завалены мебелью, распродававшейся высланными. Ленинградцев обычно отправляли не в спецпоселения, как кулаков, а в административную ссылку в индивидуальном порядке, и некоторым впоследствии удавалось с помощью ходатайств и связей вернуться в город. Однако получение обратно своей квартиры представляло для вернувшихся почти неразрешимую проблему. Хотя их право на жилплощадь признавалось официально, на практике в их квартирах уже жили новые жильцы, выселить которых было крайне трудно [41]
[Закрыть].
Ссылка являлась еще более крайней формой изгания из общества, нежели лишение прав. Друзья и соседи должны были порвать с сосланным все отношения; в противном случае их могли обвинить в «поддерживании связей» с антисоветскими элементами. Когда группа рабочих электростанции собрала деньги и вещи, чтобы передать через родных посылку сосланному товарищу, это было расценено как контрреволюционная инициатива, подлежащая расследованию НКВД [42]
[Закрыть]. Свободным жителям тех мест, куда отправляли ссыльных, рекомендовали держаться от них подальше.
Облава на маргиналов
Советская власть, кажется, считала себя вправе хватать какую-то часть населения и перебрасывать ее, куда заблагорассудится, как поступали при старом режиме помещики со своими крепостными. Массовые ссылки – не единственное тому доказательство. В придачу к ним режим украдкой и с некоторыми колебаниями практиковал своего рода социальную чистку, убирая «выродков», подонков городского общества, чье присутствие считалось тлетворным и разлагающим, насильственно помещая их в трудовые лагеря или отправляя в провинцию. Такие маргиналы получили общее название «социально-чуждые и социально-опасные элементы», процесс их удаления из общества начался в конце 1920-х гг. и достиг пика во время Большого Террора [43]
[Закрыть].
Одну из категорий жертв этого процесса представляли проститутки. Начиная с лета 1929 г. власти имели законное право отлавливать проституток или женщин, «стоящих на грани проституции», в бараках, ресторанах, на вокзалах и в ночлежках и высылать из города [44]
[Закрыть]. Точно так же обходились с нищими и всякого рода бродягами, например бродячими лудильщиками и портными. Нищих власти с легкостью подводили под определение «церковных агитаторов», бродячие лудильщики и портные считались распространителями контрреволюционной пропаганды [45]
[Закрыть].
Изгнание маргиналов из крупных городов приобрело новый размах в 1933 г. после установления в Москве и Ленинграде паспортного режима. В Ленинграде, как сообщает российский историк, поднялась «волна репрессий» против «паразитического элемента»; борьба с проституцией вовсю продолжалась и следующие два года – за 1934-1935 гг. были задержаны 18000 женщин. Большинство из них отправлялись в колонии и лагеря в Ленинградской области. Летом 1933 г. была проведена облава на «социально разложившиеся элементы», главным образом на преступников-рецидивистов, в Москве и Ленинграде. Из-за «разлагающего влияния», которое они оказывали на окружающих, их отправляли в лагеря, а не на «полусвободное поселение». Приблизительно в то же время в Московской области выловили 5000 цыган «без определенного места жительства» и услали их, вместе с 338 лошадьми и 2 коровами, в сибирский город Томск для помещения в труд-поселения. Эту цыганскую операцию можно было бы рассматривать как одну из первых депортаций по национальному признаку, но представляется более вероятным, что власти руководствовались иными соображениями. Режим прилагал все усилия, чтобы перевести на оседлое положение «отсталые» кочевые народы, в том числе и цыган, а репутация цыган как воров и мошенников, несомненно, заставляла местное начальство видеть в них разложившиеся элементы и нарушителей общественного порядка. В 1937-1938 гг., во время Большого Террора, новый контингент цыган попал в облаву и был отправлен на восток [46]
[Закрыть].
Облавы на преступников и маргиналов и переселение их по указанной выше схеме много раз повторялись в провинции. Томск, принявший московских цыган, в 1934 г. горько жаловался, что на улицах полно преступников и малолетних правонарушителей, в большинстве своем свезенных местными властями из других районов области и брошенных на произвол судьбы. «В результате,– сообщал председатель горисполкома, – улицы г. Томска, рынки, станции, магазины и учреждения за последнее время наводнены группами взрослых и беспризорных подростков-рецидивистов, творящих всякие безобразия и терроризующих население» [47]
[Закрыть].
Пожалуй, самый примечательный эпизод десятилетия – лишь недавно всплывший на свет после открытия советских архивов – связан с крупной операцией по облаве на социальных маргиналов во время Большого Террора, закончившейся массовыми казнями и массовыми же высылками. Данный эпизод, пока сравнительно мало подвергавшийся анализу, показывает, что советский режим приблизился к нацистскому подходу к «социальной чистке» (правда, без расистского оттенка) больше, чем считалось до сих пор. 2 июля 1937 г. Политбюро секретным распоряжением объявило облаву на преступников-рецидивистов, нарушителей общественного порядка и лиц, нелегально вернувшихся из ссылки; некоторых из них следовало немедленно расстреливать без суда и следствия, других – отправлять в Гулаг. Каждый регион Советского Союза получил определенный план; по всему Советскому Союзу цифра подлежащих расстрелу составляла 70000 чел. (в том числе 10000 «социально опасных элементов», уже находящихся в Гулаге), отправке в Гулаг – почти 200000 чел. [48]
[Закрыть].
Главный удар направлялся против кулаков, бежавших из ссылки (напомним, что, по данным НКВД, таковых было около 400000 чел.), которые именовались «главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений»в промышленности, на железных дорогах, в совхозах и колхозах. Подобный народ больше всего скапливался на окраинах крупных промышленных городов. Детализируя распоряжение Политбюро, Ежов определил в дополнение к беглым кулакам еще три большие группы. Первая состояла из «в прошлом репрессированных церковников и сектантов». Это, пожалуй, самая крупная категория жертв данной операции в сельской местности. Вторая группа – контрреволюционеры, лица, принимавшие участие в вооруженных восстаниях против советской власти или бывшие членами антибольшевистских политических партий. Третью группу составляли «уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, конокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой» [49]
[Закрыть].
Результаты операции можно проследить по тому, как резко выросло в последующие полтора года число заключенных Гулага, отнесенных к категории «социально-вредных и социально-опасных». В начале 1937 г. таких заключенных уже было свыше 100000 чел. Два года спустя их число выросло почти до 300000 чел., составив около четверти всех обитателей Гулага [50]
[Закрыть].
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРОШЛОГО
Одним из способов, которыми люди пытались снять с себя клеймо, было отречение. Обычно оно не достигало цели, поскольку социальное происхождение считалось «объективным» пороком, от которого невозможно избавиться, даже изменившись по внутренней сути. Тем не менее, в начале 1930-х гг. власти порой требовали его от детей кулаков и священников, как во времена Большого Террора – от детей «врагов народа», а иногда с ним выступали по собственной инициативе. Две кулацкие дочки много лет спустя вспоминали, как им пришлось заявить, что они отреклись от родителей и не поддерживают с ними связи. Учитель по имени Юрий Михайлович поместил в «Известиях» краткое объявление: «Отрекаюсь от своего отца, священника». Жена священника с Нижней Волги попыталась отречься от мужа, после того как его «раскулачили», утверждая, что сын обратил ее на путь служения делу советской власти и внушил ей ненависть к капитализму. «С нынешнего дня, когда в результате раскулачивания не имею положительно никакого имущества – раз и навсегда отрекаюсь от старого, ненужного и вредного взгляда. С нынешнего дня я развожусь со своим мужем...»Письмо было подписано: «Гражданка Сигаева Доминика». (Почти наверняка это пламенное заявление не вызвало никакого отклика, поскольку власти с особым подозрением относились к разводам, в результате раскулачивания, полагая, что их мотивом служит стремление защитить семейное добро [51]
[Закрыть].)
Больше всего советская власть была заинтересована в том, чтобы отрекались от своего сана священники. Подобное отречение, сделанное публично, являлось эффектным подтверждением провозглашаемого в СССР положения, что религия – надувательство, разоблаченное современной наукой. В эпоху Культурной Революции в местной печати время от времени появлялись в виде писем в редакцию подписанные священниками заявления об отречении от своего сана «в ответ на социалистическое строительство» [52]
[Закрыть]. Вот типичный пример подобного политического спектакля, разыгранного однажды в воскресный день в 1929 г. в одном из католических костелов Минской области:
«В тот день, когда верующие собрались на религиозную процессию в честь „наместника бога“, они с ужасом узнали из уст ксендза, что религия обман, что он больше не желает быть орудием в руках контрреволюционеров. Тут же [ксендз] сбросил с себя облачение и под вопли и причитания фанатичных старух покинул костел» [53]
[Закрыть].
По сообщениям НКВД, в связи с принятием сталинской Конституции 1936 г. поднялась настоящая волна отречений священников. Где-то священник (на сей раз православный) публично заявил в церкви о своем разочаровании в религии, уверяя, будто теперь верит, что природу объяснила наука, а не бог. Где-то – псаломщик объявил о своем отречении от веры через местную газету; впоследствии он поступил в фармацевтическое училище [54]
[Закрыть].
Сильно мешало отречению священников от сана то обстоятельство, что бывшим священникам было крайне трудно найти работу. Многие, многие молодые священники оставили бы церковь, если бы эту проблему можно было преодолеть, с грустью писал в 1937 г. один советский чиновник. Не только сами священники, но и работники Союза воинствующих безбожников – профессиональные пропагандисты атеизма – предпочли бы, чтобы процесс отречения от сана протекал более гладко. «У нас есть попы, которые три года тому назад сняли сан, и их не берут даже на биржу... Мы должны дать людям, отказавшимся от религии и желающим идти с нами, возможность работать хотя бы на черной работе». Союз действительно был завален письмами от священников, оставивших церковь, которые не могли найти работу [55]
[Закрыть].
Одним из немногих средств, имеющихся в распоряжении жертв лишения прав, ссылки и высылки, были ходатайства. Архив секретариата Калинина полон подобных ходатайств; в начале 1930 г. каждый день приходило по 350 жалоб с требованием восстановления в правах от лиц, лишенных избирательных прав местными советами в одной только РСФСР [56]
[Закрыть]. В ведомстве Калинина с сочувствием относились к жаловавшимся и регулярно готовили записки по поводу местных «перегибов» в лишении прав для рассылки местным советам и центральному руководству. Среди примеров лиц, неправильно лишенных права голоса, фигурировали женщины, получающие алименты (которых на местах сочли «живущими на нетрудовые доходы»), толстовцы, меннониты, эпилептики и обычные нарушители спокойствия (которые «много говорят на собрании, активно критикуя работу»сельсовета). Двадцатилетняя девушка из Пензы жаловалась, что ее лишили прав «как монашку», потому что она до сих пор не замужем [57]
[Закрыть].
Американский историк Гольфо Алексопулос, проводившая не так давно исследование ходатайств лишенцев, так классифицировала аргументы, выдвигавшиеся теми, кто добивался восстановления в правах. Одни упирали на то, что являются настоящими советскими людьми, подчеркивая пользу, приносимую ими обществу. Так, один ссыльный «трудпоселенец» писал: «Я ударно трудился, а сейчас тружусь по-стахановски, многие нормы на строительстве перевыполняю в три раза». Молодой человек, ходатайствующий за мать, указывал: «Я являюсь ученым, изобретателем, имею награды и премии». Другие подчеркивали свою беспомощность и нищету, называли себя «сиротами, не имеющими куска хлеба», плакались: «Я практически неграмотна, никакой радости в жизни не видела», – и умоляли, как в одном ходатайстве, адресованном лично Калинину, не дать им погибнуть «хотя бы ради детей» [58]
[Закрыть]. Практически никто из лишенцев, занимавшихся торговлей (что служило главным основанием для лишения прав людей этого сорта), не взывал к справедливости. Они жаловались, что их отнесли не к той категории, уверяли, будто они занялись торговлей по случаю или вследствие отчаянной нужды [59]
[Закрыть].
Ходатайства представляли собой лотерею. Мы знаем, что довольно многие принесли желаемый результат, но нет никакой возможности установить, какова их доля от общего числа. Некоторые категории жертв, например священники, кажется, сравнительно редко ходатайствовали о восстановлении в правах, по-видимому, зная, что шансы на успех невелики. Другие, например вдовы и мелкие торговцы, фигурируют в списках лиц, чьи жалобы были удовлетворены, на первом месте.
Писать жалобы или подавать ходатайства за себя лично было делом обычным, а вот ходатайства за кого-то другого, не являющегося членом семьи, встречались редко, еще реже – протесты против практики наклеивания ярлыков в принципе. Однако из этого правила, как из всех других, были свои исключения.
Женщина, подписавшаяся девичьей фамилией, жаловалась в Наркомат земледелия на исключение из колхоза, последовавшее на том основании, что отец ее мужа до революции был торговцем. В первую очередь ее возмущало, что на жалобу ее мужа по этому поводу ответили, тогда как ее прежнюю жалобу проигнорировали, очевидно, полагая, что они с мужем – одно целое. Она возражала против такой постановки вопроса (совершенно справедливо, с точки зрения закона), поскольку членом колхоза считалось отдельное лицо, достигшее совершеннолетия, а не двор. По существу дела она высказывалась столь же решительно, обращая внимание на сам принцип: «Нельзя так далеко распространять ответственность за социальное происхождение, ибо к свекру Василию Гавриловичу, умершему в 1922 г., которого я и не знала, я никакого отношения не имела и его идеологией не могла быть зараженной» [60]
[Закрыть].
69-летняя Александра Елагина, бывшая революционерка, член организации «Народная воля» в 1880-х гг., вышла еще дальше за обычные рамки и написала Молотову, протестуя по поводу участи «бывших», которые отбыли ссылку, но которым, «несмотря на все декреты и распоряжения правительства, мешают... служить и учиться и жить в тех местах, где есть родные и жилище, например в Москве, Ленинграде...» [61]
[Закрыть]
Еще одна жалоба принципиального характера относится к экспроприации евреев – мелких торговцев и кустарей в ходе кампании против частного предпринимательства и нэпманов, развернувшейся в конце эпохи нэпа. Письмо было подписано «Абрам Гершберг, рабочий», и его автор заявлял, что ему, как активисту, пришлось наблюдать и даже участвовать в экспроприациях в Киевской области. По сути оно представляло собой обличение антисемитизма. «Когда я указал на неправильное действие бригады в отношении к мелкому торговцу, кустарю-еврею, то мои товарищи не стеснялись, в шутливом тоне хотя бы, выражаться „жид за жидом тянет“». Жалуясь, что эти евреи были лишены всех прав, а также «последней подушки и рубахи», автор просил амнистировать их и разрешить им «работать по специальности, как, например, счетоводы, бухгалтера, продавцы, мельники, маслобойщики». Кто он такой в действительности, осталось тайной, поскольку проведенное расследование показало, что по указанному в письме адресу человека с таким именем не существовало [62]
[Закрыть].
Сын за отца не отвечает
Политика навешивания социальных ярлыков в ходе 1930-х гг. претерпела изменения, хотя практика большинства партийных и государственных органов изменялась гораздо медленнее и существовали признаки полемики по поводу смены курса в высших политических кругах [63]
[Закрыть]. Еще в феврале 1934 г. Молотов говорил на VII съезде Советов, что ограничение избирательных прав – «временная мера», необходимая только до тех пор, пока старые эксплуататорские классы представляют угрозу. На данный момент, сказал он, лишены прав всего лишь около двух миллионов человек, а скоро эта категория может полностью исчезнуть [64]
[Закрыть].
Первый шаг в этом направлении касался детей лишенцев, а не их родителей. В конце 1935 г., слушая речь стахановца, заявившего, что ему не давали хода из-за раскулаченного отца, Сталин бросил реплику: «Сын за отца не отвечает» [65]
[Закрыть]. Сам он к этой теме больше не возвращался, но его мысль развили другие. Комиссия советского контроля приказала государственным учреждениям и руководству промышленности прекратить увольнять людей или отказывать им в приеме на работу «по таким мотивам, как социальное происхождение, судимость в прошлом, осуждение родителей или родственников и т.п.». Член комиссии А. А. Сольц подчеркивал, как важно снять с человека клеймо прошлого, «чтобы человек мог забыть свое социальное происхождение и судимость. Родившийся от кулака не виноват в этом, т.к. он не выбирал своих родителей. Поэтому и говорят сейчас: не преследуйте за происхождение» [66]
[Закрыть].
Не все принимали эти обещания за чистую монету. Один респондент Гарвардского проекта, вспоминая сталинское заявление, что «сын за отца не отвечает», добавил: «Но меня это не касалось, я был и остался сыном кулака». Другая респондентка, у которой отец был когда-то помещиком, рассказывала, как у нее в техникуме устроили собрание для обсуждения значения нового сталинского лозунга: «Оратор сказал, что, поскольку дети не должны больше страдать за грехи отцов, те, кто скрывал свое социальное происхождение, могут не бояться говорить. Всех студентов, скрывших социальное происхождение, призывали выйти на трибуну и рассказать об этом». Царившая тогда атмосфера вселяла страх, и эта респондентка, почуяв ловушку, промолчала. Один из немногих студентов, откликнувшихся на призыв, вскоре, по ее словам, исчез из техникума [67]
[Закрыть].
Возможно, местные власти, а то и сам Сталин, намеревались использовать обещание снять клеймо прошлого, чтобы выявить тех, кто что-либо скрывал. Так или иначе, официальный курс, как и обещал Молотов, менялся, хотя и не все шло гладко. Комиссия, работавшая над проектом новой Конституции Советского государства, билась над вопросом, насколько далеко следует заходить, освобождая «классово-чуждых» от клейма. В одиннадцатом часу, при невыясненных обстоятельствах (не исключается, что имело место вмешательство с самого верха), из проекта Конституции были убраны все социальные мотивы лишения избирательных прав [68]
[Закрыть].
Новая Конституция – принятая после общенародного обсуждения опубликованного проекта – постановила, что все граждане СССР, достигшие 18-летнего возраста, «независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности», имеют право избирать и быть избранными в Советы (ст. 135). Комментируя итоги всенародного обсуждения, Сталин отверг поправку, предлагавшую «лишить избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев, всех бывших людей и лиц, не занимающихся общеполезным трудом». «Советская власть,– сказал он, – лишила избирательных прав нетрудовые и эксплуататорские элементы не на веки вечные, а временно, до известного периода». Теперь, когда прежние эксплуататорские классы ликвидированы, советский строй должен быть достаточно прочен, чтобы устранить эти ограничения. В конце концов, заявил Сталин, «не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти»(не была ли эта похвала хуже брани?) [69]
[Закрыть].
Неоднозначность сталинских замечаний отразилась как на общественном мнении, так и на претворении в жизнь новой политики. «Я никак не допускаю, чтобы быть избирателями или быть избранными могли священники...– писал Р. Беляев из Калининской области. – По-моему, священник, это – не трудящийся, а паразит». «Будет очень плохо тем, которые были активистами во время раскулачивания и ликвидации кулачества,– писал колхозник К. Порхоменко. – Кулак сейчас, если станет во власть, он может очень зажимать всех людей, активистов, потому что у кулаков и сегодня еще имеется большая ненависть» [70]
[Закрыть].
Политбюро официально постановило весной 1937 г., что «лишение избирательных прав граждан СССР по мотивам социального происхождения»должно быть прекращено [71]
[Закрыть], однако и общественность, и должностные лица встретили это положение со смешанными чувствами. Большой Террор уже набирал обороты, и различие между прежними «классовыми врагами» и новыми «врагами народа» отнюдь не было ясным [72]
[Закрыть]. В делах 1937 г. об исключении из комсомола в Западной (Смоленской) области вновь и вновь фигурирует вопрос о социальном происхождении, хотя при рассмотрении апелляций на следующий год лица, исключенные на этом основании, как правило, были восстановлены. То же самое относится и к смоленской партийной организации в эпоху Большого Террора, где постоянно звучали пламенные обвинения в чуждом социальном происхождении или связях с лицами чуждого социального происхождения [73]
[Закрыть]. Людей по-прежнему – или даже сильнее прежнего – подвергали дискриминации из-за их социальных корней. Так, например, секретарь партийного комитета сибирского города Сталинска в августе 1937 г. не колеблясь заявил, что некий Шевченко «не был включен в список делегатов на Всекузбасский слет стахановцев потому, что его отец бывший кулак, лишенный избирательных прав» [74]
[Закрыть].
Даже в 1939 г. работник ленинградского НКВД рекомендовал уволить учительниц – дочерей священников, дворян и царских чиновников – как «социально-чуждые элементы», «засоряющие» школу, в которой они работали. Но времена действительно изменились: заведующий местным отделом народного образования имел смелость оспорить рекомендации офицера НКВД и представление о социальном происхождении как единственном критерии ценности работника; он выразил собственное мнение, заявив, что послужной список и педагогическая квалификация учительниц не дают оснований для увольнения [75]
[Закрыть].
ЖИЗНЬ В МАСКЕ
Утаивание тех или иных фактов было естественным условием жизни в СССР. Власти считали всех, кто скрывал свое прошлое, тайными врагами, но это вовсе не обязательно соответствовало действительности. Любой, имевший порочащее его прошлое, был в той или иной мере вынужден скрывать его, невзирая на свои политические симпатии, чтобы не прослыть врагом. Люди, скрывавшие прошлое, «маскировались», как говорили в СССР. А раз они маскировались, их необходимо было «разоблачать».
Многим приходилось вести двойную жизнь. Это можно истолковать как существование у одного человека двух лиц: одного «придуманного» – для окружающих, другого «настоящего» – для себя. Но в действительности дело обстояло не так просто. Кто-то, в духе социалистического реализма проецируя будущее на настоящее, страстно желал в действительности стать тем человеком, каким он старался выглядеть в глазах окружающих. Кто-то так хорошо играл свою роль, предназначенную для широкой публики, что полностью сживался с ней ( «я... начал чувствовать себя именно тем, кем притворялся» [76]
[Закрыть]). А кто-то мог и возненавидеть свое «настоящее» я, считать его неким кошмарным двойником, которого следует прятать от дневного света [77]
[Закрыть]. Карикатурист в «Крокодиле» изобразил этот дуализм, поместив рядом с письменными ответами некоего гражданина на вопросы анкеты рисунки, рассказывающие о нем совершенно другое. В анкете на вопрос: «Социальное положение до 1917 г.?»– следует ответ: «Служащий». А на рисунке – агент царской полиции. «Участвовал ли в гражданской войне?»– «Да». А рисунок показывает, что это было участие на стороне белых. «Имеете ли вы специальное образование?»– «Имею диплом инженера-технолога». А над этим ответом рисунок, изображающий человека, подделывающего диплом [78]
[Закрыть]. С точки зрения «Крокодила», отвечающий на анкету просто обманывал окружающих. В действительности же для кого-то это мог быть способ переделать себя, превратиться в нового советского человека.
Для того, кто был отмечен социальным клеймом, первым шагом на пути к новой жизни часто становилось бегство. В начале десятилетия уже раскулаченные и боявшиеся раскулачивания крестьяне бежали из своих сел, отправляясь работать в город или на стройку. Власти сурово осуждали подобное «самораскулачивание», но помешать ему было крайне трудно. Нэпманы, подвергшиеся экспроприации в конце нэпа, действовали так же: экспроприированные минские и могилевские торговцы в 1930 г. сбегали в Москву и Ленинград, лавочники из Поволжья переезжали в Ташкент [79]
[Закрыть].
Следующий шаг – справить новые документы. Пока не появились паспорта, одним из основных личных документов служила справка из сельсовета, удостоверяющая социальное происхождение ее предъявителя (для крестьян эти справки так и остались основным документом). Многие члены кулацких семей получали нужные бумаги с помощью взятки или «собутыльничества» с председателем местного совета. Другие крали бланки и печати из соответствующих учреждений и делали себе документы сами. В городах полезными документами являлись карточки, профсоюзные и партийные билеты, и существовал целый бойкий рынок, торгующий этими бумагами, как настоящими, так и поддельными. На карикатуре, посвященной проверке партийных документов в 1935 г., изображено, как комиссия рассматривает партбилет некоего члена партии. Подпись: « – У вас в билете неразборчиво написана фамилия. – Пардон, в таком случае могу предложить мой другой партбилет. Там как будто разборчивее» [80]
[Закрыть].
До паспортизации порой даже не было необходимости покупать удостоверение личности. «Просто теряешь документы, просишь выдать новые и при этом устно заявляешь, кто были твои отец и мать», – говорил один респондент Гарвардского проекта, вспоминаю операцию, проделанную им в 1929 или 1930 году.
Местом рождения часто указывали Киев, где во время гражданской войны погибли все архивы. Некоторые вообще не могли припомнить, чтобы смена биографии представляла для них какую-то проблему: «Устраиваясь на работу, я ни разу не призналась [в своем происхождении]... Я носила другую фамилию, моего мужа. Пользовалась фамилией мужа, и дети тоже. Поэтому я ни разу не призналась в своем прошлом» [81]
[Закрыть].
Даже паспорт можно было купить. По сообщению газеты в 1935 г., в одном мордовском селе купить паспорт было настолько легко, что сорок местных семей лишенцев не давали себе труда ходатайствовать о восстановлении в правах:
« – Сколько у вас лишенцев восстановлено в правах к моменту выборов в советы? – спрашиваем мы председателя сельсовета Лосева. – Ни одного! К нам таких ходатайств не поступало... И верно, зачем хлопотать, обивать пороги сельсовета, когда в Торбеевском районе безо всяких мытарств можно дешево купить... гражданские права! Цены на паспорта стоят невысокие – от 50 до 80 руб. Многие лишенцы приобрели по нескольку паспортов» [82]
[Закрыть].
Менее дерзкими способами приобретения новой биографии являлись усыновление и брак. Среди лишенцев бытовал распространенный обычай отсылать детей к незапятнанным родственникам [83]
[Закрыть]. Брак и повторный брак, когда умышленно, а когда – нет, выполняли ту же функцию. Женщина дворянского происхождения, у которой первый муж умер в начале 1920х гг., во второй раз вышла замуж за токаря, тем самым улучшив свое социальное положение; дочь богатого фабриканта вышла замуж за выдвиженца из бедной крестьянской семьи, и, по словам ее сына, «замужество спасло ее от неприятностей». Дочь кулака вспоминала: «Мой первый брак был своего рода камуфляжем. Мне негде было жить. А мой муж был из бедноты. Он был комсомольцем... Брак с ним служил мне прикрытием. И к тому же у нас была своя комнатка. Ложась спать, я думала про себя: господи, я сплю в собственной кровати...» [84]
[Закрыть]
Иногда новую жизнь строили соединенными усилиями всей семьи, используя множество разных уловок. Раскулаченная семья Твардовских, разделенная в процессе высылки, приняла все меры, чтобы не потерять связь друг с другом и вновь воссоединиться (за исключением самого знаменитого ее члена, поэта А. Твардовского, который избежал высылки и, стремясь защитить себя, скрывал положение своей семьи). Семья Силаевых из Западной Сибири разделялась несколько раз после того, как зажиточный крестьянин Василий Силаев переехал в Новосибирск, спасаясь от раскулачивания, но все эти переезды и разделы (в тех случаях, когда не были просто вынужденными) совершались только для того, чтобы сохранить семью и кое– что из имущества. Для этой цели Силаев официально развелся с женой, переведя на ее имя два дома, и уехал в другой город; продав дома, она присоединилась к нему. Их сын, служащий в конторе в Новосибирске, наведывался в родную деревню хлопотать о восстановлении отца в правах [85]
[Закрыть].
Часто семьи обнаруживали, что рассеяние – единственный способ выжить. «Наше социальное происхождение висело на мне, на моих братьях и сестрах, как клеймо. И все они, один за другим, уехали из Аханска... Ну, а тогда, знаете, дело было поставлено так, что мы даже не должны были переписываться с родителями. Это было все равно что иметь связь с „чуждым элементом“. Но мы, конечно, с ними переписывались и изредка навещали, но это было очень трудно» [86]
[Закрыть].
Иногда «разоблачение» лиц, скрывающих свое прошлое, наступало в результате расследования органов внутренних дел. Но очень часто эту работу брали на себя газеты, или сограждане, или и те и другие вместе. Для журналистов, постоянно гоняющихся за «сенсацией», истории о разоблачениях представляли ярчайший человеческий материал и давали простор для исследования. Весной 1935 г. одна ленинградская газета, например, опубликовала серию разоблачительных статей о скрытых классовых врагах в больницах и школах Ленинградской области. Эти опусы, типичные для своего жанра, приписывают всем, скрывающим социальное происхождение, самые низменные мотивы и пестрят эмоционально окрашенными словечками типа «убежище», «притаившийся» и, разумеется, «враг»:


![Книга Soviet Military Power [Советская военная мощь] Издание шестое автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-soviet-military-power-sovetskaya-voennaya-mosch-izdanie-shestoe-284643.jpg)