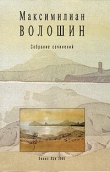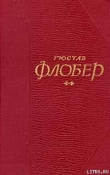Текст книги "Читайте старые книги. Книга 1."
Автор книги: Шарль Нодье
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
– Разве вы, голубушка, не читали "Журнал медицинских наук"? Бегите скорей за духовником!
К счастью, в эту самую минуту священник появился на пороге; он, по обыкновению, зашел поболтать о разных литературных и библиографических тонкостях, в которых разбирался не хуже, чем в требнике; впрочем, пощупав пульс Теодора, он забыл о библиографии.
– Увы, сын мой, – сказал он больному, – жизнь человеческая скоротечна, да и весь наш мир не вечен. Как и всему, что имеет начало, ему рано или поздно придет конец.
– Кстати, вы читали "Трактат о происхождении и древности мира" {37} ? – спросил Теодор.
– Я читал Книгу Бытия, – отвечал почтенный пастырь, – но слышал о книге, которую написал на эту тему некий софист минувшего века по имени Мирабо.
– Sub judice lis est [25]25
Дело еще не решено (лат.;Гораций. Наука поэзии, 78).
[Закрыть], – резко перебил его Теодор. – Я доказал в моих Stromates {38} , что этот унылый педант Мирабо создал лишь первую и вторую части ”Мира”, а создатель третьей – аббат Лемакрье {39} .
– Господи! Кто же в таком случае создал Америку {40} ? – приподняв очки, осведомилась старая тетушка.
– Речь не об этом, – продолжал аббат. – Верите ли вы в Пресвятую Троицу?
– Как могу яне верить в знаменитое сочинение Сервета De Trinitate [26]26
О Троице (лат.).
[Закрыть] {41} , – вскричал Теодор и сел на постели. – Ведь я ipsimis oculis [27]27
Своими глазами (лат.).
[Закрыть]видел, как на распродаже библиотеки господина де Маккарти {42} эта книга, которую сам он приобрел на распродаже собрания Лавальера {43} за 700 ливров, была продана за жалкие 214 франков.
– Но я имел в виду совсем иное, – сказал в замешательстве служитель церкви. – Я спрашиваю вас, сын мой, что вы думаете о божественном происхождении Иисуса Христа?
– Ладно, ладно, – отвечал Теодор. – Давайте условимся: кто бы что ни говорил, я настаиваю, что ”Toldos Jeschu” [28]28
”Родословие Иисуса” {44} (древнеевр.).
[Закрыть] {44} , из которого этот невежественный пасквилянт Вольтер почерпнул столько вздорных побасенок, достойных ”Тысячи и одной ночи”, есть не что иное, как злобная и бездарная выдумка раввинов, и что сочинение это недостойно занимать место в библиотеке ученого!
– В добрый час! – вздохнул почтенный священнослужитель.
– Разве что в один прекрасный день, – продолжал Теодор, – отыщется экземпляр in charta maxima [29]29
В полный лист (лат.).
[Закрыть], о котором, если мне не изменяет память, идет речь в неопубликованной мешанине Давида Клемана.
На сей раз священник довольно громко застонал, вскочил со стула и с волнением склонился над Теодором, дабы честно и прямо объяснить больному, что у него тяжелейший приступ библиоманической горячки, описанной в ”Журнале медицинских наук”, и что сейчас ему не следует думать ни о чем, кроме спасения собственной души.
Теодор не принадлежал к числу тех глупцов, которые решительно отрицают существование Бога, но наш друг потратил так много сил на бесплодное изучение буквы множества книг, что у него не хватило времени постичь их дух. Даже в ту пору, когда он был совершенно здоров, теории бросали его в жар, а догмы вызывали столбняк. В богословии он разбирался хуже сенсимонистов {45} . Он отвернулся к стене.
Долгое время он лежал молча, и мы уже решили было, что он скончался, но, подойдя к нему, я услышал глухой шепот: ”Треть линии! Боже правый! Боже милостивый! Как отдашь ты мне эту треть линии и хватит ли твоего могущества, чтобы исправить непоправимую ошибку переплетчика?”
В эту минуту в комнату вошел один библиофил, приятель Теодора. Ему сказали, что больной при смерти, что в бреду он утверждал, будто аббат Лемакрье создал третью часть света, а четверть часа назад утратил дар речи.
– Сейчас проверим, – сказал библиофил.
– По какой ошибке в нумерации страниц узнается хороший эльзевировский Цезарь 1635 года? – спросил он Теодора.
– 153-я страница вместо 149-й.
– Отлично. А Теренций того же года?
– 108-я вместо 104-й.
– Черт возьми, – заметил я, – Эльзевирам в 1635 году не везло с цифрами. Хорошо, что они не стали печатать в том же году таблицы логарифмов.
– Превосходно, – продолжал приятель Теодора. – А ведь поверь я болтовне этих людей, я думал бы, что ты на волосок от смерти!
– На треть линии, – подхватил Теодор слабеющим голосом.
– Я знаю о твоей беде, но по сравнению с тем, что приключилось со мной, это сущая ерунда. Вообрази, неделю тому назад на одной из тех никому не ведомых распродаж, о которых можно узнать лишь из объявления на двери, я упустил Боккаччо 1527 года – такой же великолепный экземпляр, как твой, в венецианском переплете из телячьей кожи, с остроконечными ”а” {46} и множеством ”свидетелей” {47} . И ни одной подложной страницы!
Теодор не мог больше думать ни о чем другом:
– Ты уверен, что ”а” были остроконечные?
– Как кончик алебарды.
– Значит, это действительно был Боккаччо 1527 года.
– Он самый. В тот день я был на чудесном обеде: очаровательные дамы, свежие устрицы, остроумные собеседники и превосходное шампанское. Я пришел через три минуты после того, как книга была продана.
– Милостивый государь! – в бешенстве вскричал Теодор. – Когда продается Боккаччо 1527 года, обходятся без обеда! {48}
Это последнее усилие исчерпало ту каплю жизненных сил, которая еще оставалась у Теодора и которую эта беседа поддерживала, подобно тому как раздувают затухающий огонь кузнечные меха. Он успел прошептать еще раз: ”Треть линии!” – но то были его последние слова.
Утратив всякую надежду на его спасение, мы подкатили его постель к книжным шкафам и стали вынимать оттуда те тома, которые он, казалось, звал взглядом. Дольше всего мы держали перед его глазами издания, которые, на наш взгляд, составляли предмет его наибольшей гордости. Умер он в полночь, в окружении книг в переплетах Десея и Падлу, любовно сжимая в руках переплет Тувенена.
Похороны состоялись на следующий день; за гробом нескончаемой чередой тянулись безутешные сафьянщики. На могильном камне мы высекли эпитафию, которую, пародируя Франклина {49} , сочинил некогда для себя сам Теодор:
Франциск КолумнаЗдесь
в деревянном переплете
покоится
экземпляр
лучшего издания
человека —
издания,
написанного на языке золотого века,
который люди забыли.
Ныне это
старая книжонка,
потрепанная,
грязная,
с вырванными страницами
и попорченным фронтисписом,
изъеденная червями
и наполовину сгнившая.
Трудно ожидать,
что она удостоится
запоздалой и бесполезной чести
быть переизданной.
Перевод В. Мильчиной
Надеюсь, вы не забыли нашего друга аббата Лоуриха {50} , с которым мы встречались в Рагузе и Спалато, в Вене и Мюнхене, в Пизе, Болонье и Лозанне. Это замечательный человек, блестяще образованный, держащий в голове уйму вещей, которые любой другой на его месте постарался бы поскорее забыть: имя издателя той или иной дрянной книжонки, год рождения того или иного глупца и еще множество подобных сведений. Аббату Лоуриху принадлежит честь установления подлинного имени Кникнакия: под этим псевдонимом писал Старкий, причем не Поликарп Старкий, автор восьми прекрасных одиннадцатисложных стихов на диссертацию Корнманна de ritibus et doctrina scaraboeorum [30]30
Об обычаях жуков и об изучающей их науке (лат.).
[Закрыть], а Мартин Старкий, автор тридцати двух одиннадцатисложных стихов о вшах. Несмотря на все это, с аббатом Лоурихом стоит познакомиться: он милейший человек, остроумный, сердечный, неизменно предупредительный; вдобавок к этим достоинствам он наделен живым и своеобычным воображением, что делает его на редкость приятным собеседником, но только до тех пор, пока он не углубится в мельчайшие подробности биографического и библиографического свойства. Впрочем, я смирился с этим недостатком аббата Лоуриха, и стоит мне увидеть его, как я бросаюсь к нему со всех ног. Последняя наша встреча произошла месяца три назад, не больше.
Я приехал в Тревизо вечером и остановился в гостинице Двух Башен; час был поздний, поэтому пройтись по городу я не успел. Наутро, спускаясь по лестнице, я наткнулся на одного из тех ни на кого не похожих людей, чье своеобразие проявляется во всем; я обратил внимание на шляпу, каких свет не видел, заломленную самым немыслимым образом, красный с зеленым галстук, повязанный так криво, что узел его лежит чуть ли не на плече, брюки, одна штанина которых не блистала чистотой, а другая не без кокетства пузырилась на колене, наконец, гигантский портфель, бессменное вместилище стольких книг, стольких записей, стольких планов, стольких набросков – всех этих сокровищ, которые бесценны для ученого, хотя на них не позарился бы ни один старьевщик. Ошибиться было невозможно: передо мной был Лоурих.”Лоурих!” – воскликнул я, и мы бросились друг другу в объятия.
– Я знаю, куда ты держишь путь, – сказал он после того, как мы обменялись дружескими приветствиями, и он сообщил, что тоже только сейчас приехал. – Ты спросил адрес букиниста и тебе посоветовали обратиться к Апостоло Каподуро [31]31
Букв, твердолобый (ит.).
[Закрыть]с улицы Эсклавон. Я направляюсь туда же, но без всякой надежды: за десять лет я дважды посетил его лавку и самое древнее, что я разыскал в ней, были романы аббата Кьяри. Настоящие букинисты начисто перевелись, повымерли, уничтожены, и настали варварские времена. Тебе нужно что-то определенное?
– Признаюсь тебе, – ответил я, – что мне грустно было бы покинуть север Италии, не приобретя ”Сон Полифила” {51} ; говорят, это замечательная книга, причем если ее где-нибудь и можно найти, то именно в Тревизо.
– Вот именно: если где-нибудь можно найти, – воскликнул Лоурих, – это очень справедливая оговорка, ведь ”Сон Полифила” или, точнее, ”Гипнеротомахия” брата Франциска Колумны – книга, о которой в старых библиографиях говорится, что она aldo corvo rarior [32]32
Встречается реже, чем белая ворона (лат.).
[Закрыть]. Смело можно утверждать, что если эта белая ворона и залетела в какую-нибудь клетку, в чем не может быть сомнения, то владелец этой клетки уж никак не Апостоло. Я в этом так твердо уверен, что могу, не сходя с места, поклясться душой старого Альда (да будет ему вечная слава!), что, если у этого чудака Апостоло найдется для тебя экземпляр ”Типнеротомахии” 1499 года, поскольку второе издание и вполовину не так ценно, я готов преподнести его тебе в подарок, как это ни разорительно для моего кошелька.
Мы вошли в лавку и застали ее хозяина сидящим в глубокой задумчивости за конторкой перед чистым листом бумаги. Он не сразу заметил наше появление, а когда, наконец, поднял на нас глаза, то с радостью признал в Лоурихе старого знакомого.
– Не иначе как сам Господь посылает вас мне на выручку, дорогой аббат, – сказал Апостоло, обнимая Лоуриха, – ибо я никогда еще не попадал в такое затруднительное положение. Вам, конечно, известно, что я вот уже несколько месяцев издаю ”Адриатическую литературную газету”, которая, по всеобщему признанию, является самой ученой и самой увлекательной газетой в Европе. Так вот, эта замечательная газета, предназначенная вызвать восхищение ученого мира и поправить мои пошатнувшиеся дела, находится на грани катастрофы, и все из-за каких-то шести маленьких колонок фельетона для завтрашнего номера, над которыми я безуспешно ломаю голову, уставшую от ученых занятий и дел. Должно быть, злой дух замыслил разоренье и привел в расстройство мои редакционные дела. Юная муза, которая сочиняла мне нравоучительные статьи о воспитании, на сносях; импровизатор, который обещал сегодня принести кантату в совершенно новом духе, пишет мне, что закончит ее не раньше чем через неделю, а непревзойденного знатока финансовых и экономико-политических вопросов вчера посадили в долговую тюрьму. Поэтому, дорогой аббат, во имя неба прошу вас, сядьте за этот стол, где я всю ночь трудился до седьмого пота и тем не менее не выжал из себя ни строчки, и набросайте мне пять-шесть страничек о чем угодно, лишь бы сюжет не был уж очень избитым.
– Постой-ка, – ответил аббат Лоурих, – давай прежде покончим с нашими делами, а потом уж займемся твоими. Мой друг приехал сюда из Парижа, а я из далекой Норвегии не для того, чтобы сочинять вместо лентяев-рифмоплетов кантаты да фельетоны, а для того, чтобы найти пару-тройку книг, ради которых стоило проделать это путешествие; какое-нибудь славное, всеми признанное первоиздание, какую-нибудь книгу начала XV века в хорошем состоянии, ценную альдину, у которой английские и французские переплетчики пощадили поля. Начнем с этого, если позволишь, а там видно будет. Написать фельетон – дело нехитрое.
– Как вам угодно, – ответил Апостоло, – я соглашаюсь тем охотнее, что осмотр не отнимет у вас много времени. У меня есть всего одна книга, достойная таких знатоков, как вы, но эта книга, – продолжал он, разворачивая тройную обертку дивного фолианта, – книга, – повторил он торжественно, полностью вызволив ее из бумажной тюрьмы, – одним словом, книга, – и он с гордым и уверенным видом протянул фолиант аббату Лоуриху.
– Проклятье, – прошептал Лоурих, с одного взгляда, как обычно, распознав неведомое сокровище. Потом он повернулся ко мне, но это был уже не тот человек, что секунду назад; руки его беспомощно опустились, взор погас, а на лбу выступили капельки холодного пота. – Проклятье, – пробормотал он по-французски едва слышно, так, что разобрать его слова мог только я, – это та самая злосчастная книга, которую я обещал тебе подарить, если она здесь окажется, первоиздание Полифила… какая незадача, вдобавок, она в прекрасной сохранности, будто только что с печатного станка, слово даю. Такие удары судьбы обрушиваются на одного меня…
– Успокойся, – со смехом ответил я, – быть может, она обойдется нам дешевле, чем ты думаешь.
– И сколько же хочет маэстро Аностоло за это сокровище? – спросил Лоурих.
– Ох, ох! – запричитал Апостоло, – времена нынче тяжелые, денег днем с огнем не сыщешь. В былые времена я запросил бы пятьдесят цехинов с принца Евгения, шестьдесят с герцога д’Абрантеса и сто с какого-нибудь англичанина, а сегодня я вынужден просить за нее всего-навсего четыреста миланских ливров, иначе говоря, ровно четыреста франков. Я не уступлю и двух quarantani [33]33
Сороковая часть (ит.).
[Закрыть].
– Чтоб четыреста голодных крыс сожрали все твои книги до единой! – прервал Лоурих в ярости. – Да где это видано, чтобы какая-то паршивая книжонка стоила четыреста ливров?..
– Паршивая книжонка! – воскликнул Апостоло, почти так же рассвирепев, как Лоурих. – Издание 1467 года, первое в Тревизо, а может быть и во всей Италии, шедевр типографского и оформительского искусства, с гравюрами работы самого Рафаэля, шедевр, автор которого до сих пор не установлен, несмотря на все ученые изыскания; уникальное издание, о существовании которого не подозревали, может быть, даже вы сами, господин аббат, – и это вы называете паршивой книжонкой!
Пока Апостоло произносил свою бурную тираду, Лоурих постепенно успокоился; он положил шляпу на конторку букиниста, удобно устроился в кресле и отирал пот со лба с видом человека, обретшего наконец покой после долгих тяжких трудов.
– Ты кончил, Апостоло? – спросил он хладнокровно, но не без лукавого самодовольства. – Это лучшее, что ты можешь сделать, если хоть сколько-нибудь заботишься о своем добром имени и своем кошельке, ибо в четырех фразах, которые ты нам только что преподнес, содержатся четыре огромные глупости, и если бы ты не замолчал, то наговорил бы их столько, что мне не хватило бы целого дня, чтобы сосчитать их, и у меня не осталось бы времени написать тебе фельетон, в котором ты так нуждаешься. Глупость первая: неверно, что книга эта издана в Тревизо в 1467 году, это венецианское издание 1499 года, из которого вырвали последнюю страницу, чтобы сбить тебя с толку, но от меня-то не укрылся этот дефект, больше чем наполовину снижающий ценность твоего экземпляра. Впрочем, ты родился под счастливой звездой, и я могу помочь тебе, поскольку на днях, благодаренье богу, я случайно нашел в ворохе бумаг недостающую страницу и заботливо сохранил эту драгоценность, хотя и не думал, что она пригодится мне так скоро. Мы еще поговорим о том, по какой цене я смогу ее тебе уступить.
При этих словах аббат Лоурих вынул из своего портфеля недостающую plagula [34]34
Здесь – страница (лат.).
[Закрыть]и бережно вложил ее в книгу.
– В самом деле, этот лист точь-в-точь подходит к моей книге, – произнес Апостоло, – что, надо сказать, несколько меняет дело. Какого дьявола я решил, что она вышла в Тревизо?
– Погоди, – вновь вступил Лоурих, – это еще далеко не все. Глупость вторая: неверно, что рисунки в этой книге выполнены Рафаэлем, какое бы это ни было издание: 1467-го или, как мы только что убедились, 1499 года, поскольку, как всем известно, Рафаэль родился в Урбино в 1483 году, то есть через шестнадцать лет после того, как рукопись была завершена, что действительно произошло в 1467 году, и даже самые пылкие поклонники этого великолепного художника вряд ли возьмутся утверждать, что он создавал такие правильные и изящные рисунки за шестнадцать лет до своего рождения. Так что эти прекрасные гравюры принадлежат другому Рафаэлю, и уж его-то, достойнейший друг мой, знаю я один. Постой-постой, пока я сосчитал еще только до двух.
Глупость третья: неверно, что автор этой книги до сих пор неизвестен ученым, ибо, напротив того, все ученые знают, что это произведение Франциска Колонны, или Колумны, монаха-доминиканца из Тревизо, умершего в 1467 году, хотя находятся легкомысленные биографы, которые путают этого монаха с доктором Франческо ди Колонна, его почти полным тезкой, пережившим его на добрых шесть десятков лет. Оба они похоронены в нескольких сотнях метров от твоей лавки. После того что я сейчас тебе рассказал, Апостоло, мне, я думаю, нет нужды доказывать тебе, что ты совершил четвертый промах, еще более грубый, чем все остальные, предположив, что я не слышал о существовании твоей великолепной книги, более того, я могу с легкостью показать тебе, что знаю весь текст наизусть.
– Бьюсь об заклад, – живо возразил Апостоло, – что на сей раз у вас ничего не выйдет, ибо она написана таким необычным языком, что ни одному из моих друзей в Тревизо, Венеции и Падуе не удалось разобрать ни единой страницы, и, если вы, как сами утверждаете, знаете ее наизусть, я готов отдать вам ее даром и тем охотнее принесу эту жертву, что вы сообщили мне ценнейшие сведения и помогли избежать ошибки: я собирался опубликовать в моей ”Адриатической литературной газете” объявление об этой книге, а если бы в него проникли те ложные данные, которые вы только что успешно опровергли, это могло сильно повредить моей репутации среди книготорговцев.
– Судя по тому, что ты сам только что сказал, – ответил аббат Лоурих, – о крайне причудливом языке {52} ”Сна Полифила” и о безуспешных попытках стольких ученых расшифровать его, проверка, которую ты собираешься мне устроить, будет невыносимо нудной и вдобавок займет целый день. И что станет с твоим фельетоном, если я буду читать тебе наизусть ”Гипнеротомахию” от альфы до омеги? Тем не менее я принимаю твой вызов, если ты готов удовольствоваться опытом, который не менее доказателен, но зато отнимет у нас гораздо меньше времени и сил. В твоей книге столько глав, что одного этого достаточно, чтобы вывести из терпения. Я берусь перечислить тебе начальные буквы {53} всех глав, с первой, в которую, как я погляжу, ты уже уперся пальцем, и до последней.
– Будь по-вашему, итак, первая буква первой главы…
– Это ”Р”, – сказал Лоурих. – Открывай вторую.
Глав было много, но аббат дошел до тридцать восьмой – последней, ни разу не сбившись и не ошибившись.
– Угадать одну букву из двадцати четырех можно, если очень повезет, и без помощи нечистой силы, – грустно заметил Апостоло, – но повторить этот фокус тридцать восемь раз подряд невозможно, тут что-то неладно. Берите книгу, господин аббат, и чтоб я о ней больше не слышал.
– Боже меня упаси, – ответил Лоурих, – так жестоко злоупотреблять твоей невинностью и простодушием, о феникс библиофилов! Ты только что видел всего-навсего ловкий трюк, доступный даже школьнику, и ты легко можешь повторить его. Знай же, что автор этого произведения решил зашифровать свое имя, положение и тайну своей любви в начальных буквах тридцати восьми глав: вместе они составляют фразу, приведенную в парижской ”Всемирной биографии” {54} , так что всякий, кто, подобно мне, заглянул туда, выиграл бы пари. Тем более что эту простую и трогательную фразу очень легко запомнить. Poliam frater Franciscus Columna peramavit. Брат Франциск Колумна любил Полию. Теперь ты сведущ в этом вопросе не меньше Бейля и Проспера Маршана.
– Странно, – вполголоса произнес Апостоло. – Монах-доминиканец был влюблен. За этим стоит какая-то история.
– Очень может быть, – сказал Лоурих. – Возьмись-ка опять за перо и займемся фельетоном, раз уж ты не можешь без него обойтись.
Апостоло уселся поудобнее, обмакнул перо в чернильницу и записал следующий ниже текст, начиная с заглавия, от которого я весьма отдалился в своем затянувшемся вступлении.