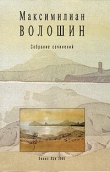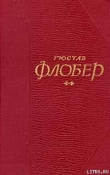Текст книги "Читайте старые книги. Книга 1."
Автор книги: Шарль Нодье
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
ДОРА:
Святая музыка, укрась мой скромный стих,
Пусть он исполнится волшебных тайн твоих.
Тебе подвластно все. Когда гроза над судном,
Ты можешь аквилон сдержать ветрилом чудным;
Ты жителей морских способна чаровать
И на младенцев сон умеешь навевать.
В полночной тишине тебя любовным бденьем
Чтит Амфион лесов, измученный томленьем, —
Печален, одинок, среди густых ветвей
Поет, забыв себя, он о любви своей.
Ты нравы грубые смягчила повсеместно:
Какой бы ни был край – и дикий, и безвестный —
Все ж оглашается он голосом твоим.
И в варварской глуши знакомо эхо с ним.
Чуть бранная труба пред битвой заиграет,
Тревожный конь тотчас окрестность озирает,
Ржет, удила грызет и, гриву распустив,
Летит стрелой туда, куда влечет призыв.
Нередко смертного ты утешаешь в горе,
Ты скрашиваешь труд, ты – средство против хворей.
Что делают все те, кого судьба гнетет,
Чья жизнь исполнена лишений и невзгод, —
На зрелой ниве жнец, от жажды изнемогший,
Пастух средь пажити, под ливнем злым промокший?
Что делает кузнец, вздымая молот свой,
Иль виноградарь в дни, когда несносен зной,
Невольник в кандалах, гребец над зыбью водной,
Раб в темном руднике, усталый и голодный,
Бродяга, зябнущий в дырявом шалаше?
Поют. Часы летят, и легче на душе.
ДЕЛИЛЬ:
Святой гармонии я предаюсь душой…
Гармония! Навек ты овладела мной.
История и баснь тебя недаром славят,
Недаром власть твою всего превыше ставят!
Сколь муза к нам щедра была в своих дарах!
Ты можешь выразить и торжество, и страх,
Ты на войну зовешь, ты праздник согреваешь,
С надгробным воплем ты унылый звук сливаешь
И ввысь от алтаря, напевом полня храм,
Молитвы пылкие возносишь к небесам.
Внимая пение бесстрашного Тиртея,
Воспламенялся Марс, а лира Тимофея
На сотни голосов звенела, говорят:
Познал он и хвалы, и нежной страсти лад.
Он пел, как Александр Таисою пленился,
Как Вавилон пред ним в развалинах дымился,
Как Дарий изнемог под гнетом неудач
И как надменного умилостивил плач…
В угрюмых мастерских, в заброшенных подвалах
Ты помощь подаешь, ты веселишь усталых, —
Что пахарь делает, взрывая дол сохой,
Иль виноградарь в дни, когда нещаден зной,
Пастух средь пажити, гребец над хлябью водной,
Рабочий-рудокоп, усталый и голодный,
Кузнец, чья целый день напряжена рука?
Поют. Часы летят, и жизнь не так горька.
МОНТЕНЬ:
Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока низвергнуть все то. что воздвигалось ею самою годами; и это заставляет нас воскликнуть подобно Лаберию {311} : ”Ясно, что на один этот день прожил я дольше, чем мне следовало жить”. <…> Не следует судить о человеке, пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина. <…> Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать, наконец, без утайки, что у тебя за душой:
Вот почему это последнее испытание – окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. Этот день – верховный день, судья всех остальных наших дней. <…> Эпаминонд, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше – Хабрия, Ификрата или себя, ответил: ”Чтобы решить этот вопрос, надлежало бы посмотреть, как будет умирать каждый из нас”. <…> Оценивая жизнь других, я неизменно учитываю, каков был конец ее (Опыты, I, XIX).
ШАРРОН:
Постоянная готовность к смерти – признак мудрости. День смерти – верховный судья, судья всех остальных наших дней, окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. <…> Чтобы судить о жизни, надо посмотреть, каков был ее конец. Мы не можем вынести справедливое суждение о человеке, пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Эпаминонд, первый полководец Греции, когда спросили его, кого он ставит выше – Хабрия, Ификрата или себя, ответил: ”Чтобы решить этот вопрос, нужно прежде всего посмотреть, как каждый из нас будет умирать”. Ибо во всем прочем возможна личина, но в этой последней схватке нет места притворству: Nam verae voces [86]86
Ведь истинный голос… (лат.).
[Закрыть]и т. д.
К тому же можно подумать, будто судьба порою намеренно подстерегает последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока низвергнуть все, что мы воздвигали и копили долгие годы, и это заставляет нас воскликнуть подобно Лаберию: Nimirum hac die una plus vixi [87]87
Ясно, что на один этот день прожил я дольше… (лат.).
[Закрыть]и т. д.
МОНТЕНЬ:
Вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. <…> Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился, благодаря этому, от великих несчастий. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? <…> Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога бесконечного времени, каковы свойства этого бессмертия. Вдумайтесь хорошенько в то, что называют вечной жизнью, и вы поймете, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему [говорит природа]. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей. <…> Конечная точка нашего жизненного пути – это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми, – вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой! <…> Люди снуют взад и вперед, топчутся на одном месте, пляшут, а смерти нет и в помине. Все хорошо, все как нельзя лучше. Но если она нагрянет, – к ним ли самим или к их женам <…> захватив их врасплох, беззащитными, – какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаянье сразу овладевают ими! <…> Чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности <…> если вы прожили один-единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, эти звезды, это устройство вселенной – все это то же, от чего вкусили пращуры ваши и что взрастит ваших потомков. <…> И, на худой конец, все акты моей комедии, при всем разнообразии их, протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырех времен года, вы не могли не заметить, что он обнимает собою все возрасты мира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. И ему остается только начать все сначала. И так будет всегда (Опыты, I, XX).
ШАРРОН:
Превосходная вещь – учиться умирать; к этому и сводится вся наша мудрость. <…> Никогда еще смерть никому не причинила зла; ни один из тех, кто испробовал ее и знаком с нею, на нее не жаловался. <…>Если бы смерти не существовало и нам волей-неволей пришлось бы остаться в этом мире навсегда, мы бы наверняка осыпали природу проклятиями. Представьте, насколько более тягостной и нестерпимой была бы жизнь, которую называют вечной, чем та, с которой можно расстаться. Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога времени, каковы свойства этого бессмертия. С другой стороны, что произошло бы, если бы к смерти не было подмешано чуточку горечи? Все слишком жадно и безрассудно устремились бы ей навстречу. <…> Люди невежественные поступают очень глупо; они применяют вот какое лекарство – совсем не думать о смерти, никогда не поминать ее. Не говоря уже о том, что подобная беспечность не пристала разумному существу, она еще и дорого ему обходится, ибо, когда смерть приходит внезапно, сколько мучений, воплей, ярости и отчаяния! Мудрец поступит иначе: он будет ждать ее без страха, дабы сразиться с ней; мудрость, не в пример невежеству, советует всегда помнить о смерти, размышлять о ней, свыкаться с ней, приручать ее. <…> Ты все видел; каждый день таков же, как все прочие; нет ни другого света, ни другой тьмы, ни другого солнца, ни другого мира; на худой конец, все можно увидеть за один год. За этот год можно увидеть младенчество, юность, зрелость и старость мира. Затем остается лишь начать все сначала.
МОНТЕНЬ:
Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. <…> Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни. <…> Однако далеко не все в этом вопросе единодушны. Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней. <…> Больше стойкости – в том, чтобы жить с цепью, которой мы скованы, чем разорвать ее, и Регул является более убедительным примером твердости, чем Катон {312} . Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной, <…> Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, – таков удел трусости, а не добродетели (Опыты, II, III).
ШАРРОН:
Самая добровольная смерть – самая прекрасная. Ведь я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек. Точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни. Впрочем, многие осуждают добровольную смерть, не одни лишь христиане и иудеи <…> но также и философы, такие, как Платон и Сципион, которые почитают ее следствием трусости, малодушия и нетерпения, ибо умереть добровольно значит спрятаться, схорониться, дабы избежать ударов судьбы. Меж тем истинная добродетель не сдается; невзгоды и страдания питают ее; гораздо больше стойкости в том, чтобы жить с цепью, которой мы скованы, чем в том, чтобы разорвать ее, и больше твердости в Регуле, чем в Катоне.
МОНТЕНЬ:
Чувства обманывают наш разум, но и он, в свою очередь, обманывает их. Наша душа иногда мстит чувствам; они постоянно лгут и обманывают друг друга (Опыты, II, XII).
ПАСКАЛЬ:
Чувства обманывают разум, одурманивают его, но и он, в свою очередь, обманывает их; он мстит им. Страсти души смущают чувства и доставляют им неприятные ощущения. Они постоянно лгут и обманывают друг друга (Мысли, № 83).
МОНТЕНЬ:
Что это за благо, которое я вчера видел в почете, но которое уже не будет пользоваться им и которое переезд через какую-нибудь речку превращает в преступление? Что это за истина, которую ограничивают какие-нибудь горы и которая становится ложью для людей по ту сторону этих гор! (Опыты, II, XII).
ПАСКАЛЬ:
Понятия справедливого и несправедливого меняются с изменением географических координат. На три градуса ближе к полюсу – и вся юриспруденция летит вверх тормашками. Истина зависит от меридиана. <…> От многовековых установлений не остается камня на камне; право подвластно времени. <…> Хороша справедливость, которую ограничивает река! Истина по сю сторону Пиренеев становится заблуждением по ту.”За что ты меня убиваешь?” – ”Как за что? Да ведь ты живешь на том берегу реки!” (Мысли, № 294 и № 293) [88]88
Здесь и далее ”Мысли” Паскаля (кроме № 83 и № 417) цитируются в переводе Э. Линецкой.
[Закрыть].
МОНТЕНЬ:
Убийство детей, убийство родителей, общность жен, торговля краденым, всякого рода распутство – нет такого чудовищного обычая, который не был бы принят у какого-нибудь народа. Весьма вероятно, что естественные законы, как они именуются у некоторых других созданий, существуют, однако у нас они утрачены по милости этого замечательного человеческого разума, который во все вмешивается и повсюду хочет распоряжаться и приказывать, но вследствие нашей суетности и непостоянства лишь затемняет облик вещей: ”Нам уже ничего не принадлежит {313} ; то, что я называю нашим, – понятие условное” (Опыты, II, XII).
ПАСКАЛЬ:
Кража, кровосмешение, дето– и отцеубийство – что только не объявлялось добродетелью! <…> Естественное право, разумеется, существует, но как его извратил этот замечательный человеческий разум: ”Нам уже ничего не принадлежит; то, что я называю нашим, – понятие условное. Преступления совершаются на основании сенатских решений и плебисцитов. Некогда мы страдали из-за наших пороков, теперь страдаем из-за наших законов” (Мысли, № 294).
МОНТЕНЬ:
Достаточно одного порыва противного ветра, крика в орона, неверного шага лошади, случайного полета орла, какого-нибудь сна, знака или звука голоса, какого-нибудь утреннего тумана, чтобы сбить человека с ног и свалить на землю. Одного солнечного луча достаточно, чтобы сжечь и уничтожить его (Опыты, II, XII).
ПАСКАЛЬ:
Ум верховного судии подлунной юдоли так зависит от всякого пустяка, что малейший шум его помрачает. Отнюдь не только гром пушек мешает ему мыслить здраво: довольно скрипа какой-нибудь флюгарки или блока (Мысли, № 366).
МОНТЕНЬ:
Если посадить какого-нибудь философа в клетку с решеткой из мелких петель и подвесить ее к верхушке башни собора Парижской богоматери, то, хотя он будет ясно видеть, что ему не грозит опасность из нее выпасть, он не сможет не содрогнуться при виде этой огромной высоты (Опыты, II, XII).
ПАСКАЛЬ:
Поставьте мудрейшего философа на широкую доску над пропастью: сколько бы разум ни твердил ему, что он в безопасности, воображение все равно возьмет верх (Мысли, № 82).
МОНТЕНЬ:
Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других – что в нас заключены две силы {314} , из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна – к добру, другая – ко злу, ибо резкий переход от одной крайности к другой не может быть объяснен иначе (Опыты, II, I).
ПАСКАЛЬ:
Эта двойственность человека настолько очевидна, что иные мыслители предполагали, будто в нас живут две души, ибо им не верилось, что одна-единственная личность способна на такие резкие и неожиданные переходы от чрезмерного самодовольства к безнадежному отчаянию (Мысли, № 417).
МОНТЕНЬ:
Ничто на свете не несет на себе такого тяжкого груза ошибок, как законы. Тот, кто повинуется им потому, что они справедливы, повинуется им не так, как должно (Опыты, III, XIII).
ПАСКАЛЬ:
Всего ошибочнее законы, исправляющие былые ошибки: кто подчиняется им потому, что они справедливы, тот подчиняется справедливости, им самим вымышленной, а не сути закона (Мысли, № 294).
ТИМЕЙ ЛОКРСКИЙ {315} :
Бог – это огромный круг, центр которого везде, а окружность нигде.
(NB Сознаюсь, что приписываю эту мысль Тимею Локрскому только на основании многочисленных свидетельств античных авторов. В тексте Платона я ее не обнаружил.)
ПАСКАЛЬ:
Сколько бы мы ни раздвигали пределы наших представлений, все равно мы познаем не сущее, а лишь его частицы. Вселенная – это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, периферия – нигде (Мысли, № 72).
БУАЛО:
Будь проклят сей творец, терзающий Палладу:
Насилуя свой мозг, он рифмовал без складу
И, плюща здравый смысл тяжелым молотком,
Премерзостных стихов наделал целый том.
Примечания
От составителя
В настоящий сборник вошли далеко не все библиофильские произведения Нодье; из огромного количества написанных им на эту тему работ отобраны те, которые, на наш взгляд, представляют наиболее общий интерес, затрагивают основные проблемы книжного собирательства и истории книги, содержат наибольшее количество занимательных и любопытных сведений из истории книжного дела и библиофильства.
Нодье упоминает в своих книгах и статьях мельком, без специальных разъяснений, множество книг и фактов, неизвестных русскоязычному читателю. Сведения о них (необходимый реальный комментарий, краткие библиографические описания упоминаемых книг и проч.) даны в примечаниях; сведения о лицах, упоминаемых в тексте, даны в аннотированном именном указателе (общеизвестные имена не аннотируются). В тех случаях, где это необходимо, примечания предваряет короткая преамбула.
При подборе иллюстраций использована книга: Devaux Y. Dix siècles de reliure. P., 1981.
Комментатор приносит благодарность П. Скобцеву за помощь в переводе латинских цитат.
Библиоман
Впервые: Париж, или Книга ста одного автора. 1831, т. 1. На рус. яз. в изд.: Сын отечества, 1834. Ч. 164. № 16 (пер. О. Сомова); Альманах библиофила. Л., 1929 (в пер. Л. Судаковой под ред В. К. Охочинского); Корабли мысли. М., 1980 (в пер. Е. Любимовой).
Франциск Колумна
Впервые – отдельное издание в феврале 1844 р. у Ж. Ж. Текне. Первый рус. пер. – Пчела. 1876. № 33. С. 2–7. Рус. пер. В. Мильчиной впервые: Корабли мысли. М., 1986.
Вопросы литературной законности
С XVII в. во Франции было в ходу выражение ”литературная республика”. Однако от настоящего государства эта ”метафорическая” республика отличалась почти полным отсутствием законности: законы, охраняющие авторские права, были приняты во Франции лишь в середине XIX в., а до этого автор, выпускавший в свет свое творение, был практически бесправен: если книга его пользовалась успехом, любой типограф и у него на родине, и в соседних странах мог немедленно ее перепечатать и заработать кучу денег (это были так называемые контрафакции – бич писателей и издателей); если книга попадала в руки к литературному противнику автора, тот мог переиздать ее в исковерканном виде, с издевательскими комментариями (так, например, поступил с историческим трудом Вольтера ”Век Людовика XIV” его большой враг Ла Бомель). Сочиняя свою книгу, Нодье не ставил перед собой цель выработать подлинное ”законодательство” для ”литературной республики”, он выступал лишь классификатором разнообразных случаев литературного воровства, но для того, чтобы лучше понять ”Вопросы литературной законности”, необходимо помнить о том состоянии книжного дела, которое явилось их питательной средой. Решает Нодье и две другие задачи: во-первых, напоминает читателям о многих забытых и малоизвестных авторах, чьи находки и открытия пригодились гениям изящной словесности; во-вторых, язвительно критикует литературную школу, в начале XIX в. еще весьма влиятельную, – школу, в которую входили приверженцы подражательного, выродившегося классицизма (так называемого ”пост-классицизма”). Благодаря этому ”Вопросы литературной законности” можно рассматривать как одну из книг, подготовивших триумф романтизма в конце 1820-х годов.
Однако, о чем бы Нодье ни рассказывал – о литературных заимствованиях и подражаниях, о забытых авторах или о бездарных стилизаторах, он всегда пользуется случаем познакомить читателя с множеством редких и малоизвестных книг, с их сложной судьбой, – что, собственно, и делает ”Вопросы литературной законности” книгой истинно библиофильской.
Первое издание вышло в 1812 г., второе – в 1828 г. Перевод выполнен по второму изданию.
Приложение
В. А. Мильчина Несколько слов о восприятии Нодье в России
Автор единственной специальной работы, посвященной восприятию творчества Ш. Нодье в России, Н. Мотовилова, писала: ”Нодье многосторонен, рассеян <…> Поэтому целостность образа легко дробится, представление суживается, и Нодье удобно укладывается в неправильные по своей неполноте и односторонности рубрики: ”Нодье – проводник чудесного элемента в литературу”, ”Нодье и Байрон”, ”Нодье-сентименталист в духе молодого Гете”, ”Нодье-Вертер” и т. д ” [89]89
Мотовилова Н. М. Нодье в русской журналистике пушкинской эпохи // Язык и литература. Л., 1930. С. 185.
[Закрыть]
Наблюдение очень верное. В самом деле, Нодье в России знали и переводили, причем среди этих переводов – сочинения самых разных жанров, от ранней фривольной повести ”Последняя глава моего романа” (1803; рус. пер. Петра Попова – СПб., 1806) и повестей сентиментальных (Адель, 1820; рус. пер. – СПб., 1836; Девица де Марсан, 1832; рус. пер. А. В. Зражевской – СПб., 1836; Клементина, 1831; рус. пер. в сб.: Рассказы и повести. СПб., 1835, ч. 1; и др.) до литературно-критических статей и философских эссе (Типы или первообразы в литературе, 1830; рус. пер. – Сын отечества, 1832. Ч. 147, № 7. С. 403–419; Что такое истина, 1836; рус. пер. – Московский наблюдатель, 1836. Ч. 6. С. 108–128 и др.); более того, перечень русских переводов дает далеко не полную картину знакомства с творчеством Нодье в России, ибо у многих читателей не было нужды дожидаться появления этих переводов; они читали Нодье в оригинале, и подчас еще не зная подлинного имени автора: ”Есть ли у вас «Jean Sbogar», новый роман, и не русским ли он сочинен? – писал П. А. Вяземский А. И. Тургеневу 20 октября 1818 г. – Жуковскому непременно надобно прочесть его. Тут есть характер разительный, а последние две или три главы – ужаснейшей и величайшей красоты. Я, который не охотник до романов, проглотил его разом” [90]90
Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 133. Тургенев отвечал, справедливо указывая на подражательный характер романа: «”Jean Sbogar” я читал и заплатил 10 р. за чтение, но экземпляра не имею: пришли. Последние главы и мне понравились. Впрочем, это Шиллеров Карл Моор, переодетый madame Krüdener, или тем, кто хотел подражать ей, прежде ее возрождения» (Там же. С. 137; Карл Моор – персонаж драмы Шиллера ”Разбойники”; Ю. де Крюденер – автор романа ”Валерия” (1803), затем – религиозная деятельница мистического толка).
[Закрыть]. В русской прессе появляются даже отклики на сугубо специальные труды Нодье – например, очень хвалебная рецензия на ”Начала лингвистики” в ”Журнале министерства народного просвещения” (1835, 4. 5, № 1. С 182–183).
И все же представления, связываемые в умах русских литераторов и читателей с именем Нодье, нельзя назвать определенными, можно лишь выделить некоторые доминирующие черты для той или иной эпохи.
В 1820-1830-е гг. Нодье ”подводится под общее заглавие писателя нового направления, романтика, известного главным образом как автора повестей и романов” [91]91
Мотовилова Н. М. Указ. соч. С. 188.
[Закрыть]; этот облик запечатлен в статье французского поэта и критика А. Фонтане (в транскрипции русского переводчика ”Фонтанея”), опубликованной на страницах ”Сына отечества” в 1832 г.: ”Г. Карл Нодье рассказывает о себе, раскрывает самого себя не только в своих Записках и Воспоминаниях, но и в Поэмах, в Романах, в Повестях: мы узнаем его во всех действующих лицах его творений; везде является он сам, со своими простосердечными наклонностями, со своею любезною ученостию; везде он сам со своею любовию к цветам и старым книгам. Все его герои и героини ботанисты, библиоманы, филологи, все они заговорщики, все изгнанники, все Поэты, все люди с душою восторженною и мистическою; иногда мечтатели; они понемножку все, что есть или чем был творец их” [92]92
Сын отечества, 1832. Т. 32, № 47. С. 122–123.
[Закрыть]
В конце 1830-х – нач, 1840-х гг. он выступает символом писателя ”старых правил”, противящегося превращению литературы в политическую или торговую сделку; так, по словам С. П. Шевырева, известного своей борьбой с ”торговым направлением” в словесности, ”литература изящная во Франции занимает весьма низкую ступень в жизни общественной. Она совершенно подавлена политикою и промышленностию. Все, что есть талантливого в литературе, все стремится на трибуну и жаждет славы политической <…> Скромному миру художественной литературы Франции остаются верны или писатели бездарные или немногие жрецы искусства, имеющие призвание поэтическое и не волнуемые бурными страстями государственного честолюбия. Сих последних, как Алфред де Виньи, Карл Нодье, очень немного” [93]93
Шевырев С. П. Взгляд русского на образование Европы // Москвитянин. 1842. № 1. С. 260–261.
[Закрыть].
Подобные представления о Нодье отразились в сочувственном портрете, который нарисовал в своей книге ”Париж в 1838 и 1839 годах” русский литератор В. Строев. Позволим себе привести этот портрет полностью:”Уж если пошло на стариков, так нельзя не заговорить о Карле Нодье, добром, милом, великодушном, про которого никто не может сказать ничего дурного. Завидна такая старость, утешенная лаврами, общим уважением и собственным сознанием спокойной, чистой совести. Нодье прошел через эпоху, которая на всех своих действователях оставила бесславные пятна; он спас свою репутацию и вынес ее чистою из революционной грязи. Преданный Бурбонам, Нодье написал оду против Наполеона и принужден был бежать в Швейцарию. Там скитался он много лет, без крова, без куска хлеба, ночуя в монастырях, роясь в монастырских архивах и библиотеках, и приобрел разнообразные, обширные сведения, которые доставили ему впоследствии славное имя. При возвращении Бурбонов и он возвратился во Францию; никогда ничего не просил, как другие эмигранты, и ничего не получил за долгие страдания, за свою непоколебимую преданность. Вступив в редакцию Журнала Прений, он посвятил перо делу законных монархов. Как политический писатель, он мало известен во Франции; но славится как романист. Нодье проникнут мыслию, что наша эпоха, прославленная такими успехами просвещения, ничем не лучше предыдущих, что наша цивилизация влечет за собою бедствия, новые нужды, не знакомые прежде человечеству. Он уверен, что Франция пошла по ложному пути и, под блеском учености, промышленности, скрывает новые раны, которых не было в века, менее просвещенные. Эта мысль проглядывает во всех его сочинениях, и особенно в Jean Sbogar.Нодье с ужасом и отвращением видит, что человечество стонет под цепями заблуждения или сомнения, между тем как гордые философы хвалятся открытиями, победами просвещения. Кто видел теперешнюю Францию, где священнейшие истины попраны, чистейшие чувства обращены в насмешку, благороднейшие обязанности преданы забвению; кто видел беспокойных французов, ищущих денег, перемен всеми средствами, даже незаконными, тот согласится с добрым Карлом Нодье, разделит его горе о будущей участи нынешнего французского поколения, которое выросло в крови, без закона, без доблестных примеров. Видя горькое положение общества, Нодье удалился от зла, живет в уединении, посреди семейства и старается дать ему доброе направление, счастливую участь. Он не заботится о Париже, но Париж читает до сих пор его романы, Сбогара, Трильби. Ученые уважают его, как натуралиста, грамматика и филолога, за издание трактата о слухе насекомых, лексикона, путешествия по древней Франции. Журналисты считают его отличным библиографом и критиком за издание священной библиотеки, собрания французских классиков, за критические статьи о Байроне, Ламартине, Жильбере. Стихотворения Нодье проникнуты тихою меланхолиею, непритворною грустию, которая проистекает из мысли его, что блеск и шум современного просвещения не доставляют массе человечества ни помощи ни отрады. Нодье не причастен французской односторонности; он не думает, что в мире один только народ – французы, одна литература – французская. Этот недостаток, общий почти всем французским писателям, не пятнает творений Карла Нодье. Он путешествовал, видел свет; знает, что вне Франции есть человечество, и не ограничивается своим отечеством. Нодье не умрет; он останется в истории французской литературы представителем верной, дельной мысли, к несчастию, слишком справедливой” [94]94
Строев В. М. Париж в 1838 и 1839 годах. СПб., 1842. Ч. 1. С. 185–187.
[Закрыть].
Так Нодье в восприятии русской публики постепенно превращался из певца романтического бунта против сословных и имущественных барьеров (”Жан Сбогар”) в борца против буржуазной современности в целом, причем рисуя этот образ, русский литератор активно использует и дополняет биографическую легенду, созданную самим Нодье.
Что же касается библиофильских сочинений Нодье, то история их русских переводов в первой половине XIX в. бедна; можно назвать лишь перевод ”Библиомана” (Сын отечества, 1834. Ч. 164, Т. 42. № 16. С. 533–553) и рецензию на ”Вопросы литературной законности”, или, в тогдашнем переводе, ”Вопрос, касающийся до судебной Словесности” (Сын отечества, 1828. Ч. 119, № 12. С. 394–402). Обе публикации принадлежат перу Ореста Михайловича Сомова (1793–1833). Собственно говоря, рецензия Сомова представляет собою перевод отклика (а точнее, краткого пересказа-реферата), извлеченного ”из одного лучшего французского Журнала”, поэтому мы приведем лишь ее финал, где Сомов сам характеризует эту ”любопытную и полезную книгу”:
”Предмет, изложенный Г. Нодье, заслуживает общее внимание не только во Франции, но и у нас, особенно с тех пор, как мы имеем закон о литературной собственности и правах Писателей, Высочайше дарованный нам в 22 день Апреля сего года в одно время с Цензурным Уставом. Теперь никто уже не осмелится безнаказанно присваивать себе чужие труды; а если и найдутся такие смельчаки, то они будут преследуемы законом. Желательно, чтобы кто-нибудь из известных наших Литераторов взялся перевести книгу г. Нодье, которой явная цель есть та, чтобы заклеймить в общественном мнении те литературные посягательства, кои, по сущности своей, ограждены от наказаний, полагаемых законами” [95]95
Сын отечества, 1828. Ч. 119. № 12. С. 401–402. Упоминаемый Сомовым цензурный устав 1828 г. был существенно мягче, чем предыдущий, принятый в 1826 г. (см. подробнее: Гиллельсон М. И. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978. С. 195–218).
[Закрыть].
* * *
Переводы из Нодье в XIX веке носят характер как бы случайный и не дают представления обо всех гранях творчества Нодье, прежде всего о его таланте фантаста и сатирика.
Положение не изменилось кардинальным образом и в нашем столетии. Переведен ”Жан Сбогар”; перевод В. Н. Карякина под ред. Е. А. Гунста вышел отдельным изданием в 1934 г.; перевод Н. Фарфель – в 1960 г. в составе сборника ”Избранные произведения” (переводы под редакцией А. Л. Андрес и А. С. Бобовича), куда вошли некоторые (преимущественно сентиментальные) повести; переведены в самое недавнее время – увы, с сокращениями – две важные литературно-критические статьи Нодье (О некоторых классических логомахиях; О фантастическом в литературе // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 404–412; Пер. Е. П. Гречаной), однако можно сказать, что подлинное знакомство русскоязычного читателя с Нодье – ”рассудительным насмешником”, ироническим парадоксалистом, язвительным наблюдателем, скептическим мыслителем, с тем писателем, которому Бальзак сказал: ”Вы бросили на наше время прозорливый взгляд, философский смысл которого выдает себя в ряде горьких размышлений, пронизывающих ваши изящные страницы, и вы лучше, чем кто бы то ни было, оценили опустошения, произведенные в духовном состоянии нашей страны четырьмя различными политическими системами” [96]96
Бальзак О. Собр. соч. в 15 т. М., 1952. Т. 5. С. 349.
[Закрыть], – это знакомство еще впереди.
В. А. Мильчина