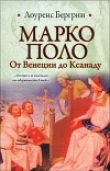Текст книги "Марко Поло"
Автор книги: Сергей Нечаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Ормуз
Как бы то ни было, корабли Хубилай-хана всё-таки пришли туда, куда требовалось, то есть в нынешний Оманский залив. В месте его перехода в Персидский залив находится остров Кешм. Это самое узкое место между двумя проливами.
Это значило, что наши венецианцы завершили, наконец, свое «кругосветное плавание» и добрались до города-порта Ормуза, лежащего в восьми километрах от Кешма.
И тут опять невольно возникает вопрос. От Цейлона до Ормуза – 3325 километров по прямой на северо-запад. Зачем же Поло нужно было делать огромный «крюк» к Мадагаскару, Занзибару и Абасии? Ведь это же почти девять тысяч километров, что удлиняет путь домой на пять с половиной тысяч километров!
Ответ на этот вопрос прост: скорее всего, они этот «крюк» и не делали. Именно по этой причине, кстати, Жак Хеерс называет их обратный путь «вымышленным кругосветным плаванием (periple imaginaire)»{377}. Вероятно, они просто проплыли вдоль западного побережья Индии и повернули в Оманский залив, не выходя за пределы Аравийского моря.
С другой стороны, В. Б. Шкловский в своей книге о Марко Поло пишет: «Корабли заблудились. Компас не помогал: капитан давно умер»{378}. И добавляет: «Я смотрел на карту морских течений и, кажется, понял, почему попал Марко Поло на занзибарский берег. Корабль, идущий почти без экипажа, увлечен был экваториальным течением»{379}.
Наверное, в XIII веке можно было заблудиться и так. Но как-то сомнительно, ведь корабли Хубилай-хана не были приспособлены для океанских переходов, и экспедиция явно должна была двигаться вдоль побережья.
Итак, корабли оказались в Ормузе. Как уже говорилось, путешествие по морю продолжалось 18 месяцев, и из шестисот человек, сопровождавших принцессу Кокачин, в живых остались немногие. В том числе только один из персидских послов по имени Коджа (Кожа), а также Никколо, Маттео и Марко Поло и монгольская принцесса.
Биограф Марко Поло Генри Харт отмечает: «Высадка в Ормузе ничем не напоминала те дни, когда венецианцы, стремясь добраться до Китая, по каким-то неведомым причинам отказались от мысли плыть из Ормуза на корабле. Теперь, когда Поло приехали в качестве послов великого хана, они взирали на город гораздо радостнее. Они любовались множеством кораблей, которые нагружались и разгружались у причалов Ормуза – тут были китайские джонки, персидские корабли всех типов и размеров, быстрые суда арабов – арабы постепенно захватывали в свои руки все морские торговые перевозки между Красным морем и китайскими берегами»{380}.
От себя добавим, что торговля с Индией и Китаем до открытия португальцами морского пути вокруг Африки осуществлялась исключительно через Ормуз, который в те далекие времена был ключом к Персидскому заливу.
«Главным предметом вывоза из Ормуза <…> и других пунктов в Индию, в обмен на индийские товары, были лошади»{381}.
Здесь было много европейцев: генуэзцев, пизанцев и венецианцев. Здесь звучали практически все языки мира: персидский, арабский, индийский, китайский… Все причалы в Ормузе были буквально завалены товарами: пряностями, финиками, изюмом, мускатным орехом, сандаловым деревом, всевозможными тканями, розовым маслом, сахаром, рисом и т. д.
В Ормузе путешественники узнали, что правитель Аргон к тому времени уже умер (возможно, он был отравлен врагами, и произошло это 10 марта 1291 года).
Как рассказывает сам Марко Поло, «Аргон умер, и невеста была выдана за Казана, его сына»{382}. Точнее, за Газана, который правил потом с 1295 по 1304 год (он был воспитан в буддизме, но впоследствии принял ислам и имя Махмуд).
Теперь венецианцы были уверены, что дело сделано и они могут, наконец, считать себя свободными от службы Хубилай-хану. Но их ждало жестокое разочарование: отпускать их никто не собирался. Более того, юная принцесса Кокачин стала кричать, что не останется одна в незнакомой и опасной стране, а раз она была принцессой – ее слово было равносильно закону. И сколько венецианцы ни умоляли, сколько ни обещали вернуться – всё было бесполезно…
Так наступил новый, 1294 год. А через несколько месяцев венецианцы узнали, что Хубилай-хан умер в своем роскошном дворце. Произошло это 18 февраля 1294 года, и ему было в тот момент 78 лет.
Когда точно Поло получили весть о смерти Хубилая – об этом можно только строить предположения. Как бы то ни было, они явно испытали чувство горя, но одновременно «они и радовались и поздравляли себя с тем, что избежали гибели, которая грозила бы им, останься они при дворе великого хана дольше. Благосклонная судьба не отвернулась от них и на этот раз, она умудрилась вновь спасти им жизнь и имущество в тот момент, когда они уже оставили всякую надежду добраться до родных краев»{383}.
В самом деле, теперь наши путешественники были свободны. Когда они прощались, принцесса Кокачин «на расставании горько плакала»{384}.
Кстати говоря, ее дальнейшая судьба достойна сожалений. Как отмечает Лоуренс Бергрин, «несчастная Кокачин, рискнувшая всем ради путешествия в далекую страну, умерла очень скоро, в июне 1296 года. Наиболее вероятное объяснение ее безвременной кончины – отравление противниками Хубилай-хана»{385}.
Перед отъездом венецианцев Гайхату (в некоторых источниках – Киакату или Квиакату), брат Аргона, правивший до самой своей трагической смерти 24 марта 1295 года[38]38
Он был взят в плен мятежниками и задушен. А затем его убийца Байду был схвачен и убит Махмудом Газаном, сыном Аргона.
[Закрыть], подобно Хубилай-хану, щедро одарил их, благословил и снабдил пропусками-пайцзами.
Охранные дощечки, как водится, были выполнены из золота: две из них украшали изображения кречетов, на одной был выгравирован лев, а четвертая была гладкая. На них было написано, чтобы их подателей всюду «почитали и служили им, как самому владетелю, давали бы лошадей, продовольствие и провожатых»{386}.
Тебриз
Генри Харт пишет: «Гайхату, вероятно, был тогда в Тебризе. Тебриз находился как раз на пути к домуг и уставшие после долгого плавания венецианцы были рады отдохнуть в этом сравнительно благоустроенном и спокойном городе»{387}.
Они «провели девять месяцев у Гайхату, и мы не знаем причины этого»{388}. «Может быть, – предполагает Генри Харт, – их по каким-то соображениям государственного порядка не отпускал Гайхату. Возможно, что они поджидали какие-либо отставшие суда, где были их товары или слуги. Не исключено, что из-за каких-нибудь военных действий караванный путь оказался закрытым и ехать было нельзя. Может быть, путешественники ждали писем из Венеции или других мест или болели. А может быть, все трое задерживались здесь по торговым соображениям: или представился случай округлить капиталы, чем пренебречь было невозможно, или требовалось обратить громоздкий товар во что-то такое, что было легче перевезти и укрыть от грабителей. Чтобы объяснить задержку венецианцев в Тебризе, можно брать любую из этих причин, ибо истинной причины мы не знаем и едва ли когда-нибудь будем знать»{389}.
От Ормуза до Тебриза – полторы тысячи километров, если двигаться на северо-запад. Ныне Тебриз – это четвертый по величине город Ирана, центр провинции Восточный Азербайджан. А в XIII веке это был большой торгово-транзитный центр, игравший важную роль в международной торговле.
Трапезунд
Казалось бы, от Тебриза до Средиземного моря – рукой подать. Но двигаться надо было на юго-запад. Однако наши герои пришли на северо-запад. Почему?
Генри Харт отвечает на этот вопрос так: «К сирийскому побережью, где венецианцы предполагали сесть на корабль и плыть в Италию, караванной дорогой ехать было нельзя из-за постоянных военных раздоров между Персией и Египтом. Пробираться к портам Сирии напрямик было бы безумием: ими владел в тот момент египетский султан. Поло избрали хорошо объезженный караванный путь, идущий гораздо севернее. В результате Марко заехал в совершенно новые для него земли, описание которых составило в его книге несколько интересных глав. Караван медленно двигался к Понту Эвксинскому (Черному морю. – С. Н.) <…> Здесь, вблизи Понта Эвксинского, с тех пор как человек появился на земле <…> Восток вечно вступал в соприкосновение с Западом, и они почти незаметно переходили друг в друга»{390}.
Так наши герои оказались в Трапезунде (нынешнем Трабзоне), городе на южном берегу Черного моря. Теперь это были просто «два старика да Марко Поло, которого здесь никто не называл господином. У города Трапезунда долго торговались и плакали, сговариваясь с капитаном о месте на палубе»{391}.
Почему плакали? Да потому, что на берегу Черного моря наших венецианцев постигла беда – их обворовали. Действие «пропусков», выданных им Гайхату (не говоря уже о «пропусках» Хубилай-хана), здесь закончилось. Точнее, здесь они никого не волновали вообще, а посему местные власти конфисковали у них многое из того, что у них было. Вернее, у них банально отобрали то, что венецианцы не смогли надежно спрятать. Как пишет Лоуренс Бергрин, «их лишили значительной части состояния, ради которого они рисковали жизнями и потратили два десятилетия»{392}.
Константинополь и Негропонте
В результате из Трапезунда путешественники кое-как добрались морем до Константинополя, из Константинополя – до Негропонте, то есть до острова Эвбея в Эгейском море. Ныне это территория Греции, а тогда это была венецианская колония. Точнее, в 1204 году, после падения Константинополя, этот остров был отторгнут от Византийской империи крестоносцами, а потом на нем при непосредственном участии западноевропейских рыцарей и Венеции возникла так называемая сеньория Негропонте (Signoria di Negroponte)[39]39
Название Negroponte в переводе с итальянского значит «Черный мост».
[Закрыть].
Из Негропонте они благополучно прибыли в родную Венецию, и было это в 1295 году от Рождества Христова. Так закончилась 24-летняя экспедиция Никколо, Маттео и Марко Поло. За это время они много раз оказывались на волосок от смерти, занимались торговлей и выполняли важные дипломатические миссии в разных странах. Они сильно изменились и их практически невозможно было узнать, ибо и одеждой, и манерами они больше походили на монголов, чем на венецианцев, да к тому же почти забыли родной язык.
Короче говоря, Марко Поло, его отец и дядя, сумевшие много лет быть своими в далекой империи Хубилай-хана, вернувшись в Венецию, обнаружили, что стали совсем чужими у себя на родине.
Глава десятая.
СНОВА В ВЕНЕЦИИ
Не ждали…
После почти 25-летнего отсутствия сорокалетний Марко Поло подошел к своему дому и постучал в дверь. Ее открыл незнакомый человек, равнодушно взглянул на него и спросил, что ему нужно.
Так гласит текст, опубликованный в 1557 году ученым-географом Джованни Баггиста Рамузио. Он, кстати, первым сравнил судьбу Никколо, Маттео и Марко Поло с судьбой Одиссея, вернувшегося на родную Итаку в обличье старика и увидевшего, что никто его не узнает. По словам Рамузио, все родственники были уверены, что Марко вместе с отцом и дядей давным-давно пропал на чужбине. Он же рассказал «о возвращении Поло в Венецию, одетых в лохмотья, но с драгоценностями, вшитыми в швы их татарских одежд»{393}.
Первым среди усомнившихся в личности прибывших был Маттео (Маффео) Поло, сводный брат Марко (сын его отца от Фьордализы Тревизан).
Возможно, они никогда не видели друг друга. Может быть, Марко видел брата лишь грудным младенцем. В любом случае, теперь они предстали совершенно чужими друг для друга людьми, ибо Марко отсутствовал слишком долго. Конечно, Маттео знал о существовании Марко, но он, как и многие, был уверен, что тот давно умер.
Кстати сказать, на случай внезапного возвращения путешественников в Венецию были предприняты определенные юридические меры. В частности, 27 августа 1280 года дядя Марко, носивший то же имя, написал завещание, назначив лицом, на которое возлагалось исполнение его воли по завещанию, Фьордализу Тревизан («…пока мои братья Никколо и Маттео не вернутся в Венецию, и только после этого они станут моими душеприказчиками»{394}).
Наверняка, диктуя эти слова, Марко Поло (старший) не мог быть уверен в том, что это когда-нибудь пригодится. Но в любом случае условия, предусмотренные в завещании, обеспечили и самому Марко, и его отцу Никколо, и дяде Маттео столь необходимое им законное положение в семье и в ассоциации венецианских купцов.
Легенды о пришельцах с Востока
Согласно одной из легенд, Маттео Поло (дядя Марко Поло), вернувшись домой, сразу же вступил в конфликт со своей женой, которая хотя и признала его, но не пожелала терпеть на нем его изрядно поношенных монгольских одеяний. Тот же никак не хотел с ними расстаться. Так вот, чтобы «не позориться» и избавить постаревшего мужа от его «лохмотьев», добрая женщина самовольно отдала их прохожему бродяге. Естественно, обнаружив пропажу, Маттео спросил, куда подевался его монгольский наряд, ведь в нем, под подкладкой… были зашиты драгоценные камни, привезенные с Востока.
Когда жена, прижатая к стенке, призналась, куда девала старую одежду, он принялся рвать на себе волосы от отчаяния, пытаясь придумать, как найти безвестного бродягу, завладевшего его состоянием. К счастью, Венеция была маленьким городом. На следующее утро он вышел к мосту Риальто, в самый центр венецианской торговли, и стал ждать. Рассказывают, что он принес с собой прялку и крутил ее весь день, повторяя одни и те же слова: «Он придет, даст Бог, придет!»
Конечно же появление в людном месте подобного «безумца» возбудило всеобщее любопытство. Но бродяга, завладевший драгоценностями, так и не появился. На следующий день Маттео Поло повторил свое «выступление» и на другой день тоже. И вот оно счастье – появился «тот самый» бродяга в поношенном монгольском кафтане! Увидев это, старик Маттео бросился на него, отобрал одежду и… с облегчением нащупал надежно спрятанные в швах камни. Его богатство было спасено, а злосчастный бродяга был отправлен пинками восвояси.
Джованни Баттиста Рамузио оставил нам еще одну легенду, которую он слышал, по его словам, «из уст Гаспаро Малипиеро, который жил напротив дворца Поло»{395}. Рассказ «великолепного мессира Гаспаро Малипиеро, старого господина, отличавшегося особой добротой и честностью»{396}, начинался с того, что венецианцы, имевшие отношение к семейству Поло, с недоверием отнеслись к личностям своих так долго отсутствовавших родственников. И, чтобы снять затянувшееся напряжение, Марко Поло, его отец и дядя решили пригласить всю родню на роскошный пир.
В результате все гости оказались на самом удивительном маскараде. Едва они расселись по выделенным им местам, появились «возвращенцы», и были они наряжены в длинные просторные одеяния из «малинового атласа», которые вскоре были «разорваны на куски и разделены между слугами»{397}. Потом Поло сменили одежду, представ перед собравшимися «в бархатном платье красного цвета»{398}. Всё это тоже было разорвано и роздано слугам.
Джованни Баггиста Рамузио пишет: «Затем они вышли в грубых одеждах, в которых они вернулись домой. После этого, взяв острые ножи, они начали вспарывать их полы и подкладки, извлекая оттуда в больших количествах рубины, сапфиры, карбункулы, бриллианты и изумруды, которые были зашиты в одежды так, что никакой человек не мог себе такого и представить. Дело в том, что, покидая великого хана, они поменяли все подаренные им богатства на множество изумрудов и других драгоценных камней, прекрасно понимая, что в долгом и трудном пути им не сохранить такое количество золота»{399}.
Короче говоря, если наши путешественники хотели произвести впечатление, то им это очень даже удалось. Их показательное выступление ошеломило гостей и, главное, произвело должное впечатление.
«Те, в ком они прежде сомневались, – пишет Джованни Баггиста Рамузио, – на самом деле оказались почтенными и достойными господами из рода Поло, и им воздали великую честь и почтение. И когда об этом стало известно во всей Венеции, так же стали поступать все – и простолюдины, и благородные люди начали стекаться к их дому, чтобы обнять их, осыпать ласками и продемонстрировать привязанность и почтение, какие только можно вообразить»{400}.
Как видим, рассказ Джованни Баггиста Рамузио заканчивается вполне благополучно. После этой «демонстрации» Никколо, Маттео и Марко Поло стали пользоваться заслуженным уважением своих сограждан, но при этом особенное внимание доставалось Марко. «Все молодые люди каждый день приходили к нему и беседовали с мессиром Марко, – утверждает Джованни Баггиста Рамузио, – а тот был со всеми обаятелен и милостив. Его расспрашивали о Катае и великом хане, а он отвечал с такой добротой и вежливостью, что все чувствовали себя ему в какой-то мере обязанными»{401}.
Политическая ситуация в Венеции
К тому времени, когда наши путешественники вернулись домой, в Венеции, ставшей образцом крупной морской державы, далеко вышедшей за пределы города, под покровом мирной жизни скопилось довольно сильное напряжение.
Историк Джон Норвич в своей «Истории Венецианской республики» пишет: «При такой мучительно сложной системе кажется странным, что вообще кого-то выбирали, но 13 июля 1268 года, всего через шестнадцать дней после смерти предшественника, был избран Лоренцо Тьеполо»{402}. Он стал 46-м дожем Венеции. И при этом он был сыном 43-го дожа Джакопо Тьеполо.
На этот счет мы имеем свидетельство Мартино да Канале, автора «Венецианской хроники» и очевидца тех событий; так вот он не упустил случая описать перезвон колоколов на соборе Сан-Марко и толпу народа, собравшуюся на центральной площади города. Люди окружили нового дожа и «срывали одежду с его спины» – традиция разрешала это им делать (так дожу давали понять, что он «лицо подчиненное и милосердное»). Дож босиком подошел к алтарю, дал клятву, и ему вручили знамя Святого Марка, покровителя Венеции. Затем на него надели новое платье и торжественно пронесли вокруг площади. Новый дож при этом разбрасывал монеты и обращался к своим подданным…
Тем не менее правление Лоренцо Тьеполо, бывшего дожем, когда Марко Поло отправлялся в путешествие, ознаменовалось множеством несчастий: сначала, в 1268 году, Венецию охватил голод, и резко подскочили цены на все продукты питания, затем начались проблемы с соседями. Примерно в то же время республика ввязалась в трехлетнюю войну с Болоньей, и эта война быстро поглотила многие более мелкие города и сельские районы. Неудивительно, что отношения Венеции со всей северной частью Италии сильно испортились.
Дополнительный ущерб нанес отказ Венеции помочь церкви в войне «Сицилийской вечерни», то есть в продолжительной борьбе сицилийцев против власти Карла Анжуйского, брата французского короля Людовика IX Святого. В этой борьбе, длившейся с 1282 по 1302 год, погибло много людей[40]40
Существует легенда, будто лозунгом восстания была фраза «Morte Alia Francia. Italia Anela» («Смерть Франции. Италия вздохни»), аббревиатура которой послужила появлению слова «мафия».
[Закрыть].
В отместку за это церковь в 1284 году приняла жестокие меры – отлучение. И в соборе Святого Марка замолчали колокола, а все религиозные обряды венецианской жизни (венчание, отпевание и даже крещение) были запрещены. «Зима прошла без празднования Рождества. Затихшая, покаянная Венеция, казалось, волей Бога была превращена в мрачное чистилище»{403}.
Но, как отмечает Джон Норвич, всего «за семьдесят лет XIII века Венеция заявила о себе как о мировой державе. Сначала республика обрела огромные территории на Востоке, разбогатела и укрепилась, затем утратила эти земли и, наконец, снова их вернула. Более важным было то, что за эти десятилетия пришли в упадок обе империи – Восточная и Западная. Византийская империя Палеологов, хотя и просуществовала еще почти два столетия, но так и осталась государством, из последних сил отбивавшимся от врагов»{404}.
Большую часть времени из тех семидесяти лет Венеция сражалась. Она потеряла очень много людей и кораблей. И вот теперь получилось так, что соседи, от которых она зависела и в плане торговли, оказались «настроены в большей или меньшей степени недружелюбно»{405}.
Короче говоря, для республики начались тяжелые времена.
Простые венецианцы винили в упадке всех и вся, но прежде всего несколько высокопоставленных семейств, которые еще больше обогатились в годы обрушившихся на Венецию испытаний. В первую очередь ответственность возлагали на клан Дандоло, представитель которого – Джованни Дандоло – был 48-м дожем в период с 1280 по 1289 год.
В промежутке дожем был Джакопо Контарини, и в период его правления стало особенно очевидным ошибочное поведение Венеции по отношению к другим крупным городам. К тому же в 1274 году, на церковном соборе в Лионе, папа Григорий X, избранный за два с половиной года до этого, провозгласил Михаила VIII Палеолога, захватившего Константинополь и изгнавшего оттуда Балдуина II, императором, а тот, в свою очередь, признал папскую власть.
В конечном итоге Венеция дорого заплатила за свою гордыню, и в марте 1280 года Джакопо Контарини вышел в отставку – или, если точнее, его отправили на пенсию.
Преемник Контарини, Джованни Дандоло, представляет собой одну сплошную загадку. Несмотря на знаменитое имя, никто ничего не сообщает о его прошлом, за исключением того, что он много воевал и на момент выборов находился за границей.
Джованни Дандоло, 48-й венецианский дож, правил девять лет и умер 2 ноября 1289 года, оставив в память о себе золотой дукат, впервые выпущенный в обращение в 1284 году.
В «Истории Венецианской республики» Джона Норвича читаем: «Но как бы ярко ни сияли его дукаты, глаза венецианцев они не ослепили: те видели, что прошедшие двадцать лет не были для них удачными. Венецианцы потерпели несколько поражений на суше и на море, потеряли много кораблей и людей. Им довелось в бессилии наблюдать, как враг подошел к самой лагуне. <…> Главная колония, Крит, снова бунтовала. Венеция пострадала от церковного отлучения, от ужасов землетрясения и наводнения, и, хотя преемник папы Мартина в 1285 году снял отлучение и последствия, вызванные природными катаклизмами, были в значительной степени устранены, надежд на лучшие времена венецианцы не питали»{406}.
В результате правление Джованни Дандоло спровоцировало массовые протесты в городе. Площадь Святого Марка закипела шумными выступлениями в поддержку конкурирующего семейства Тьеполо, которое якобы поддерживало демократические традиции республики. Таким образом, Джакомо Тьеполо, сын 46-го дожа Лоренцо Тьеполо, невольно оказался в положении вождя республиканцев.
Очередной Тьеполо, как утверждает Джон Норвич, «мог бы стать отличным дожем. Однако у него имелось два крупных недостатка. Во-первых, что парадоксально, он был востребован народом. Если бы он унаследовал пост, даже в результате установленного выборного процесса, люди сделали бы вывод, что их манифестация достигла цели, и стали бы выдвигать другие требования и далее пытаться повлиять на политическую ситуацию. Осторожные советники не хотели открывать толпе такую возможность: это стало бы угрозой для всей выборной системы. К счастью для них, имелось и другое возражение против кандидатуры Тьеполо, и его сторонникам трудно было бы это оспорить: он был сыном и внуком бывших дожей. Возобладал традиционный страх перед наследственной монархией. Тот факт, что его семья была старинной и высокопоставленной, одной из case vecchie (старых домов. – С. Н.), только усилил потенциальный риск»{407}.
Джон Норвич констатирует: «За шестьдесят лет три дожа Тьеполо – явный перебор. С этим, кажется, был согласен и сам Джакомо. Чтобы не порождать дальнейшие разногласия, он удалился на свою виллу на материке»{408}.
А потом имела место попытка государственного переворота, и инициатором ее стал Бьямонте Тьеполо, родственник того самого Джакомо Тьеполо, «который был выдвинут демократическими слоями населения Венеции на пост дожа в 1289 году, но был побежден ставленником патрициата – Пьетро Градениго»{409}.
Таким образом, с Тьеполо было покончено, и 25 ноября того же года 49-м венецианским дожем стал Пьетро Градениго.
А Венеция тем временем всё быстрее клонилась к упадку.