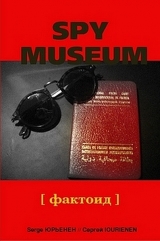
Текст книги "Музей шпионажа: фактоид"
Автор книги: Сергей Юрьенен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Но заковыченная корпорация имела в Париже свое бюро. Оттуда мне позвонили в понедельник, прочитав в «Фигаро-диманш» декларацию молодого московского писателя.
Это было в 7-м аррондисмане. Авеню Рапп, 20. Генерал Рапп, кстати сказать, герой Бородино. Но помню, как, перейдя ветреную Сену по мосту Альма, я вышел к устью роскошной перспективы и ухмыльнулся, прочитав название проспекта аббревиатурно: как РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей.
А на подходе было и авеню Франко-Рюсс – уводящее вправо, к Эйфелевой башне. Тоже было прочитано, как знак, сжимающий горло сознанием необратимости времен.
Но в том, что касается РАППа, ассоциация моя попала прямо в цель. Бюро «Свободы» оказалось не столько подрывной американской точкой, сколько клубом русских писателей в Париже. Даже пролетарскость – и люмпен-пролетарскость – их была неоспорима – за исключением разве что Виктора Некрасова, человека эпохи Большого стиля, любимца Сталина и несомненного аристократа.
Мало того, что дверь была параноидально неприступной. Аристократической внешности дама меня долго не впускала; в длинных морщинистых пальцах дымился голуаз без фильтра. Параноидальная румынка так доставала Чаушеску, что по его приказу ее постоянно избивали на улицах Парижа. Но это я уже знал. Румыны – бьют.
А наши?
В студии на седьмом и последнем этаже прекрасного дома «арт нуво» и состоялся мой первый опыт гласности – с опережением Москвы на десять лет.
Горло никак не разжималось. Режиссер моего государственного преступления – возможно, родственник «Мисс Мэнд», советской писательницы, под старость лет поехавшей на еврейском происхождении Ленина, – то и дело отключал запись и давал советы.
Но нет. Опять фальстарт.
Голос заклинило.
Я смотрел на микрофон со страшной надписью Radio Liberty, он был забран сеткой и на эмалированном чугунном пьедестале; я представлял себе беспредельную, уходящую прямо во Вселенную завьюжено-темную страну миллионов жадно-пылающих ушей, обращенных к приемникам, прижатых к транзисторам. Изо всех сил я повторял попытку к ним обратиться. Но тут же провидел то, что произойдет. Необратимые последствия. Площадь Дзержинского. Старую площадь. Кремль. Громады тоталитарных зданий. Радиоперехват, который ложится на стол Председателя Комитета государственной безопасности СССР, а затем на полированные столы членов Политбюро во главе со «вторым» нашим Ильичем, который насупливает бровеносо свое незлое в общем-то лицо. – Это что же у нас, Юрий Владимирович, получается? Мы творческой молодежи идем навстречу, а молодежь? – Наш недосмотр, Леонид Ильич. Будут приняты меры. – Да уж извольте. Чтоб неповадно было…
Силясь разжать голосовые связки, я знал, что держит меня за горло страх. Ноль без палочки, никто, а теперь к тому же отщепенец, я собирался бросить вызов выживающему из ума «Коллективному Разуму». Взять на себя за это всю ответственность. Это просто жизнь на карту. И если бы только одна моя. Волны адреналина так и омывали сердце и то, что в черепной коробке. В такие игры еще я не играл. Функшпиль покруче, чем «русская рулетка».
За стеклом режиссер отложил свою по-сталински изогнутую трубку. Скрылся в коридоре. Вошел в мою звуконепроницаемый вакуум с затянутой в кожу фляжкой:
– Un calva?
– Мерси, – принял я серебряную пробочку, шибанувшую яблочным хмелем. – Вы часом не внук Мариэтты Сергеевны?
– Все спрашивают… Нет. Однофамилец.
Я выпил.
Крутанул барабан. Приставил ствол к виску и выстрелил.
И все потом пошло, как по маслу. Мне заказали «скрипт». Приняли заявку и на серию. Не успел я оглянуться, как стал фрилансом и всеобщим любимцем парижского бюро, что, надо думать, отражало заочные чувства высшей инстанции.
Мюнхен.
Возможно, в Западной Германии, где город на Изаре называют «тайной столицей», слово «Мюнхен» и звучит, как музыка. Но не под Эйфелевой башней [которую мы с Виктором Некрасовым рассматривали на перекурах с балкона парижского бюро, можно сказать, в упор (но надо было высунуться за грань стены на авеню Монтескье)]. И не в отдельно взятом моем сознании, по которому с первых его проблесков начали долбить про Гитлера, про Путч и Сговор, про Столицу Движения и про Дахау – инфернальную базу Оплота Реакции Франца-Йозефа Штрауса и Осиного Гнезда, которое под эгидой ЦРУ свили себе окопавшиеся здесь, у Английского парка, пауки в банке.
Под Эйфелевой башней, где я сумел продержаться на плаву не много, не мало, а целых семь лет, меня все убеждали, что пресловутые мюнхенские «пауки» – отнюдь не только лишь метафора советской контрпропаганды. Но запугать аранхо-фобией меня не удалось.
Переехав на работу в Мюнхен, нашел я, что всё здесь далеко не столь ужасно, как это представлялось.
Ужас был в другом.
В том, что на рынке бытия свободу и Париж я обменял на это…
С точки зрения парижанина, каким я стал незаметно для себя, вокруг царил тотальный ужас и бруталитет. Невероятно, что когда-то – в Союзе ССР – такой хичкоковской музыкой звучали сами эти слова: Западная Германия… Бавария… Мюнхен…
Афины, так сказать, на Изаре.
Первое время, впрочем, отчетливо – глаза при этом округлив – я видел в Мюнхене только дантиста, который со всей мускульной энергией трудился над ликвидацией последствий нашей парижской нищеты. И все же просто невозможно было представить, что у этих лимитрофных стран есть общая граница. Что до Парижа ночь на поезде, а лёту – полтора часа. Со всей моей предупредительностью, толерантностью, учтивой деликатностью я чувствовал себя, как на другой планете. Казалось бы, тоже была просвещенная монархия. Но почему никого не просветила? Почему всё осталось таким грубым, неотесанным? И нельзя сказать, что благорасположенным к чужакам.
В Париже одна оккультная особа, сумрачная квартира которой на бульваре Бомарше была заставлена бюстами Ленина, доказывала мне, что весь в целом Мюнхен, где совсем не случайно в расцвете творческих сил умер Фассбиндер, есть геопатогенная зона. Да! Узел страданий, завязанный энергетическими линиями. Что предъальпийские геолого-тектонические особенности, платформа, кора, сама его почва, пресловутый Boden, на котором город возник, благодаря пивным монахам темного средневековья, – есть источник безумия, воплощенного в истории общеизвестными фактами, событиями и личностями – от сумасбродных баварских королей с их сказочными замками до Гитлера «и его» – указывая мне на полчище посеребрённых лысых бюстов.
Особа, конечно, очень хотела, чтобы мы, друзья дома, остались в Париже, но сейчас, изнутри «зоны», я не мог не признать, что в ее страстном мракобесии было рациональное зерно.
Помимо почвы, здесь был зловредный Föhn, задувающий с альпийских высокогорий. Фён… Одного этого достаточно, чтобы сойти с ума. Во всяком случае, именно этот сухой и теплый ветер, зимой создающий иллюзию весны, а круглый год – хорошего климата, выдвигал в качестве мотива для своего героя-убийцы Ингмар Бергман в своем единственном мюнхенском фильме, снятом здесь во время самоизгнания из-за налогов: Aus dem Leben der Marionetten, «Из жизни марионеток», – естественно, самом кровавом в фильмографии шведского гения. Где, скажите на милость, где еще в Западной Европе клиент, перед тем, как овладеть проституткой, способен ей перерезать горло?
Я никого не убивал.
И даже не ходил к проституткам, хотя приехал в Мюнхен раньше жены и дочери. Но был всецело не в себе. В газете прочитал про географию западноевропейского счастья. По результатам опросов выходило, что в самой счастливой стране Ирландии мне делать было нечего, а в самую несчастную уже приехал.
Отчуждение, твердил я по-французски, как будто сам звук слова мог помочь. Алъенасъон, алъенасъон… Свое состояние я объяснял то депрессией, мной незаметно овладевшей, то чисто геофизическим синдромом заброшенности в чужую и чуждую среду, то просто сигаретами, которые, несмотря на их американские названия, оставались мало того, что лицензионными, но стали еще и скверно-немецкими, в результате чего я был вынужден вернуться к черному французскому табаку «житанов»: чуть что, чуть минимальный стресс, и я уже хватаюсь за родную черно-синюю пачку с цыганкой, танцующей фламенко.
Признать ошибку и вернуться? Но уехал я ведь тоже не случайно. Прекрасное слово номбрилизм. Самоупоенность концентрации Парижа на собственном пупке. Не столько нищета меня пугала, сколько парижская оторванность от мира за пределами хорошо еще если «Гексагона», как называют в Париже Францию, но, как правило, просто кольцевой дороги Пе-риферик. То тоскливое чувство безысходности, которое возникает у фрустрированного космополита в отдельно взятой могучей монокультуре – других знать особо не желающей.
Нет.
Возможно, любимая страна у Бога, но французский рай я потерял, и надо нести дальше крест самоизгнания. Здесь, в Западной Германии, во всяком случае, имеет место свой космополитизм – пусть и в навязанной ей форме американского присутствия.
Все это было, разумеется, несправедливо. Чистой воды субъективизм, и Дойчланд, Дойчланд – юбер аллее. Пройдет жестокосердное западноевропейское время, и, оказавшись на планете, по-настоящему другой, иной нешуточно – по kidding! – я даже буду впадать в германофилию – да, всякий раз после первого глотка импортного Weiss-Bier, а также, что происходит много реже – раза два в год – наведываясь в отдаленный городок, где есть германо-швейцарский продовольственный магазин и – с предвосхищением вурстов – вспоминая, какие в Мюнхене были голландские селедки, а красное французское вино – начиная с пять марок:
– И знаешь что, шери? Вполне уже можно было пить!
Депрессия была там или нет, но я в нее не «впадал», что подразумевает пассивно-лежачее состояние. Я нес ее, поднимая своим скелетом в полный рост. Каждое утро напротив дома садился на конечной в трамвай Нумер Цванциг, брал с соседнего сиденья использованный «Бильд» и, стиснув зубы, ехал к Английскому парку на работу.
По дороге я каждое утро находил в газете свидетельства правоты парижской ведьмы. Местные изуверства отличались изысками. Домовладелец держал в подвале раба, закованного в цепи. Известный хирург-ортопед забавлял себя, причудливо сшивая мускулы и связки лыжникам и легкоатлетам. Первое время также удивляли голые аборигены. Совершенно нагие, дрожащие и сиреневые от холода подростки обоего пола. Не давая мне сойти, вся эта мюнхенская босота и нагота ломилась в трамвай на остановке «Тиволиштрассе», куда они с риском для жизни приплывали издалека, из-под самого гитлеровского Дома искусств (Haus der Kunst) на Принцреген-тенштрассе, по притоку Изара, который исходил ледяной кипучей яростью в русле, проложенном параллельно рельсам того трамвая.
Говоря о «банке с пауками», тут несколько помогало, что мнил я себя, скорее, энтомологом, подобно Кафке, прежде всего изучающим паука-в-себе. Так что, будучи уже не вольным стрелком-фрилансом, а штатным сотрудником, стаффе-ром, я пребывал в определенном отрыве от реальности, всеми силами поддерживая этот свой зазор, будто на самом деле был не ландскнехт, не профессиональный антисоветчик, не клеветник, не диверсант, a writer-in-residence, как водится в настоящей Америке, в Америке американской: если уж не пи-сатель-при-университете, то писатель-в-присутствии.
Фантазия, за которую я хватался, давала право на отсутствие – чисто внутреннее. Не то, что бы впал в рассеянность, как Паганель. Просто ничего не замечал. Потом сквозь всё застилающую пелену отчаяния по поводу своей погубленной жизни стало проступать. Нет, далеко не все. Потому что был я избирателен в том, что себе показывал. Но кое-что просто бросалось в глаза.
Так, к большой моей досаде, невозможно было избежать ежеутренного вида на туго обтянутые и тесно сжатые – лезвия не вставишь, говорят во Франции – половинки зада, которым, опередив меня, усиленно работал вчерашний советский паренек с разболтанными конечностями. Анус зажат так, как будто и на Западе в нем продолжала действовать программа самозащиты от внезапной агрессии с тыла; все же прочее – как без костей. На финишной прямой он не курил, а дергал. Коротко и часто вырывал затяжки. По протекции всемогущего Поленова, этот бывший малолетка стал одним из моих коллег. Мало того. Каждое утро меня обгонял, что добавочно снижало мою самооценку.
Были и менее яркие персонажи, от вынужденного созерцания которых просто нельзя было сохранить joie de vivre. Какая там радость жизни! Не впасть бы в мизантропию.
Никто мне здесь не нравился. Ничто. Все отвращало. Оскорбляло чувство прекрасного.
Недоучел я этот момент при выборе «Свободы» – а ведь был решающим, когда выбирал свободу без кавычек.
А всё потому что не Париж. Несмотря на все мои к нему претензии, жил я там среди писателей, поскольку непишущие люди меня занимали мало, а если с последними, жену сюда включая, и возникали межличностные отношения, то я пытался убедить их взяться за перо.
И вот на этом фоне в тонах почти трагических возникла одна дама, которая к месту работы приезжала на такси.
Обычно то был светло-бежевый мерседес, большой и тяжелый, с особо укрепленными бамперами спереди и сзади, – и не обычно, не как правило, а, независимо от таксиста, всегда был мерседес, поскольку таксомоторы других автомобильных марок просто неприняты в городе, который на пару с Цюрихом образует тандем самых богатых городов Западной Европы, а к тому же свято блюдет традицию гомогенности в чем только можно. Раз такси, то будут мерседесы, и притом светло-бежевые. Чтоб никакого разнобоя. Так решает Мюнхен – в отличие от своего швейцарского жирного близнеца, и не говоря уж о Париже, приветствующем разнообразие – difference – в чем только можно.
Здесь нет. Здесь не Париж, как сказано. Унификация всего. Однородность, однотипность. Выталкивание того, что чуждо.
Как они нас терпели?
Интернационал на краю Английского парка? неважно, что не коммунистический, а совсем наоборот. Биологическую разносортицу кож, рас и организмов? И не где-нибудь, а прямо в Английском парке супротив освященной двумя столетиями, разбомбленной американцами, но скрупулезно восстановленной их деревянной Хинезишер-турм, пятиэтажной Китайской башни, где бухают литавры духового оркестра, где ароматы жареных свиных ребрышек и белой редьки, нарезаемой гирляндами, овевают биргартен на семь тысяч посадочных мест и пивом НВ, что значит Хофброй, освященным еще Лениным и Гитлером.
А терпели (если нужен ответ на риторический вопрос), только благодаря освободителям от нацизма, которые буквально выпестовали здесь, в бывшей столице бывшего движения, относительную толерантность.
Дама пользовалась уважением у ленивых церберов частной охранной службы, которые сиживали в сторожевом «стакане» форпоста. Автоматический шлагбаум немцы поднимали перед всеми машинами, но выбегали наружу только к ее мерседесу. Такси описывало полукруг, вставая перед тремя березками на газоне – так, чтобы задняя дверца пришлась прямо на дорожку, ведущую к крыльцу, а охранник эту дверцу перед ней распахивал. Возможно, дама была влиятельной. Или сочувствие к недугу?
Неспешно рассчитавшись, выходила дама палкой вперед – алюминиевой палкой с резиновым набалдашником и удобным, с мягкой прокладкой, упором для предплечья.
Сказать «со следами былой красоты», было бы, пожалуй, преждевременно; пусть возраст, но дама была привлекательна. Большие, слегка навыкате глаза, романтически-синие, а в краткой улыбке благодарности, которую она дарила счастливому стражу, было нечто от той высшей, и я бы даже сказал единственно западной цивилизации, которую мне пришлось покинуть (ибо в своей конечной, квинтэссенциальной взвеси Запад – это только, единственно и исключительно Париж.
Dixit!).
Неизменно хорошо одета. И не в местном бюргерско-баварском смысле, а опять-таки в элегантно-парижском – даже когда на ней был только темно-синий плащ с погончиками и хлястиком, брюки и сапоги. Не без тенденции к плотности, но держащая себя в форме дама, которая могла поломаться где-нибудь на лыжах в Альпах.
Глядя ей вслед, всецело допускал.
Но время шло, а переломы не срастались, и церемония высаживания повторялась – палкой вперед.
Во время одной из них, подходя с улицы к проему входа, я замедлил шаги, чтобы предоставить даме все необходимое пространство и в который раз задал себе вопрос: кто посадил у входа на «Свободу» эти якобы ностальгические березки? Не иначе, как американцы. Кто же еще? В тщетной попытке угодить русской душе…
– В чем-в чем, а в геронтофилии тебя бы я не заподозрил, – сказал нагнавший меня в этот момент Наум. – Нет-нет, – спохватился он в ответ на взгляд, – Летиция, конечно, факэбл. Но на пределе. Как у вас в Париже говорят? А ля лимит?
– Летиция зовут?
– Заранее знаю, что ты скажешь… Да! Как героиню «Искателей приключений». Боже, как любил я Шимкус!..
– Кто же не любил… Француженка?
– Белогвардейская. Доца первой волны.
– А здесь кем?
– Да мелкая сошка в Русской службе. Кстати сказать, old flame[3]3
Бывшая любовь (англ.)
[Закрыть]и.о. их главного редактора.
И.о. я знал и удивился несовместностью с ним этой дамы:
– Имеешь в виду Поленова?
– Доколенова, ага…
Впервые я проявил к кому-то интерес. Мы были погружены тогда в Союз Советских, как в самих себя. Всецело, как уходят в астральный полет, или в ТМ – трансцендентальную медитацию. Теоретически я сознавал, что нахожусь в уникальном месте, где людей неинтересных нет по определению, что подтверждала и советская пропаганда: изменники, предатели, пособники… Но ни эти люди, ни их увлекательные судьбы, ни то, что творилось у нас под носом, нас не занимало; меня же еще меньше, чем коллегу Наума, который поневоле находился «в теме». Его предприимчивая Рита пыталась создать свой бизнес, независимое машбюро для обслуживания нарастающих потребностей Русской службы в распечатках магнитных лент. Через Риту и приходили вести «сверху», с первого этажа, где как раз в тот момент происходила очередная буря в пресловутой «банке»: вновь падало американское начальство, чем никого не удивишь. Только на этот раз по причине сверх-скандальной, какой явились вышедшие в мировую прессу предположения в потворстве антисемитизму. Мне самому, как бывшему парижанину, пришлось давать интервью присланному к нам для расследования корреспонденту французской «Монд», и чувствовал я себя при этом нелегко.
Буквально накануне я оказался очевидцем весьма сомнительной выходки со стороны одного из наших коллег, аналитиков старшего поколения и ветеранов войны, познавших ее с обеих тоталитарных сторон. Этот человек по фамилии Гужев занимался Советской Армией, кадровый состав которой знал поименно, начиная чуть ли не с младших лейтенантов. Собственноручно вел картотеку в длинных деревянных ящичках. Надев старомодные очки, день начинал свой с проработки «Красной Звезды». Периодически в наш общий кабинет (из которого я вскоре съехал напротив), являлся его сослуживец по РОА, но, видимо, младше чином; раскладывал свое хозяйство и стриг господина аналитика под бокс – не механической машинкой, а ручной. Должно быть, было больно, не могло не быть. Но Гужев все терпел. Сидел при этом на стуле, вынесенном в проход между столами. Окутанный простыней, небрежно заткнутой под ворот. Полевой парикмахер пытал его не молча, а с шутками и прибаутками а ля Василий Тёркин, но Гужев молчал. Не реагировал даже лицом. Злые языки (как будто они бывают добрые) приписывали нашему с Наумом коллеге хобби более чем странное. Якобы по ночам он с сыновьями, произведенными и выращенными уже в Западной Германии, выходит в Английский парк охотиться на приверженцев однополого секса. Такой, мол, фамильный подряд. Семейная айнзацгруппа, вооруженная баварскими охотничьими ножами: берешься за шерстяную ножку с копытцем. Но что конкретно они делали, выходя, в соответствии с нравственным кодексом Рейха, «на пидарасов»? Просто разгоняли, разнимая, в случае обнаружения контакта? холодным оружием потрясая для убедительности? Потому что вряд ли убивали. Я бы обратил внимание. В трамвае просматривал локальную жёлтую прессу: сообщений о подобных – малозатейливых – бруталитетах не было. И я всё эти сплетни делил более, чем надвое, пока однажды перед концом рабочего дня ко мне вдруг в полном ужасе не вбежал Наум с «Литературной газетой», распластанной на груди, и я, вскочив навстречу ему из-за машинки, оказался лицом к лицу со стариком. Подсвеченный люминесцентным светом коридора, Гужев, собравшись воедино, наступал по пятам беглеца, шипя при этом: «Кыш… кыш-ш-ш… унтерменьш-ши…» Образ противника коллега наш малоразличал, переключившись сразу на меня. Свинцовые глазки неподвижны, физиономия с налипшим чубчиком сжата, как третий кулак, весь налит недоброй силой, в любой момент готовой перейти в аксьон, так сказать, директ… – Вам бы домой, господин Гужев… Вызвать таксомотор?
Выброс эмоций на это был таким, что я едва успел, шагнув назад, захлопнуть дверь, на которую из коридора обрушились кулаки ветерана иных времен: «Заели – не продохнуть! Давить!..»
Уставши, пнул дверь, пообещав, что сейчас «с ребятами» вернется.
Наум развел руками. – Таким явился из кантины. Наверно, пенсионеры напоили. Я читал статью в «ЛГ»… этот Иона, какая все-таки сволочь этот Иона, скажи? Говорят, полковник… Да, так этот как вошел, так сразу сзади и накинулся. Я ему: «Иван Васильевич? Иван Васильевич?» А он…
– Совершенно охуевши он, Иван Васильич… Настоящее, думаешь, имя?
– Развед-псевдоним Сталина? Да Боже упаси.
– Интересно, как зовут на самом деле.
– Да хоть Иосиф. Хрустальный нож всегда за сапогом.
– Да, блядь, – ответил я на это. – Россия зарубежная…
И это был только отголосок. Подлинные страсти борьбы между «космополитами» и «патриотами» клокотали там, над нами, на авансцене Русской службы. Мы тут, полуподвальные мозговики, наслаждались, можно сказать, невовлеченностью…
– Ладно, нет худа без добра. Как раз хотел обсудить с тобой темплан, – сказал Наум, выкатывая кресло из-под стола моего отсутствующего соседа. – Надоело мне заниматься мелочами…
– Видеореволюция не мелочь.
– Преходяще, – отвел ладонью он область своих актуальных изысканий. – Душа взыскует вечных ценностей. Не заняться ли мне Комитетом?
– Ты имеешь в виду…
– Госбезопасности СССР.
– В каком аспекте?
– А фронтально. Как генератором перемен.
– Обсуди с начальником.
– А ты что думаешь? Не тема?
– Запретных у нас нет.
– Да, но в смысле перспективы?
– Об этом, Наум, читай у Ницше. Придется смотреть в бездну. По долгу взятых обязательств.
– И что?
– И бездна не оставит тебя без своего внимания.
– Я, как ты знаешь, служил в израильском спецназе… Нет, ты скажи не как писатель. Как прагматик… Не завтра, не послезавтра. Но лет через пару-тройку… Вдруг все-таки не апокалипсис? Вдруг там накроется всё медным тазом?
– Не исключено.
– И что тогда? Переквалифицироваться в управдомы? Ой, слушай! – Его как подбросило с кресла. – Ничего, что я сижу за столом твоего прораба?
Он имел в виду Стива, моего подопечного, который в своем предыдущем качестве на строительстве московского «Восьмиэтажного микрофона», как назовут в мировой прессе новое здание посольства США в Девятинском переулке, обнаружил под своим началом целую стройбригаду «в штатском»: «Но у меня же только одна пара глаз!»
– Сиди-сиди, – сказал я.
– А где он?
– В штате Орегон…
Я честно пытался сделать из Стива аналитика. Но Москва травмировала его настолько, что этот юо%-ный американец возненавидел не только советологию, не только политику, но и «планету людей». Я никому не сказал, что получил от него письмо. Стив нашел работу лесорубом, и возвращаться за свой стол на радио «Свобода» не собирался: книги его могу отправить в топку…
Наум погрузился в анализ советской прессы, а я откатился и, сложа руки на груди, уставился в окно. Так мы и сидели в моем, теперь, надеюсь, отдельном кабинете с видом на сырую зелень, которая смеркалась; сидели и не знали, когда можно будет выйти. По коридору пролегал путь в библиотеку, одну из лучших на Западе по советологии, но читателей в нашем заведении было немного, тем более не в этот час.
Окно с типично-камерным срезом стены, которое вначале было у меня, как у прочих аналитиков, оставшихся в общем зале, – на уровне колес и выхлопных труб припаркованных машин вспомогательного персонала – теперь выходило на пойму одного из ручьев Английского парка, название которого я дам себе труда узнать только тогда, когда мне это станет совсем ненужным; заодно со всем прочим, чего я не знал тогда, в изображаемые времена середины 80-х.
Так или иначе, но ручей называется Оберстегермайстербах. Что значит в переводе ручей Главного Стрелка.
Потом мы разыскивали Наумов пиджак, выброшенный в окно на опустевшую парковку. До этого, срывая чувства, Гужев долго футболил его и мозжил об углы, запачкав так, что не надеть, тем более, что был по сезону светлый. В карманах все – сигареты «НВ», новые очки и шариковая ручка «Паркер» – растоптано в крошево, прах и труху. – Фронтовой рецидив, наверно, – бормотал Наум, как бы объясняя себе коллегу, на которого решил не жаловаться по инстанциям из высших стратегических соображений. – То есть? – Эхо, говорю, войны. Бей жида-политрука, морда просит кирпича…
Корреспондент «Монд» заранее был полон сочувствия. Но я не стал рассказывать про наши полуподвальные дела. Даже off the record – не для записи. Высказав мнение, что если подозрения и не беспочвенны, то во многом гипертрофированы.
И еще одно событие на какое-то время обратило наше внимание на непосредственную сферу обитания.
Корпорация, где мы работали, была самым большим подписчиком на советские издания в свободном мире (по советской статистике, получали мы здесь «291 советское периодическое издание, в том числе 59 газет и 232 общественно-политических и научных журнала»). И вот, листая свежий номер полутолстого «Журналиста», я натолкнулся на посвященную нашей корпорации документальную повесть под странным названием «Февральское «квадро»». Автор, укрывшийся под типично-«компетентным» литературным псевдонимом (Викторов Василий Иванович), доказывал, что взрыв 23 февраля 1981 года, причинивший нашему зданию ущерб на два миллиона долларов, организован был силами… Центрального разведывательного управления.
Да. Вот именно. А то, что, согласно советской пропаганде, ничем иным, как филиалом того же ЦРУ, мы не являемся, Василия Ивановича не только не смущало, а как раз более чем устраивало: «Сами себя и подорвали…»
Вскоре я увидел «подрывной» экземпляр журнала в руках шефа внутренней службы безопасности, который пролетел с озабоченным видом. Ботинки Фроста взвизгивали на линолеуме, будучи на резиновом ходу.
Несмотря на наглый абсурд посылки, «Квадро» содержало персональный компромат, разработанность которого (по сотрудникам и порокам) не оставляла сомнений. Источник информации среди нас. Внутри.
Кто же он, этот инсайдер? Кто в принципе им может быть? На некоторое время это стало дежурной темой, благодаря которой, как распухшие утопленники, всплыли все активные мероприятия ГБ против «Свободы» – удавшиеся и нет. Все автокатастрофы, все странные и преждевременные кончины сослуживцев. Оказалось, что среди них была и попытка отравления всего персонала скопом – через кантину. Узнал я и о предположительно-селективном методе, направленном на моих коллег-аналитиков, по долгу службы вынужденных работать с отравленной – то есть, буквально! – партийно-советской печатью.
Мрачность всего этого несколько развеяла одна из навязчивых тем произведения ГБ, которая облетела всю корпорацию и стала притчей во языцех. Под названием Ебля на столах.
Вскрывая совокупный моральный облик идеологического противника, автор с площади Дзержинского заявил, что в служебное время сотрудники «Свободы» совокупляются на своих офисных столах. Взывал ли он тем самым к пуританизму наших попечителей с Капитолийского холма? Тот самый случай, когда трудно уличить во лжи. Настольный факт, возможно, был. Где-то. Когда-то. Теперь же кабинеты радио почти сплошь заполнял предпенсионный возраст, бабушки и дедушки чопорной второй волны. Поэтому смеху было много.
Говоря же о столах, которые, впрочем, начали уже менять в порядке общего обновления, то в большинстве своем они все еще оставались вполне антиебабельными. Цельнометаллические, как вагоны. Несокрушимые. И невподъём, конечно. Но как-то в свое время доставили сюда их из Америки, которая решила в соответствии со своими принципами и краеугольными камнями противодействовать несвободе.
Столам этим очень шли пишущие машинки Adler – с чугунными станинами, с припаянными по центру оловянными орланами. У нас уже наступила эра электрических IBM с печатными сферами, но я всегда извращенно любил все, что напоминало о Фултоновской речи, о Рузвельте, о Трумэне – эпохе, которая и породила весь наш Левиафан, ощеренный антеннами, направленными на Восток…
Мне было неприятно, что изнутри стучат.
Директор «Свободы» Джим Кейли ходил, как уже поверженный Голиаф, человек-гигант, утративший не только позвоночник, но и фактуру. Вялая гора в желто-горчичном пиджаке размером с пальто. В очереди стоял, возвышаясь надо всеми, но брал уже не пиво, а кофе, и уносил, расплескивая в блюдце. Смотрел на всех глазами спаниеля.
Полиглот, военный разведчик, герой холодной войны в Берлине и Париже, доверенное лицо издателя-антикоммуниста Акселя Шпрингера, член редколлегии журнала «Контингент» и друг Правилова (голову мне оторвавшего, но обрекшего на нищету в Париже), Кейли был еще и журналист, и автор книг нон-фикшн – к примеру, On Germany and Germans. Познавательная работа. Несколько стихийная в композиционном отношении и затемненная синтаксисом, который был, возможно, свидетельством архаичной любви к Фолкнеру. Германию и немцев этот космополитичный американец, надо думать, понимал, когда-то женившись против воли своего начальства на дочери видного нациста. Но речь не о немцах, а о русских – пусть и «по профессии». Зачем его поставили руководить русскими? Теперь он у своих бывших подчиненных чуть ли не просил прощения за это, при случае оправдываясь за фиаско своим собственным происхождением… безукоризненным, дескать… будапештским…
Потом он исчез, чтобы где-то за кадром стать соавтором гэ-бэшно-цэрэушной книги, когда в кратковременную моду войдут подобные – совместные – проекты, а строптивую Русскую службу Вашингтон придумал дисциплинировать с помощью нового начальства – армейского образца.
Директором «Свободы» был назначен экс-полковник, директором службы – экс-майор…
С первого же дня нового режима всем, кроме дам, было вменено в обязанность носить на службе галстук.








