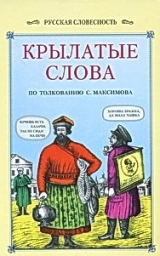
Текст книги "Крылатые слова"
Автор книги: Сергей Максимов
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– На мои глаза, больно он шустер и пройдошлив: ловчей всех ваших.
– А и слава те, господи! Скоро из котла ложку таскает да есть поторапливается – это по нашим приметам и очень прекрасно. Скор на еду – значит, скор и в работе. Однако с чужой ложки не хватает: пошто же на него напраслину выводить за это за самое?
Увидел ученый лесничий, что с атаманом артели не сговоришь, у заступника ее ничего не добьешься: правит он закон и обычай – стоит за артель горой.
Послушал лесничий того совета, который сказал ему старик уходя:
– Коли хочешь узнать сущую правду, ты ищи ее по-другому. Сделай милость, не пугай парня, не обижай его и никому на него не указывай! А я с тем и ухожу, что словно бы и не слыхал от тебя ничего. Суди по-божьему!
Оставшись один, лесничий задумался. Перед глазами сыр-бор да мшины, ветровалы да буреломы: ничего от них не допросишься. Вдруг на глаза ему попала астролябия, он так и привскочил с места. Из памяти его никак не выходит тот самый пришлый рабочий: на Печоре он к одному нанимался – отошел, у другого тоже не сжил до срока. Надо было показать и старику и артели, что этот человек нетвердый, а стало быть, и ненадежный, в отмену от прочих и – вероятнее других – виноватый.
Поставил лесничий всех своих рабочих в круг, по знакомому всем им знахарскому способу. Чтобы они не сомневались, он около них и круг очертил палкой и зачурал:
– Синус – косинус, тангенс – котангенс, диагональ, дифференциал, интеграл. Бином Ньютона, выручай! Астролябия и мензула, помогайте!..
Рабочие так и застыли на месте: угадал и угодил барин страшными словами. Когда же он поставил в самой середине их круга астролябию, раздвинул ее ножки и сам к ней приблизился – они уже и глаза опустили в землю, и волоса на бородах не шелохнутся. Заподозренный лесничим рабочий установлен был прямо против северного румба компасика.
– Смотрите все на меня!
Лесничий шибко разогнал стрелку: она посуетилась, помигала под стеклом и встала перед ним острием прямо против того парня. Его так и взмыло!
– Врет она на меня. Она сможет указать и на другого. Я не согласен. Надо, по закону, до трех раз пытать. Гони ее опять!
И во второй раз, конечно, стрелка указала его: все молчат, словно мертвые. Лесничий опять проговорил «замок» по-новому и снова разогнал стрелку. Все повыступили с мест; подозреваемый дальше всех. Стрелка побегала, вздрагивая, и, словно охотничья собака, тыкалась и суетилась, обнюхивая и отыскивая виноватое место. Рабочие старались догнать стрелку глазами и как вкопанные остановили их вместе с нею на парне. А он уж пал на колена и лицо в траву спрятал. Полежал и говорит:
– Моя вина: берите вашу вещь! Ничего теперь не поделаешь! Ваш меч – моя голова!
Артель долго не расходилась, посматривая то на «начальника», то на мудреный «штрумент». Качали все головами и не могли надивиться:
– Ведь ишь ты! Словно перстом указала.
На подобную же находчивость известного проповедника московского митрополита Платона указывают в двух анекдотах. По одному из них он обличил плотника, укравшего топор у товарища в артели в то время, когда Платон строил свой исторический скит Вифанию, в трех верстах от Троице-Сергиевской лавры. Я передал его в «Задушевном слове» для старшего возраста в VIII No№ 5 и 6. Теперь заменяю его более коротеньким, заимствованным из книжки «Русского Архива», но совершенно однородным с тем, который передан был мною в 1885 году.
«Однажды докладывают митрополиту Платону, что хомуты на его шестерике украдены, что ему нельзя выехать из Вифании, а потому испрашивалось его благословение на покупку хомутов. Дело было осенью, грязь непролазная от Вифании до Троицкой лавры, да и в Москве немногим лучше. Митрополит приказывает везде осмотреть, разузнать, кто в этот день был, и т. п. Все было сделано, но без всякого успеха. Митрополит решается дать благословение на покупку, но передумывает. Он распорядился, чтобы в три часа, по троекратному удару в большой вифанский колокол, не только вся братия, но и все рабочие, даже живущие в слободках, собрались в церковь и ожидали его.
В четвертом часу доложили митрополиту, что все собрались. Входит митрополит. В храме уже полумрак. Перед царскими вратами в приделе Лазаря стоит аналой, и перед ним теплится единственная свеча. Иеромонах, приняв благословение владыки, начинает мерное чтение псалтыря. Прочитав кафизму, он останавливается, чтобы перевести дух, а с укрытого мраком Фавора раздается звучный голос Платона:
– Усердно ли вы молитесь?
– Усердно, владыко.
– Все ли вы молитесь?
– Все молимся, владыко.
– И вор молится?
– И я молюсь.
Под сильным впечатлением окружающего и отрешившись мысленно от житейского, вор невольно проговорился. Вором оказался кучер митрополита. Запираться было нельзя, и он указал место в овраге, где спрятаны были хомуты».
ВОРА ВЫДАЛА РЕЧЬ
После указанных случаев, конечно, нет надобности прибегать к объяснению однородного и прямо-таки из них вытекающего пословичного выражения «вора выдала речь». Однако не могу удержаться, к слову и поспопутью, чтобы не передать народной легенды, выслушанной мною в тех же местах, где сотворил свое чудо лесничий, – сказание о бродячем попе и встречном угоднике. Не мог рассказчик с точностью определить подлинное имя святого, но толковал:
– Ссылаются иные на Миколу угодника, что наши приморские и водяные места «порато» полюбил: «от Холмогор до Колы тридцать три Николы» – сказывают в народе, а говорят, – их больше.
– Здешние старухи, «однако», думают на батюшку Иова Праведного, что видел ты могилку в Ущелье – селе. Там его Литва убила, «честную его главу отсекоша». А он, угодник Божий, как охранял свою матушку-церкву!..
Затем, следовали тому доказательства в настоящей легенде, которую я записал там, на реке Мезени, и теперь о ней кстати вспомнил.
ПОПОВСКИЕ ГЛАЗА
Вспоминаются на реке Мезени почернелые от времени церкви; вспоминается и этот бедный примезенский, пинежский и кеврольский народ, которому и свою избу вычинять очень трудно и некогда: все в отлучках за промыслами и за ячменным хлебцем вдали, где-нибудь на море.
При такой-то церкви жил и тот поп, о котором сохраняется в тамошнем народе живая память. Жил он, конечно, на погосте: на высокой и красивой горке, – далеко кругом видно. «Звону много, а хлеба на погосте ни горсти».
На погостах, как известно, крестьяне не селятся иначе, как на вечные времена до второго Христова пришествия. Их кладут около церкви в гробах, а живут в трех-четырех избах только церковники: поп-батюшка с многочисленным семейством и работницей, да кое-где дьякон, да два дьячка, если не считать на иной случай старого и безголосого, доживаюшаго свой век «на пономарской ваканции».
На таком-то погосте проживал и тот священник, с которым случились дивные происшествия.
Жил он тут очень долго – и сильно маялся. Окольным мужикам было не лучше, да те, по крайней мере, зверя били, а священникам, приносящим безкровную жертву, как известно, ходить на охоту, т. е. проливать кровь, строго воспрещено издревле. Если крестьян очень потеснит нужда и обложит со всех сторон бедами, они выселятся на другое место и семьи уведут. Стало в храме добрыми молельщиками и доброхотными дателями меньще. В тех местах, сверх того, охотлив народ уходить в раскол беспоповщины: свадьбы венчают кругом пня, хоронят мертвых плаксивые бабы; при встрече со священником наровят изругать и плюнуть на след. Не стало попу житья и терпенья, хоть сам колокольне молись, а про одного себя пел он обедни что-то чуть ли не десять лет кряду. На этот раз, по необычному на Руси случаю, этот поп был очень счастлив: вдов и бездетен.
Решился он на крайнее дело: со слезами отслужил обедню в последний раз в церкви, поплакал еще на могилках, да по пословице «живя на погосте, всех не оплачешь». Помолился он на все четыре стороны ветров, запер церковь замком, и ключ в реку бросил. Сам пошел куда глаза глядят: искать в людях счастья и такого места, где бы можно было поплотнее усесться.
– Идет он путем-дорогою (рассказывал мне, по приемам архангельского говора, нараспев, старик с Мезени). Шел он дремучей тайболой, низко ли – высоко ли, близко ли, – далеко ли, «челком» (целиком), – ижно ересадился, «изустал». На встречу ему пала нов ая (иная) дорога. А по ней идет старец седатой и с лысиной во всю голову «шибко залетной» (очень старый). Почеломкалися: – кто да откуда, и куда путь держишь? – Да так, мол, и так (обсказывает поп-от). – «Да и я, батюшко, тоже хожу да ищу по-миру счастья (старец-от): хорошо нам теперь, что встретились. Худо «порато», что ты черкву свою покинул и замкнул: ты в гости, а черти на погосте. И какой же приход без попа живет? Не урекать мне тебя, когда в дороге встрелись, а быть, знать, тому, как ведется у всех: пойдем вместе. Я тоже бедный. Станем делить, что есть вместе, чего нет – пополам.
«Согласился. Шли – прошли, до большущего села дошли: в «облюделое» место попали. Постучались они под окном в перву избу: пустили их ночевать и накормили вдосталь-таки, не «уедно да улёжно». Да и обсказывают им про такое-то ли страшенное матерущее дело. У самого богатеющего мужика один сын есть, как перст один: вселился в того богателева сына бес лукавый. Днем бьет его до кровавой пены, ночью в нем на нехороший промысел ходит: малых деток загрызает, да стал и за девок приниматься. Заскучали мужики, а пособить нечем. Сам отец большие деньги сулит, кто беса выгонит; бери сколь на себе унесть сможешь. А поп-от тут и замутился умом, и товарищу приучился.
– Хороши бы теперь деньгою на голодные зубы. Эка вт ора, и лихо мне! – способить (лечить) не умею. А старец-от на ответ: «Однако, попробуем – я умею. Ты ступай затым за мной, – быть-то бы я тебя затым в помощники взял.
«Пришли они к багателью и обсказались. Вывели к ним парня, что моржа лютого: глазища кровью налиты и словно медведь наровит, как бы зубами схапать, да когтями драть. Старичок взял свой меч и рассек его пополам: одну половинку в реке помыл, другую половинку в реке помыл: перекрестил обе – сложил вместех: стал жив человек. И пал затем ему сын в ноги, благодарит Миколу многомилостивого.
«Вот тут я тебе на Миколу рассказываю (заметил старик): да, надо быть, он самый и был, затым, что у него в руках ни откуда меч взялся, как его и на иконах пишут. А черковь-то свою он завсегда при себе имеет. Носит он ее на другой руке: за то, знать, он попа-то и попрекнул при встрече.
«Дошло у них дело до рассчета. Богатый мужик в своем слове тверд, что камень: привел их в кладуху, кладену из кирпича, да столь большую, что и сказать неможно. Справа стоят сусеки с золотом, слева стоят сусеки с серебром: по медным деньгам лаптями ходят, денег – дивно. «Берите, сколько на себе унесете!» И почал поп хватать горстями золото: полну пазуху навалил, полны карманы наклал (знаешь, какие они шьют глубокие), в сапоги насовал, в шапку: «жадает». Начал уж за щеки золотые деныи закладывать, да еще товарища в бок толкает: «что же ты не берешь?» – и приругнул даже, – «победнился». – А мне-ка (говорит старец) – ничего не надо. «Да хоть чего-нибудь схвати! (поп-от). Сказано: поповы глаза завидущие, руки загребущие. Взял старец с полу три копиецки и разложил по карманам, третью за пазуху пехнул. И из села пошли. Поп «одва» ноги волочит, – столь тяжело ему! Прошли лесом, а он и «пристал»: отдохнуть припросился, «сясти» по-хотел. Из себя «телесной» такой мужик был!
«Пеняет ему старец, святой угодничек:
«– Вот ты денег-то нахватал, а хлеба на дорогу не выпросил. Денег при себе много, купить не у чего, а на животе сскёт»: Я, вот, запаслив: у меня три просвирки осталось. Одну дам тебе, другую сам съем. Отдохнем, да поспим маленько, проспимся: я третью просвирку пополам разломлю». Съел поп свою просвирку, да словно бы ему еще хуже стало. Скажу уж, согрешу с попом вместе: поповою брюхо из семи овчин шито. Старец положил кулачок под головку и заснул батюшко, а поп-от из кармана у него просвирку-ту схитил и съел, и спит, словно правой. Пробудился старец: нету просвирки. «Ты, поп, съел?» – Нету, говорит. сможет, зверь лесной приходил?» – Мало ли его по лесу-то шатается. «А может, и птица стащила?» – Да ивон коршун-то над головами вьется, – знать разохотился: глядит он, нет ли у тебя еще запасной, а я не ел. «Делать нечего – дальше пойдем!»
«– Похряли и опеть. Супротив пала им наустрету река большая да широкая, что наша Печорушка: воды-те благо. А на ней – ни карбасика, ни лодочки, хоть бы на смех колода какая, плот сказать. Поп затосковал, «беднится», а старец догадался: «иди за мной, ничего, что нет на реке мосту». И пошли по водам, как по стеклышку. На середке-то старец остановился, да на самом-то глубоком месте помянул и спросил о просвирке. – «Нету, говорит поп: не ел». И стал тонуть. «Признавайся до зла: вишь, как худо бывает». – Нету, сказывает: не видал просвирки. Охлябился поп, что «урасливой» (упрямой) конь. И по шею в воду ушел. И в третий раз уж из-под воды выстал, высунул голову: и булькает, и волоса отряхивает, и захлебывается, а все свое твердит: «не ел я твоей маленькой просвирки: много ли в ней сыти-то? Обозлит только!»
– «На нет и суда нет: пойдем, значит, дальше. Вышли на берег – отдыхать надо. – Ты бы, батько, посчитал, сколько ухватил с собой денег-то. – «А теперь и впрямь самое время». Хватил поп в карман, – и вытащил уголья. Сунулся в другой – те же самые черные-расчерные уголья, и за пазухой они же, а в сапогах уж он надавил одну черную пыль. Так он и заревел, задиковал. А старец почал его унимать, да разговаривать. – «Ужоткова, бает, и я свои денежки смекну». Взял рукой в карман, где лежала копиецка, – вытащил пригоршню золота; где другие две копиецки лежали, там то же самое золото. У товарища и слезы высохли. Стал старец сгребать золото в три кучки, – у товарища и глаза запрыгали. – «Вот я опеть стану делиться: эту кучку тебе». И сгребает ее: которая монета отваливается, ту опять в ту же кучку кладет и поправляет. А сам задумался глубоко такте, словно бы скрозь землю ушел. Вторую кучку стал складывать: «это, говорит, мне». Третью начал сгребать: а у него, надо быть, и глаза не видят, и пальцы не слушаются, и кладет-то их, словно бы отдыхаючи, а глаза у него слезинками застилает. Рассыпается кучка врозь и никак он эту последнюю-то наладить не сможет. Долго он ее складал. А поп-от таращил-таращил глазищи-то, да как спросит:
«– А эта-та, третья кучка, кому?
«– А тому, кто просвирку съел.
«– Да ведь я просвирку-то съел.
«– Скажи на милость (нравоучительно толковал мой рассказчик): тонул – не признался; увидал деньги: – я, говорит, просвирку-то съел. Ох, грехи наши, все мы таковы! Не выносить нам платн абез пятна, лица – без сорому».
ОПРОСТОВОЛОСИТЬ
Поделившись двуия случайными примерами, никак нельзя не припомнить, что в тех дальних местах не так давно приходилось наталкиваться воочию на остатки старинной простоты и честности. Например, в архиве г. Повенца, в делах бывшей паданской нижней расправы (Олонецкой губ.) сберегались записки должников, обеспечивавших долг обязательством: «да будет мне стыдно и волен он пристыдить меня превсенародно». Не могло быть в этих случаях пущего позора, когда снимали с воров и неплательщиков на базарах и на сходках шапки на квит, в полный расчет. Отсюда и объяснение поговорки: «вор с мошенника шапку снял (т. е. уличил)», «с недруга хоть шапку долой» и другие им подобные. Насколько зазорно для женщины, когда ее «опростоволосят» и всем неприятно «опростоволоситься», настолько и для мужчин важно держать голову покрытою. Из самых ранних исторических актов видно, сколько требователен был обычай прикрывать волоса. Шапки, называвшиеся клобуками, не снимались ни в комнатах, ни даже в церкви. «И виде Ярослава сидяща на отни месте в черни мятли и в клобуце, тако же и вси мужи его». Это в княжеских покоях, а вот, и в церкви: «И начата пети св. литургию; и рече Святослав ко Броновине, что мя на главе бодет, и сня клобук!» Впоследствии Московские послы в чужих землях не снимали даже перед королями своих горлатных шапок. Им это раз заметили. Старший посол отвечал:
– У нас шапку снимают, когда в нее горох насыпают.
Вследствие всех таких исстаринных обычаев, и до сих пор глупых и безрассудных людей называют «непокрытой головой». В деревенском женском быту «покрывать девушке голову» однозначаще с тем желаемым всеми обрядом, когда расплетут косу, накроют голову бабьим повойником и поведут под венец в церковь. Нелегко перечислить все обряды, которые сопровождают это важнейшее в девичьей жизни событие. С тех пор замужняя женщина не осмелится появляться на людях с открытыми волосами. Эта честь и право остается лишь за девицами, которые, сделавшись невестами, показываются жениху не иначе, как под покрывалом, а находчивая и суеверная, даже и ставши под венцом, кладет кресты, чтобы жить богато, не иначе, как покрытой рукой. Самые молитвы о женихах приурочивается к празднику Покрова, с которого и начинаются зазывные для женихов посылки. Излишне объяснять теперь, насколько невыносима обида лишиться головной покрышки насилием посторонних людей, что применяется к зазорным женщинам в насмешку или в видах мщения. Было бы долго рассказывать, сколь упорны, ожесточены и продолжительны были те войны, которые предпринимались в защиту этого головного украшения, дарованного Самим Творцом небесным и явленного в особенности в бороде. В старину существовало выражение «быть в волосах», что означало современный траур и заключалось в том, что при всенародной печали, какова царская кончина, кроме одеванья печальной одежды, отращивали еще волоса ниже плеч.
У ЧЕРТА НА КУЛИЧКАХ
Русский человек вообще любит часто вспоминать про эту нежить, нечистого, лукавого и злого духа, причем богомольные люди стараются незаметно сделать рукой крестное знамение или творят про себя глухую молитву. Иные «чертыхаются», впрочем, не столько с сердцов, сколько по дурной, худо сдерживаемой привычке. Посылают и недруга, и докучливого человека, и всех «ко всем чертям» или в «тартарары», еще не так далеко, как это кажется и как думают о том сами сердитые и вспыльчивые люди. Богатырские сказки и священные легенды учат, застращивая, и уверяют, назидая, что, как вымолвишь черта, так он тут и появится с длинным хвостом и острыми рогами. Он готов купить душу и потом оказывать за то всякие услуги. Около святых, по пословице, они любят водиться даже в особину, как и в болотах, в таком множестве, что кажется, здесь у них самое лакомое и любимое место для недремлющей и неустанной охоты и стойки. Если же кто живет у черта, да еще при этом на куличках – это уже так далеко, что и вообразить трудно. Последнее выражение только в таком смысле и употребляется, хотя (следует заметить) произносится неправильно. Никакого слова «кулички» в русском языке нет, и уменьшительного имени этого рода ни от какого коренного произвести невозможно. От кулича выйдут куличики, а от кулика – куличк ис знаменательным переносом ударения. Если же восстановим в этом слове одну лишь коренную букву и скажем «на кулижках», тем достигаем настоящего смысла выражения и можем приступить к его объяснению и оправданию, как к православному и крещеному.
Кулиги и кулижки – очень известное и весьма употребительное слово по всему лесному северу России, хотя оно, очевидно, не русское, а взято напрокат у тех инородческих племен, которые раньше славянского заняли студеные страны. Они не сладили с ними и мало-помалу начали вырождаться и «погибоша, аки обри», говоря словами одного из древнейших, но уже в народе давно и совершенно исчезнувших летописных присловий. Слово «кулига» взято у этих несчастных языческих племен и, по обычаю, приведено и окрещено в русскую веру.[3] Вот как это случилось.
Когда дремучий и могучий богатырь студеных стран России, хвойный лес, ослабевает в силах растительных, в нем местами являются прогалины, плешины, поляны. Здесь растет торопливо, сильно и густо трава с цветами всякого вида и ягодами всякого рода в обилии. Эти лесные острова и есть «кулиги». Дикие инородцы, у которых все боги злые и немилостивые, признали такие редкие места за жилища старшего керемети. А так как и его тоже, что и старшин и всякое начальство, надо умилостивлять приношениями ценного и приятного, то в таких местах собираются до сих пор приносить керемети жертвы. Колют оленей, овец, телок, жеребят; наедаются досыта и напиваются допьяна, поют и скачут. Другого применения этим кулигам дикие звероловы не могли придумать. Пошумят, поломаются, обманут совесть и разойдутся по лесным трущобам, чтобы не сердить и не беспокоить бога. Его это места: оно им зачуровано и потому для всех свято.
Когда пришел сюда же русский человек, то он сейчас вспомнил, что от перегноя трав на этих местах самая плодородная почва, которую любят и рожь и ячмень. Тут он и поставил избу и приладил крест. Кереметь испугалась, отступилась и ушла с того места прочь. А, так как русские люди тянулись сюда, по своему обычаю и привычке, целыми артелями, лесные же деревья тоже размножались и жили плотными общинами (сосна – так кругом сосна, ель – так все ель), то переселенцам и пришлось немного призадуматься. Непролазные леса в этих суровых местах на кулиги неохотливы, легче им жить плотной стеной. Полян, то есть травяных островов, или безлесных равнин, в них немного – все больше сырые болота, где хорошо живется только одним чертям, да и из них подбираются особенные – водяники: нагие, все укутанные в тину, умелые плавать на колодах, целый день жить в воде и показываться только ночью.
Задумываться, однако же, привелось не долго таким людям, которые пришли в дремучие леса с сохой, топором и огнивом; начали они рубить деревья топором под самый корень, валить вершинами в одну кучу и в одно место и жечь. Стали выходить искусственные поляны, как места для жильев и пахоты; звали их назади, когда врубались в покинутые леса, «лядами, лядиками, огнищами». Это в западных лесах. В северных лесах, когда начали валить их, углубляясь в чащи с речных и озерных побережьев, прозвали такие новые места и валками, и новями, и новинами, и гарями, и росчистями, и пожегами, и подсеками, и починками. Чем дальше заходили вглубь, тем больше растеривали и забывали старые слова и все такие «чищобы» под пожню (для травы) и под пашню (для хлебов) стали звать чужим и готовым словом «кулиги». Так и осталось оно за ними на всем огромном востоке России, и выражение «кулижное хозяйство» принято теперь учеными людьми для пользования в книгах и пущено в ход в их сочинениях. Для хлебопашца в лесах это единственный выход и исключительный способ, отчего, как убеждается читатель, и такое множество синонимов на одно и то же слово, обозначенное в старинных актах общим именем «на сыром корени». «Да то все управит мати божия, что есть беды принял о месте сем!» – воскликнул святой и смиренный Антоний Римлянин, один из первых насельников новгородских кулиг и покорителей северных суровых стран.
Для пущего убеждения в географической распространенности и исторической известности слова «кулига» имеем возможность указать даже на Москву. В те времена, когда этот город, по обычаю и приемам всего государства, созидался и ширился в лесных теснинах и трущобах, под жилые слободы отбили места таким же повинным, или кулижным, способом. В слободах этих, которые потом вошли в состав Москвы, выстроились церкви, устоявшие до наших дней под непонятным теперь для москвичей названием Троицы (за Ивановским монастырем), Рождества богородицы (на Стрелке) и Всех святых (за Варварскими воротами) «на кулижках». Это в трех местах Москвы, где на сухой горе, среди соснового леса, то есть на настоящем бору, несколько раньше выстроена была одна из древнейших церквей Кремля, собор Спаса на бору. При этом следует заметить, что московские чистобаи (наречие которых принято литературой и в разговорном языке) произносят слово «кулижки» правильно. Грамотеи же, вроде настоятелей тех церквей и составителей указателей, пишут его неверно, заменяя букву «ж» буквою «ш». Повторился тот же придаток к живым урочищам и церквам и в других русских городах, где селения на кулижных росчистях также вошли в городскую границу.
Если остановимся на одной из московских кулижек – именно на той, где близ Ивановского монастыря стояла при царе Алексее изба – патриаршая «нищепитательница», – то в житии Илариона Суздальского прочитаем о том событии. В богадельне этой (женской) поселился демон и никому не давал покоя ни днем, ни ночью: стаскивал с лавок, с постелей, по углам кричал и стучал, говоря всякие нелепости. Благочестивый царь повелел духовного чина людям творить молитвы на изгнание этого беса. Но он стал еще свирепее: начал явно укорять всех, обличать в грехах и стыдить, а иных бил и выгонял вон. На борьбу с ним вышел старец Иларион из г. Суздаля и начал одолевать его обычным способом молитвы, но, лишь начнет вечернее пение, бес с полатей кричит ему: «Не ты ли, калугере *, пришел выгонять меня?» Начнет старец ночью читать молитвы на изгнание беса, а черт кричит ему: «Еще ты и в потемках расплакался!» И крепко застучит на полатях и устрашает: «Я к тебе иду, к тебе иду». Свидетели, как, например, схимонах Марко, бывший самовидцем, испугались и хотели бежать из избы, но Иларион остановил их уверением, что «даже и над свиниями дьявол без повеления божия не имеет власти». Тогда избяной дьявол обернулся черным котом и стал прискакивать к старцу всякий раз, когда этот хотел положить поклон. Цели бес не достиг. Иларион был столь незлобив, что сам враг похвалил его: «Хорошо этот монах перед богом живет», – и в заключение неравной борьбы принужден был сознаться, что его зовут Игнатием, что он «был телесен и княжеского рода», но что мамка послала его к черту, что из богадельни он выйти не может, так как не по своей воле пришел сюда. Не послушался он и бродячих попов с Варварского Крестца, стоявших там с калачами за пазухой (см. дальше ст. «Эй, закушу»), а даже обругал: «Ох вы, пожиратели! Сами пьяны, как свиньи! Меня ли вам выгнать?»
На этом сравнительно позднейшем сказании, записанном в малоизвестном житии, иные сами готовы (и советуют) основывать объяснение заглавного выражения (конечно, на произволящего).
Когда и на искусственных кулигах становилось жить тесно, а почва начала утрачивать силу плодородия, уходили от отцов взрослые и старшие сыновья, от дядей племянники и т. п. При полной свободе переходов, с помощию людей богатых, которые давали от себя даром и соху, и топор, и рабочую лошадь, брели врозь с насиженных и родимых мест так далеко, что и вести достигать переставали. Да и как и через кого перекинуться словом, когда стали жить у черта на кулижках? Когда припугнули трусливых и диких инородцев огненным боем, который вспыхивал внезапно, гремел гулко и разил наповал и насмерть, – кулиги стали подвигаться еще дальше, где уже, по присловью, и небо заколочено досками и колокольчик не звонит.
СОР ИЗ ИЗБЫ -
деревенская пословица-закон выносить не велит и, конечно, не учит она этим приказанием нечистоплотности и неряшливости, не советует жить грязно (что несовместимо и с распространенностью повсюдного выражения, и с его долговременной устойчивостью). Я, при издании своих объяснений, обошел ее как такую, которая далеко прежде превосходно истолкована В. И. Далем. Привожу теперь это образцовое объяснение обиходного выражения в его прямом и переносном смысле. «В переносном: не носи домашних счетов в люди, не сплетничай, не баламуть; семейные дрязги разберутся дома, коли не под одним тулупом, так под одной крышей. В прямом: у крестьян сор никогда не выносится и не выметается на улицу. Это через полуаршинные пороги хлопотно, да притом сор стало бы разносить ветром, и недобрый человек мог бы по сору, как по следу, или по следку, наслать порчу. Сор сметается в кучу под лавку, в печной или стряпной угол, а когда затапливают печь, то его сжигают. Когда свадебные гости, испытуя терпение невесты, заставляют ее мести избу и сорят вслед за нею, а она все опять подметает, то они приговаривают: «мети – мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку, да клади в печь, чтоб дымом вынесло».
СЕМЬЮ ПРИКИНЬ – ОДНОВА ОТРЕЖЬ
Выставляя в первобытной старинной форме эту древнюю, ясную по смыслу и столь вразумительную для руководства в жизни, пословицу, останавливаем внимание собственно на цифре, которая рекомендуется ею.
Цифра семь никогда не служила народу единицею измерений, если не считать семисотных верст, которые, однако, в начале нынешнего столетия покинуты и законная мера версты определена в пятьсот сажен.
У народа свой счет: обходя десяток, он предпочитает вести счет дюжинами, обходя две и три дюжины, начинает считать дробные вещи и более мелкие предметы сороками. В старину, не признавая десятков, не ввели в обычай сотен и, не доходя до них, вели счет девяностами, а потому и выходило тогда «все равно, что девять сороков, что четыре девяноста», а девять сороков с девяностом – пять девяноста; полпята сорока – два девяноста. Отсюда и сороки московских старых церквей и нынешних церковных благочиние, и базарный счет, долго сохранявшийся в поволжских городах, породивший насмешку над бестолковыми торговками-бабами: «сороч ине сороч и, а без рубля будешь». Отсюда и «сорочки» шкурок пушных сибирских зверей: куниц и соболей, вложенных в чехол и рассчитанных ровно на полную шубу, а «полсорок» – на женскую шубку. Сорок недель каждый человек сидит в темнице (по народной загадке), т. е. в утробе матери, и, стало быть, в самом деле, как часто говорится, «сорок недель хоть кого на чистую воду выведут». Через сорок дней или шесть недель надо брать роженице очистительную молитву и столько же дней молиться об усопшем или справлять так называемый сорокоуст. В последний раз покойник пообедает в 40-й день с оставшимися в живых домашними из той чашки и той ложкой, которые обычно выставляются и кладутся на стол. Не мало посчастливилось этой цифре и в старинных народных сказках, где богатыри ездят к цели неустанно сорок дней и сорок ночей, наезжают на города, в которые ведут сорок ворот; в царских дворцах – сорок дверей, богатырский меч в сорок аршин длины, и т. под. Вообще, «сороковой-роковой» не только в медвежьей охоте, но и в лемешной «забаве» с нынешними «сороковками» зеленого вина, которое, по смешной случайности, разливается и продается из бочек мерою в сорок ведер. «На девяносто» мы уже имели случай натолкнуться, а на «дюжинах» боимся заговориться, хотя не можем не вспомнить, что торговля в некоторых местах требовала считать, в видах личной корысти и рассчета на деревенскую простоту, единиц в дюжине тринадцать.








