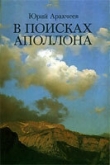Текст книги "Коронованный странник"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– Батюшка, да что вы с таким интересом смотрите на сию отвратительную драку? Подошли бы, разняли. Эдак они и убьют друг друга!
Священник взглянул на Александра добрым кротким взглядом, улыбнулся и, втянув сопельку, сказал:
– Может статься, что и убьют, да токмо я ничем помочь не смогу. Да и становой пристав, если вдруг, словно по волшебству, здесь явится, тоже не разнимет. Гляди-ка, они ведь в раж вошли! Издавна здесь по праздникам окуловцы на низовцев ходят и наоборот. Стенка на стенку, новогородские обычаи древние помнят. В кабаке каждая станка по ведру вина возьмет, выпьют спервоначалу, а после и махают кулачками. Ладно будет, если за колы не схватятся. Пьяные, знамо дело!
Александр, видевший за время своего путешествия так много пьющего народа, в сердцах спросил:
– Но, батюшка – отчего же пьет русский человек? Неужели ему и без вина не весело?
– Как не весело? – изумился священник. – Человеку рабочему недосуг и соображать – весело ль ему, али невесело. От зари до зари в труде, о баловстве и подумать некогда. Зато о веселье простого человека кабатчики-откупщики заботятся зло. Им вино продать надобно, да и гадкое вино, кислотой али щелоком разведанное, чтоб острее казалось, известностью еще. От кабацких же продаж имеет мзду немалую и казна государственная, а посему ни кабатчикам, ни господам министрам не резон водочную продажу прекращать. Мы же, слуги господни, в проповедях много говорим о вреде пьянства, и действенны проповеди сии – часто целыми деревнями крестьяне, а особливо артельные люди, от водки совсем отказываются. Так что ж? Через епархиальное начальство сделали нам строгое предупреждение, исходящее якобы от министра финансов, чтоб впредь призывали народ не к полному неупотреблению вина, а лишь к умеренному его питию. Не могли мы супротив такого циркуляра пойти – стали говорить, как велели, чтоб токмо частный, виноторговцев, и казенный интерес не страдал. Государеву волю исполняем. Людишки же сии свою волю в высшей степени сейчас выполнить хотят, силой кулаков над братом своим во Христе власть показать спешат. А то над кем властвовать? Над женками, которых иные крутые мужья в телегу запрячь могут да, хлестая плетью, заставят пять верст протащить? Над детками безответными? Над скотиной? И, соколик! Ежели конца света не будет, так и проживет человече, власть хоть над кем-то подыскивая, хоть кого-то, самую малую и беззащитную тварь стараясь принизить, а себя возвеличить. Да, слаб человек, а отсюда и гоньба его за властью! – И священник вдруг радостно и азартно вскрикнул, хлопнув себя по коленям: – Да вы смотрите, сударь, как тот низовец, что в красной рубахе, окуловца срезал! Начисто сработал, не иначе как свинчатку неприметно в рукавицу положил!
Александр, совсем не разделявший восторга батюшка, хотел было побыстрее уйти, чтобы не видеть кровавого, жестокого побоища. Священник уловил желание своего нечаянного собеседника и, поклонившись и поморгав мокрыми ресницами, сказал:
– А на храм, барин, хоть копеечку не подадите?
Александр машинально опустил руку в карман шинели пальцы сразу нащупали случайно оставшуюся, не украденную в монастыре монету. Вытащил серебряный гривенник, подал батюшке. Тот долго благодарил странного вида барина, не забывая поглядывать на продолжавшееся побоище.
Александр пошел прочь. Дождь закончился, в просветы между рваными тучами протиснулось неяркое уже осеннее солнце. Александр шел к дороге на Петербург. Он, уже ненавидевший порядки державы, бывшей совсем недавно его державой, хотел поскорее попасть в столицу империи, хотя и не знал точно, для чего это надо ему и как он попытается изменить российские порядки. Главное, что в нем жила уверенность в необходимости перемен, и он очень жалел о том, что оставил престол, хоть и понимал в то же время, что, не окажись он вдруг просто коронованным странником, многое так и осталось бы неизвестным ему.
Совсем бескорыстно, – лишь за несложную работу в пути, – его приняли в свой обоз новгородские купцы, направляющиеся в Петербург. Они узнали в Александре барина, а жалкий вид, его обтерханная одежда заставили купцов испытать чувство сострадания к благородному нищему. Ему подарили шапку, новые портянки, укрыли рогожами, и некоторое время замерзший, мокрый Александр отогревался. В его сердце жили страстная любовь к людям и сильное желание им чем-нибудь помочь.
14
БЕГУЩИЙ ИМПЕРАТОР
Осенью 1824 года Василий Сергеевич Норов, давно уже осознавший, что он, даже будучи выделенным высшей властью, – ничто в сравнении с армией твердоустоявшихся мелочей, догм, традиций, норм, взглядов, правил, а поэтому нужно лишь стараться быть их заботливым охранителем, отправился в путешествие по России. Побывал в Москве, Рязани, Калуге, Туле, Тамбове, Пензе, Симбирске, Самаре, Оренбурге, на Златоустовских и Екатеринбургских заводах, в Перми, Вятке, Вологде. Везде государю показывали самое наилучшее и интересное – лучшие больницы и тюрьмы, школы и рынки, заводы и земледельческие хозяйства. Он догадывался, что показывают, чтобы успокоить, если не удалить его, но Василию Сергеичу отчего-то самому казалось это очень удобным – он сам хотел лишь по-хорошему удивляться и не беспокоить себя, а поэтому оправдывал такой показ мыслью: "А если бы я был губернатором или городским головой, стал бы я огорчать государя императора видом нечистоты физической и нравственной, картинами нищеты? Нет, каждый хозяин по вполне разумным причинам спешит показать лишь самое хорошее, ну а я, гость, не имею права требовать от него, чтобы он вел меня на задворки и помойки. Они – добрые люди, и я тоже, добрый благовоспитанный человек".
Но по мере того, как Норов приближался к Петербургу, возвращаясь из долгой поездки, в нем все основательнее свивала гнездо тревога. Доводами разума уже невозможно было заглушить упреки совести, твердившей ему: "Ты энергичный и честный человек, добившийся абсолютной власти! Но что ты сделал доброго России, её народу? Спишь с женой Александра, танцуешь на балах, жрешь изысканные кушанья, смотришь на марширующих солдат да разъезжаешь в карете туда-сюда. Да ты подлец, Василий Сергеич!"
По мере того, как приближались к Петербургу, порывы ветра становились все сильнее. Норов в окошко кареты видел, что вода Финского залива, кое-где видневшегося сквозь стволы деревьев, стало темно-синей, почти черной. Ехали по Петергофской дороге, миновали Ульяновку, Красный кабачок, а неподалеку от имения Дашковой Норов велел остановить карету, вышел из нее, чтобы поглядеть на залив, открывавшийся отсюда во всем своем зловещем бурном виде.
– К самому наводнению поспели, ваше величество! – чуть ли не с радостью сообщил кто-то из свитских.
Ветер рвал полы плаща государя, который все смотрел и смотрел на кипящую воду. Недалеко от воды дымили трубами здания какого-то завода. В ста саженях от заводских построек виднелись налепленные без толку жилые строения рабочих. Вдруг Норов с ужасом видел, как синяя кромка воды залива стала двигаться, пахнуть на глазах, точно волна пламени, двигаясь по сухому дереву, съедала его, так и вода съедала берег, подбираясь к домам фабричных. Из них вскоре выбежали женщины и дети, крича, бросились наверх, к дороге, на которой стоял царский поезд, но волна бежала быстрее, и скоро она настигла беззащитных людей и съела их, а рабочие, выскочившие из заводских зданий, находившихся на более высоком месте, падая на колени и простирая к небу руки со сжатыми кулаками, в бессильном негодовании то ли на Бога, то ли на природу, стояли и смотрели, как тонули их близкие. Лишь некоторые бросались вплавь, чтобы помочь несчастным, но по большей части сами тонули...
"Как, я ездил где-то, не зная, не желая знать, что в восьми верстах от Зимнего дворца есть лачуги бедняков, которые может смыть волна? Не я ли преступник? Не ко мне ли должна быть обращена ненависть этих бедняг?!"
Так лихорадочно думал Норов, хотя рядом с каретой и грызя в возбуждении ногти. Он то смотрел на боровшихся со стихией людей, то закрыл глаза и уши, чтобы не видеть их смерти, не слышать их криков о помощи. А потом вдруг сам закричал, прсиедя на корточки в нелепой позе:
– Боже! За мой грех караешь Ты их, невинных! Ну пощади же! Пощади!
А потом, быстро впрыгнув в карету, прокричал вознике:
– Гони! Гони! Бегу-у-у!
Было 7 ноября 1824 года.
4 апреля 1825 года Норов выехал в Варшаву, чтобы присутствовать на третьем сейме. К этому времени он заметно пополнел, был или чрезвычайно весел, или, наоборот, резок, раздражителен, в лучшем случае рассеян. В Варшаве, появившись перед делегатами сейма, он произнес фразу, поразившую и его самого своей смелостью: "Я сочувствую упрочению вашей конституции". Поляки рукоплескали. Норов был собой доволен, но не доволен поляками, когда узнал о наличии в Царстве тайных обществ. Выговорил на эту тему Константину, побрюзжал и отправился в обратный путь. Заехал в Ковно, в Ригу, в Ревель, был в Грузино у Аракчеева, в Новгороде, и в Юрьевском монастыре, где имел беседу с Фотием наедине. 13 июля возвратился в Царское...
В тот же день получил из Грузино нагнавшее его письмо. Писал Алексей Андреевич, что-де некто Шервуд, унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, находящийся у генерал-майора Клейнмихеля, настойчиво добивается аудиенции. Аракчеев писал, что у Шервуда есть наисекретнейшие сведения о заговоре, направленном против императорской фамилии, но открыть их он сможет лишь в личном разговоре с государем.
Норов мог бы и не принять этого Шервуда, потому как о заговоре ему было известно давно, но он не стал этого делать – заговор, рассудил он, спустя почти два года со дня "Бобруйской ночи" может относиться и к нему лично, а не к какому-то Александру Павловичу. А поэтому, попросту опасаясь за свою жизнь, которой последнее время он особенно дорожил, Норов отдал приказ Клейнмихелю прислать к нему унтер-офицера. В своем кабинете на Каменном острове Василий Сергеевич и принял Ивана Шервуда.
Перед ним стоял белокурый молодой человек с благородными чертами лица, совсем не смущающийся, но сдержанный, правда, державший себя с достоинством, которое, видно, полнилось обладанием тайной, важной государю, что придавало Шервуду уверенности. Сам Шервуд давно уж посмеялся над тем порывом, заставившим его некогда броситься к ногам проезжего капитана, так похожего на государя императора. Теперь же он смотрел на пораженное оспой лицо стоявшего напротив человека и был уверен, что настоящий император и не мог выглядеть иначе, тем более после болезни, о которой говорили все.
– Ну так что же, сударь, вы хотели мне сообщить? – по-французски спросил Норов, вдоволь насмотревшись на чистенького, умненького уланского унтера.
– Ваше величество, только мои верноподданические чувства и заставили меня искать высочайшей аудиенции. Спешу вам сообщить, что в армии против вас заговор. Двенадцатого марта двадцать шестого года, как вам хорошо известно – начало празднований в честь вашего четверть-векового юбилея правления. Так вот, мне доподлинно известно, что когда вы, ваше величество, приедете на смотр третьего корпуса, вас убьют в день смотра. Этот план детище Пестеля, человека страшного, в руках которого весь корпус! Я знаю, что Пестель уже заготовил прокламации к войску и народу, и едва вас убьют, как полки корпуса пойдут на Киев и на Москву, где восставшие потребуют решительных преобразований России в духе планов Пестеля! Он уже наметил и физическое истребление всей царской фамилии! Ожидается, что к восставшим сразу же примкнут и гвардия, и флот! А вот и проект Пестеля. Мне удалось сделать копию с копии. Ознакомьтесь, ваше величество! Вы сами убедитесь, что я нисколько не преувеличил опасности! Молю вас, поверьте мне!
– И Шервуд с поклоном протянул Норову тетрадь, Василий Сергеевич молча взял её, повертел в руках. Он хорошо знал Пестеля, представлял, что тот мог придумать ради того, чтобы увлечь офицеров идеями преобразования России и с помощью войск достичь высшей власти под видом диктатора, а поэтому читать проект бунтовщика ему не хотелось. Но вдруг Норов внезапно осознал, что ему грозит смертельная опасность, именно ему, не выполнившему обещаний, почившему на удобном царском троне.
"Бежать! Бежать! – со страхом, который, возможно, впервые в жизни настиг его, подумал Норов, тиская в руке тетрадку. – Пестель сдержит свое слово, и если я даже и не приеду на смотр третьего корпуса, клинок его кинжала или пуля все равно отыщут меня когда-нибудь! А ведь я совсем не виноват перед заговорщиками! Ах, знали бы они..."
– Благодарю вас, Шервуд, – самым искренним тоном сказал Норов, испытывая к молоду человеку настоящую приязнь и глубокую благодарность. Верьте, я не забуду вашего геройского поступка, ведь вы рисковали жизнью...
Шервуд был тронут ласковым тоном человека, совсем не похожего на прежнего государя, но все-таки являвшегося им:
– Ах, ваше величество! Да если бы у меня было три жизни, я бы все их отдал бы вам! Я, вступая в службу, давал присягу, клялся, обещал не щадить живота ради царя и отечества. Я и не мог поступить иначе!
"Вот истинный друг, – с грустью подумал Норов, – возможно, мой единственный друг. Ну, не считая, конечно, преданного Аракчеева. И все же в нем есть что-то отталкивающее. Наверное, сидел вместе с заговорщиками, пил с ними чай, выведывал, а потом пошел да и донес на своих товарищей. Что же делать! Придется дружить с подлецами, если друзья грозят смертью. Ну до чего же гадко на душе!"
И Норов поспешил распрощаться с Шервудом, хоть и сделал это крайне вежливым и любезным образом.
– Милый мой, тебе нужно развлечься. – Сказала как-то раз Елизавета перед сном. – Скука и ипохондрия запечатлелись на твоем лице и без того мало привлекательном.
– Я только и делаю, что развлекаюсь, – раздраженно отозвался Норов, снимавший в это время панталоны. – Я соскучился по делу, настоящему делу, вот в чем причина моего дурного настроения!
Он сказал неправду, и Елизавета уловила фальш:
– Ах, оставь, пожалуйста! Развейся, проветрись – и скуку как рукой снимет. Не начинать же тебе вновь играть во всякие реформы? Слушай, давай устроим при дворе маскарадный бал, пригласим городскую знать, даже небогатых дворян. Развлечемся, а заодно дадим людям повод считать тебя либералом. Знаешь, я уже придумала костюм – являюсь на маскарад в наряде баядерки!
– А я в суконной куртке каторжника, с кандалами на руках и ногах! мрачно пошутил Норов.
– Что ж, тебе пойдет! – весело отозвалась императрица. – Только не забудь клеймо на лоб поставить. Ну, так устраиваем маскарад?
Предъявляя загодя распространенные билеты, публика в маскарадных костюмах входила в Зимний дворец с Иорданского подъезда, и к восьми часам вечерам Георгиевский зал и прилегающий к нему залы гудели разодетой толпой гостей, на хорах гремел оркестр, но танцы ещё не начались – бал должны были открыть государь и государыня, а поэтому гости забавляли себя беседой, шампанским и лимонадами, разносимыми ливрейными лакеями. Но вот распахнулись двери, и в зале появились державные хозяева. Он – в домино, она – как и приличествует баядерке, в шароварах и в короткой курточке, открывавшей живот. Поклонились гостям, те поклонились императору и императрице, оркестр грянул польский, и бал-маскарад начался. Протанцевав с Елизаветой полонез, Норов быстро удалился в свои покои, чтобы переодеваться. Он уже был рад случаю, вручавшему ему возможность под прикрытием маски походить среди веселящихся людей, послушать их разговоры. Он, мнительный и боязливый, дрожал от предвкушения, когда, напоенный чужими тайнами, он станет властелином душ своих подданных. Вскоре Норов уже вернулся в зал, но теперь на нем был костюм Скарамуша, и никто не мог увидеть его рябое лицо под достигшей подбородка маской.
Он стал прохаживаться в толпе гостей, пивших вино, поедавших пирожные, над его головой летели ленты серпантина, падали на плечи, откуда-то сверху сыпалось конфетти, несколько раз Норова сильно толкнули пробегавшие гости в костюмах чертей, многие маски развязно, надрывно смеялись, полагая, видно, что под маской в царском дворце можно делать все, что угодно, и Норов, понимая, что такое поведение льстит тщеславию ничтожеств, проходил мимо них поскорее. Но вот он научился выделять из шума обрывки разговоров. Беседовали, к примеру, две дамы – "королева" и "фея".
– Ну, милочка, – говорила негромко "королева", – с голым животом императрице на люди выходить – моветон, страшный моветон!
– Я бы с тобой согласилась, дорогая, – язвительно отвечала "фея", если бы не знала наверняка, что её величество беременна и живот своей показывает нарочно, чтобы все видели и завидовали ей! А то что бы старым, дряблым пузом похваляться?
К разговору присоединился мужчина в костюме испанского гранда:
– Истинная правда, что Елизавета чревата! Царь же только и ждет появления на свет наследника, хоть он и не от него, да-с! Родится мальчик, и Александр Павлович уйдет в монастырь. Мне сам принц Оранский недавно передавал, что царь-де ещё весной в разговоре с ним сказал: "Уйду с престола, в частную жизнь уйду, только вот Елизавета разродится!" Такие вот, барыни, дела-с!
– Но весной, – заметила "королева", – государыня ещё не могла быть беременной!
– С чего бы это не могла? – удивился "гранд". – Вполне могла! Взгляните на её брюхо – выпирает!
Норову стало до того гадостно на душе, что он поспешил отойти от говорящих, но вдруг он услышал, как кто-то говорил с восточным акцентом:
– Я зарэжу рябого, кинжялом зарэжу вот этим! Слово своего держать не умеет – коварный!
Норов резко обернулся, с испугом взглянул на говорившего – черкес в чекмене с серебряными газырями и в папахе, с лицом, закрытым черной бархатной маской, вынимал и снова впихивал в ножны громадный кинжал, а его собеседник, "тореадор", согласно кивал и говорил:
– Кинжалом мало, дорогой! Я бы его здесь же на балу протнул своей шпагой! Будет знать, как обманывать честных людей! Давай, пойдем искать его. Заколем под шумок – никто и не разберется, в чем дело, отчего человек упал!
Норов, уверенный в том, что речь ведут о нем, в ужасе отпрянул. натолкнулся спиной на кого-то старичка с фальшивой бородой колдуна, тот упал, завизжал от страха и боли. Норов увидел, что многие повернулись к нему, даже те, с кинжалом и шпагой. Сквозь вырезы в масках, он видел, на него смотрели негодующие, ненавидящие глаза. "Черкес" пошел к нему, "тореадор" – за ним следом! Возможно, они шли и не к нему, а чтобы только помочь старику-колдуну подняться, но Василий Сергеич был уверен, что они набросятся на него с оружием, пронзят его тело. Он, успевший позабыть, что когда-то словно воевал с французами, имеет золотую наградную шпагу, издал дикий вопль, вопль ужаса и, расталкивая гостей, бросился прочь, лишь бы поскорее спасти себя, затеряться в толпе, укрыться в своих покоях.
– Караул! – бежал и кричал он. – Лейб-гренадеры! На помощь!
– Гости, думая, что кто-то из их числа или внезапно сошел с ума, или залил за ворот лишку, старались освободить дорогу человеку с петушиным пером на берете и с деревянной кривой шпагой у бедра. А Василий Сергеевич, добежав до своих покоев, весь дрожащий, со стучащими зубами, трясущимися пальцами запер дверь на ключ и, забывая снять маску, бросился к постели, забрался под одеяло и накрылся им с головой. Он долго не мог успокоиться, ему слышались долетающие из-за двери чьи-то злые голоса, угрожавшие ему, но постепенно дрожь унялась, Норов перестал скрипеть зубами, сердце забилось ровно, и только горечь на душе, нестерпимая, тлетворная, жгла его долго, а губы выговаривали сами собой:
– Не по твоей голове Мономахова шапка, Вася! Эх, не по твоей!
30 августа царь посетил Александро-Невскую лавру. Долго молился у раки с мощами святого благоверного князя, Александра, во время молебна, замечали многие, плакал. Потом зашел в келью почитаемого в монастыре схимника, немного поговорил с ним, постоял рядом с гробом, что служил ему постелью. 1 сентября он выехал из Петербурга на юг России, что предпринималось якобы ради здоровья Елизаветы, а когда князь Голицын, осведомленный насчет духовной Александра, намекнул ему о том, что при продолжительном отсутствии царя нельзя акты о престолонаследии держать необнародованным, Норов лишь тихо сказал:
– Положимся в этом на Бога!
15
ЦАРЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Покуда Александр добирался из Новгорода в Петербург с купеческим обозом, его неотвязно мучила мысль: зачем он едет в столицу и что он там станет делать?
"Если уж еду в Петербург, – размышлял он, – значит, нужно воспользоваться этим в полной мере. Страной правит капитан Норов, это понятно, но никаких реформ не проводит и, видно, упивается властью. Нужно отнять у него власть, чтобы искоренить в стране зло, но разве Норов покинет престол добровольно? Разумеется, нет. Тогда придется всем объявить, что он – самозванец, поднимется скандал, многие сановники будут опозорены, великие князья, Елизавета, маман – тоже. Я сам буду опозорен, потому что выяснится, как Норов получил власть и всю страну на почти двухлетний срок. Нет, это не годится, не годится! Попробую договориться с Норовым по-хорошему, припугну его разоблачением – нет, опять не то: как же появиться во дворце в своем настоящем обличии? Норов – с оспинами, а я – без. Обратиться к Виллие, чтобы и он меня заразил? Нет, чепуха какая-то! Я бред несу..."
Теряясь от мучивших его противоречивых мыслей и порывов, Александр не заметил, как подъехали к заставе Петербурга. Купцы его ссадили, сказав, что теперь ему с ними не по пути, один, сжалившись над оборванным и затасканным костюмом барина да и в благодарность за кое-какую работу, которую делал Александр в пути, – распрягал и запрягал лошадей, поил их, – вручил ему серебряный рубль, сказав:
– Вот тебе целковый. Пуговиц к шинелке купишь, картуз какой... Ну, прощевай, да с голоду, смотри, не окочурься. Да и холода недалече...
Потом махнул рукой – к чему-де это говорю? – да и погнал свой воз вслед за уже отъехавшими товарищами. Александр же послушал доброго купца купил и пришил к шинели недостающие пуговицы, у старьевщика за тридцать копеек приобрел старенькую фуражку, не офицерскую, но издалека похожую на ту, что надел он ещё в Бобруйске. Был конец сентября, погода стояла теплая, но Александр застегнул шинель до подбородка, чтобы не был виден его поношенный сюртук. Поев на пятиалтынный в дешевом трактире, побрел в центральную часть города, хоть и не знал вовсе, зачем он идет туда – ноги так и несли его.
Пришел на Дворцовую площадь, посмотрел на развод караула, но остался равнодушен, видя строгие и слаженные перестроения военных. Вся эта красота показалась ему сейчас ненужной и пустой забавой. Обошел вокруг своего двора, двинулся по набережной в сторону Летнего сада. Все в Петербурге, замечал Александр, осталось прежним, кроме, пожалуй, большого числа нищих попрошаек да пьяных, которых прежде он совсем не видел. Прошел вдоль решетки сада, приблизился к воротам, хотел было зайти и прогуляться по желтым осенним аллеям, но его остановил чей-то строгий приказ:
– Билет соизвольте взять!
– Какой... билет? – ошарашенно посмотрел Александр на стоявшего в воротах человека в бедной чиновничей шинели, красный нос которого свидетельствовал о пагубной страсти стража.
– Какой-какой! – передразнил Александра чиновник, и глаза его воровато забегали. – За вход заплатите: с дам и господ – по гривеннику брать велено, с детей и прочих мещан – пятак-с. С вас, вижу, гривенник. Извольте заплатить!
Вход в Летний сад при Александре был свободным, и новшество, скорее, не удивило, а сильно разозлило его, да и плутоватый вид стража вызывал подозрения.
– Как платить?! – неожиданно громко прокричал Александр. – С каких это пор? Не стану платить! Пусть мне вначале сам обер-полицмейстер о том сообщит. Кто это распорядился публику в Летний сад по билетам пускать? Говори, кому подчиняешься!
Слова эти вырвались у Александра невольно. Если бы у него в кармане не болтался один лишь двугривенный, а было, по крайней мере, рублей пять, Александр безоговорочно отдал бы требуемые деньги, теперь же ему было просто жаль Гривенника. Привратник же, скривив лицо в досадливой гримасе, быстро посмотрел по сторонам, зашептал:
– Ваше высокоблагородие, чего шуметь-то? Для чего гуляющую публику беспокоить? Гривенника, что ли, жалко? Ну так проходите и так, пропускаю, только ораь-то не надобнос-с!
– Как не надобно?! – не на шутку разошелся Александр, поняв, что чиновничек решил немного подзаработать и встал в воротах самозванным образом. – Мзду в свой карман берешь?! Да я тебя, каналья ты этакий, в полицию сейчас отведу, чтоб не самоуправничал! – И Александр, крепко ухватив лже-привратника за шиворот шинели, закричал призывно: – Полиция! Полиция! Сюда!
Офицер и два полицейских унтера, заслышав крик, уже спешили к воротам и глубины сада, а Александр все таскал перепуганного насмерть чиновника за воротник, у того с головы слетела фуражка, волосы растрепались, и руки выпали билеты, дававшие право гуляющим посетить парк, а самому чиновнику возможность пообедать в кухмистерской с бутылкой поддельного бургундского.
– Вот, господин поручик! – заговорил Александр, обращаясь к полицейскому, когда он подошел. – Деньги незаконно за вход берет! Это же самоуправство, воровство! Нельзя такое терпеть!
Полицейский сделал страшное лицо, приставил кулак к носу чиновника, зашипел:
– Жеребятьев, сучий послед! Я ли тебя не предупреждал? ты же клялся мне!
– Ваше благородие! – заскулил чиновник. – Да вы же сами...
– Что сам, что сам? – заорал полицейский, не обращая внимания на удивленных криком прохожих. – В тюрьме сгною! – И тут же приказал унтерам: – Взять сего под арест! В съезжую его!
Потом смерил взглядом Александра с головы до ног:
– А вы, сударь, кем будете? Чем засвидетельствуете свою личность?
Отпускной билет, истасканный и кое-где даже рваный, так и покоился в кармане сюртука, и Александр немедленно его извлек.
– Так, – прочел полицейский, – отпускной билетик-то ваш, господин капитан, уж просрочен. Сие, конечно, благородно, то, что вы за правое дело вступились, но вынужден вас препроводить на гауптвахту. Там разберутся. Следуйте за мной...
Александр шел рядом с полицейским по аллее сада не без радости. Где бы ночевал он сегодня, если бы не такая неожиданная оказия? Правда, он побаивался лишь одного: если его отошлют в полк, то там непременно увидят, что из отпуска возвратился не Василий Норов, а какой-то неизвестный. Но вот подошли к зданию гауптвахты, до которого от Летнего сада было рукой подать. Офицер передал его дежурному майору, и седовласый, строгий служака долго отчитывал Александра как за то, что он не явился в указанный срок в свой восемнадцатый егерский, так и за безобразный внешний вид.
– Позорите русскую армию, господин капитан! – сказал он напоследок. Ну, посидите в одиночной камере ден так с десять – поумнеете! Ступайте следом за конвойном – он отведет вас в ваше новое жилище. Приятных сновидений!
Прошли три дня, пять, семь, а на восьмой заскрипел замок, окованная железом дверь отворилась, и в камеру, сразу наполнив её ароматом дорогих духов, чуть пригибаясь, будто не хватало места, вошел горбоносый, красивый генерал, и Александр сразу же узнал в нем графа Милорадовича! Поднявшись с койки, Александр встал перед военным генерал-губернатором Петербурга, который долго и пристально смотрел на него, то поднимаясь на носки, то вновь опускаясь на пятки, причем сапоги его сочно скрипели. Но вот Милорадович заулыбался и сказал:
– Да что мы стоим? Присядем вместе на вашу койку да поговорим. – Сели, и граф сказал: – Плохо ваше дело, капитан. И так уж вам государь от щедроты души предоставил двухгодичный отпуск, вы же не явились к сроку в свой полк, имеете какой-то затрапезный, вульгарный, я бы сказал, вид. Вы что, видно, пропили все имущество?
– Никак нет, ваше сиятельство, – находя неизъяснимое удовольствия от разговора с честным человеком, героем войны, покачал головой Александр. – В пути со мной случилось много неприятностей. Меня разорили... русские нравы.
– Ах да! – понимающе кивнул Милорадович. – Наверное, именно поэтому вы так горячо восстали против злоупотреблений, замеченных вами у ворот Летнего сада. Что ж, благородное сердце – великая редкость в наше испорченное время. А посему я вот что имею вам предложить. – Граф легким движением провел рукой по густым, кудрявым, хоть и с легкой сединой, волосам. – Вот что... Семи понимаете, что неявка в полк из отпуска – провинность немалая, но я бы мог и вовсе затереть её, написав командиру полка. Но, но... не напишем ли мы полковнику, что вы и вовсе уходите в отставку, по семейным, так сказать. обстоятельствам?
– К чему же это, ваше сиятельство? – недоумевал Александр.
– К тому, что вы сильно нужны мне, господин Норов.
– В каком же качестве я могу быть вам полезен?
Милорадович поднялся и едва не уперся головой в потолок камеры:
– Вы мне нужны в качестве... тайного агента. Разве вы не слышали, что граф Милорадович возглавляет свою, особую полицию?
Негодование мгновенно сковало мышцы лица Александра:
– Вы предлагаете мне стать шпионом, соглядатаем? Мне, прирожденному дворянину, офицеру?! Не оскорбляйте меня, ваше сиятельство, иначе... иначе я попрошу вас покинуть эту комнату!
Милорадович не обиделся. Он снова уселся на койку, весело посмотрел на Александра.
– И этот пыл тоже делает вам честь, капитан. Но к чему мальчишечкая вспыльчивость? Разве у меня вы не станете заниматься тем же, чем занимались в армии – заботой по охране безопасности державы? На полях сражений вы деретесь с врагом явным, здесь же, в Петербурге – с тайным и куда более опасным неприятелем. Страна проедена язвой беззакония, мздоимства, открытого воровства, и, главное, общественная мораль далека от совершенства. А где поражена нравственность общества. там ищи и откровенное зло, ибо от порчи нравов проистекают все беды России да и любой другой страны. Вы сказали "шпион"? Нет! Незаметный ратоборец на поле брани со злом! Именно, незаметный, а то как же подойти к змее, свернувшейся где-нибудь в укромном месте, чтобы убить гада, грозящего своим жалом? Вы же со своим чувством справедливости, со своей... невидной, скажу прямо, невзрачной внешностью, и будете этим незаметным для врагов борцом со злом. Соглашайтесь, капитан! Оставьте предубеждения, созданные в обществе против агентов полиции, в обществе, покрытом плесенью разврата и злокозненности. Ну же, ну?!
Милорадович говорил это с горящими глазами, и, казалось, нос его стал ещё более горбатым, и все лицо графа, негодующее и победоносное, ещё более выделялось своим орлиным профилем.