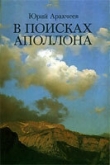Текст книги "Коронованный странник"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Полковник, майор и прапорщики разобрали оружие, ящик с патронами тоже извлекли, поставили туда, где влетевшая случайно пуля не смогла б взорвать весь боеприпас. Полковник ударом ноги распахнул окно, выстрелил в толпу два раза и, услышав стоны раненых, победно прокричал:
– Ага! Так-то вам, ракальям, и надо! Прочь отсюда, оружие – в цейхгуаз, а сами разойдитесь по домам и ждите моего решения! Никакого императора здесь нет, а находится со мною рядом офицер-бунтовщик, коего я отдам под суд без промедления!
Но уговоры полковника не возымели действия, толпа поселян загудела ещё пуще, зацвинькали пули, влетавшие через открытое окно, но послышался крик:
– Робята, не палите! Государя зацепим! Иначе поступить надобно!
Бунтовщики перестали кричать и стрелять, и полковник, следивший за ними из окна, передавал стоящим с ним рядом офицерам:
– В кучу собрались, слушают кого-то. Понятно, со стороны крыльца они в дом вломиться не посмеют, нас испугаются, а вот с задов подойти да на крышу забраться, проломить её да внутрь дома проникнуть – вполне смогут. Не удержаться нам...
– Что ж делать будем? – спросил майор, но вместо полковника ответ ему дал Александр. Он страшился перспективы представить перед судом, который непременно раскрыл бы его инкогнито, и тогда о монашестве, покое нужно было бы забыть. Сейчас в бунтующих поселянах он видел свою защиту, хоть и не одобрял избранных ими способов перемены власти и избавления его самого от суда.
Господин полковник, ваши подчиненные разъярены, вам не избежать расправы подобной той, которая постигла чугуевское полковое начальство. Да, пусть я – не Александр Первый, но эти невежественные люди поверили мне и будут бороться за мое освобождение до конца. Ваше упорство усугубит и жестокость расправы над вами!
– Так вы ещё пугаете меня? – ловко подбросил в воздух пистолет полковник и поймал его.
– Не пугаю, а предупреждаю. Вы все сумеете сберечь себе жизнь, лишь освободив меня. В ином случае готовьтесь к страшному концу. Я же со стороны своей обещаю утихомирить мятежников, потому что и сам не являюсь сторонником бунтов. Я выйду к ним и скажу, что я не государь. Уверен, это сообщение их успокоит. Тем самым я заглажу свою вину перед вами...
Полковник, наморщив высокий лоб, казалось, был погружен в обдумывание предложения странного капитана, так похожего на настоящего императора России.
– Я согласен, – сказал он наконец, – прыгайте в окно или выходите на улицу с крыльца. Но... но, если вы сообщите сей сволочи о том, что не являетесь царем и просто... пошутили, то я уверен, что сия новость настолько разъярит их, что головы лишимся не только мы, но и вы, любезнейший. Вам надобно вновь предстать перед ними в обличье императора, но теперь не к бунту вы станете призывать мятежников, а к смирению. Только вы, как их государь, и сможете сладить с ними!
Александр, страшно довольный тем, что сумел договориться с полковником, что бунт, возникший по его вине, будет вскоре усмирен, вскочил на подоконник, и тут же его узнали – толпа вновь загудела, раздался радостный рев двух-трех сотен поселян, человек десять отделились от людского месива, подбежали к дому, подставили свои руки, и когда Александр соскочил с подоконника, его подхватили и понесли туда, где кипел водоворот радости.
– Наш, наш государь! – вопил один, а другой поселянин силился перекрыть его голос.
– Заступника, милостивца уберегли, сохранили!
– Что прикажешь, батюшка, то исполним! Полковника да штаб его, как мокриц, прихлопнем! Только прикажи!
Командир полка, внимательно следивший из-за занавески за тем, что происходило на улице, видел, как расцветилось лицо господина капитана улыбкой довольства, счастья, когда поселяне тянули к нему свои руки в надежде, что удастся прикоснуться хотя бы к его одежде, как он сам протягивал к этим людям руки, и в голове полковника рождалась одна за другой странные мысли: "Или он сумасшедший, или на самом деле император Александр, третьего быть не может. Но ни в первом, ни во втором случае бунт страдания сего человека усмирен не будет: сумасшедший поведет сволочь на штурм дома, а... государь просто не сумеет удержать сию толпу. В любом случае нужна подмога, а там посмотрим!"
– Шульце! – круто повернулся полковник в сторону стоящих за ним офицеров. – Из кухни дверь ведет прямо на конюшню. Мой Цыган оседлан, выводите его тихонько да и задами скачите в Терентеевку, в расположение второго батальона. Пусть выступают с полной выкладкой, с ружьями и тесаками, да зарядов чтоб у каждого в суме патронной было б не меньше трехз десятков. Часа два мы здесь сумеем продержаться, а там... от вашей сноровки все зависеть будет. Скажете майору Затекайло, чтобы людей дорогой готовил к бою – мой приказ! Ну, идите же, голубчик Шульце. На вас надежда!
... Александр, не имея сил да и желания говорить с поселянами строго, приказывать им что-то, робко старался урезонить их, уговаривая разойтись по домам, но те не слушали его. Сознание того, что они высвободили императора России из плена злого полковника. вселяла в их сердца уверенность в том, что они не такие уж и слабые, если лучший и самый сильный человек страны воспользовался их помощью. Настоящий царь, хоть и становился знаменем их дела, но не более того – во всем прочем они ощущали себя главными, замечали, что Александр Павлович обладает ""тонкой кишкой", слабоват и трусоват. Короче, все видели и понимали, что и царь без них – ничто, да и они без него – пустое место, крылья ветряной мельницы, лишенной вала и жерновов.
– Когда же, батюшка, главных в полку менять будем? – спрашивали у Александра. – Может, сам ты полковником у нас будешь?
– Нет, детушки, – отвечал смущенный и радостный одновременно Александр. – Я вам из Петербурга нового, доброго полковника пришлю, говорил и сам не верил в истинность своих слов. – Только вы старого полковника трогать не могите – за жестокость и бесчинства и я вас по головке не поглажу.
Но поселяне видели, что император всецело на их стороне, а поэтому шутливо отвечали на такое предупреждение:
– Отчего ж? Занозу без боли да крови не вынуть, а мы командиру нашему благодарность принести должны. Или нам к Аракчею двинуть да с него спрашивать?
– Нет, уж ты, государь, с Аракчеем сам разберись, ты к нему ближе, а мы уж здеся миром, собственным умишком решим, кому нами командовать. Дозволение нам на вытаскивание занозов дай!
– Хорошо, даю, – размягчился, расчувствовался Александр от ощущения полного слияния его чувств с чувствами народа, которым он управлял почти четверть века. Народ представлялся ему сейчас сильным и умным, достойным такого правителя, как он, и Александру страстно хотелось побыть императором ещё хотя бы часик, а потом сесть на коляску и покатить в Киев, до которого оставалось совсем недалеко.
... Этот час пролетел быстро, и Александр понимал, что никогда прежде он не слышал так много добрых слов, не ловил такое множество взоров любви и преданности, и ему было жаль того, что единение с подданными произошло так неожиданно, при таких странных обстоятельствах, где он, олицетворявший одним своим именем закон и порядок, вдруг очутился во главе бунтовщиков, ставших таковыми по причине его собственного произвола и неосведомленной поспешности.
И когда кто-то из мальчишек-поселян, взмокший и с высунутым от долгого, быстрого бега языком подлетел к толпе бунтовщиков, чтобы сообщить государю о приближении к деревне батальона из Терентеевки, двигавшегося в сторону мятежного селения с развернутым знаменем, с барабанным боем, с майором Затекайло во главе, Александр уже не сомневался.
– Батальон! Слушай мою команду! – прокричал он и сам удивился тому, что голос его звучит чисто и уверенно. – Рассыпным строем прячься за домами! Ружья держать заряженными! Стрелять по моей команде!
И тотчас поселяне, сразу поняв, что действовать можно только так, как приказывает сам государь, по трое, по четверо встали за углами домов в то время, как треск барабанов становился все громче. Курки у ружей взведены, патронные сумки расстегнуты, люди, готовые перезаряжать ружья, чтобы подать их стрелкам, уже держат бумажные патроны в руке, и зубы их р азорвут бумагу, как только опорожненное, дымящееся ружье будет передано им. А майор Затейкало, брыластый, с остекленевшими от ненависти к бунтовщикам глазами, только вошел в деревеньку, сразу закричал, пугаясь мертвой тишины:
– Ружья, шпаги, палаши в домах ос-та-а-авляй! По одиночке на середину улицы вы-хо-о-оди! Руки за головой дер-жи! Я вам, скотам безрогим, руки-ноги пообрываю, если сей приказ невыполрненным окажется!
Но навстречу Затекайло неспешно вышел Александр, хорошо знавший, что этот бурбон обязан будет подчиниться ему, государю, если уверится в том, что видит перед собой император.
– Майор, – подойдя к командиру батальона, почти по-приятельскии обратился к пожилому офицеру Александр, – здесь все повинуется мне, помазаннику и государю. Вы что же, не узнаете меня? Сейчас же велите своим солдатам маршировать за пределы деревни, где вы получите от меня особые инструкции. То, что ваш командир называет бунтом, вовсе не бунт, а посему извольте покинуть деревню!
Затекайло смотрел на Александра, лицо которого имело сходство с лицом особы, изображенной на многих портретах, но он был воспитанником системы, требовавшей безоговорочного подчинения младшего чина старшему. Приказ же о немедленном прибытии в мятежную деревню отдал Затекайло не император, тем более не этот неизвестный майору человек, а непосредственный начальник, командир полка, а посему Затекайло, помучив свою голову коротким, но плодотворным раздумьем, сказал Александру, тряхнув отвисшими брылами:
– Не извольте-с беспокоиться, сударь! Сделаем все, как надо! Опосля узнаем, государь ли вы, а покамест приказ полкового командира исполню как следует и прибавил, виновато разведя руками: – Если бы вы, не знаю, как вас звать, на моем месте, точно так бы и поступили б, не обессудьте...
А потом Александр, оскорбленный непослушанием какого-то майора, от которого пахло луком и водкой, закричал:
– Мой батальон! По колонне бунтовщиков – беглый а-а-гонь!
Треск ружей, из которых поселяне палили в тех, кого не раз встречали в поле, на учениях, в тех, кто приходился им кумом или даже родственником, заглушил последнее слово короткого приказа Александра, а майор Затейкайло, ещё полчаса назад сидевший за чаем со своей беременной женой и пятью детьми, охнув и неловко взмахнув руками, упал ничком, ухватившись вздрагивающими руками за сапоги Александра. Бунтовщик же император успел заметить до того, как бросился бежать к одному из домов, где прятались смутьяны-поселенцы, что солдаты батальона Затейкало, дав залп и ружей по углам домов, быстро убрав раненых и убитых, по приказу ротных капитанов спешно перестраиваются в каре, ощетинившееся стволами ружей и медленно тронувшееся вперед. Александра внеазапно охватила радость при виде столь быстрого и действенного по своим задачам перестроения.
"Это моя армия! – восторженно подумал он, отбегая за дом, где его тут же спрятал за своей спиной один поселянин. – Только мои солдаты могли бы так быстро составить каре с узким фронтом и длинным фасом!" Но радость была быстро сметена огорчением: мятежники тоже являлись частью его армии и покамест не предпринимали никаких полезных для себя действий.
"А что же моим теперешним соратникам делать?" – в страхе за доверившихся ему людей подумал Александр. Ему почему-то не хотелось отдавать им приказ стрелять в своих товарищей снова. Александр понял: ему следует быть где-то посередине, между враждующими сторонами, потому что те и другие были его подданными, были русскими людьми, он же казался сам себе каким-то шахматным игроком, затеявшим партию, в которой победителя не будет.
– Батюшка-государь, что делать-то?! Прикажи! – с мольбой обратился к нему поселянин – за его спиной и прятался Александр. – Стрелять ли?
– Не стрелять! Не стрелять! – закричал Александр громко, так, чтобы слышали все – и люди, которых он подбил на бунт, и солдаты, приведенные в деревню для усмирения бунта. Он не заметил того, с каким презрением посмотрел на него поселян, ждавший приказаний, с каким раздражением плюнул на землю. А батальон, построенный в каре, медленно двигался по улице, и солдаты, поливавшие свинцом прятавшихся за домами поселян, не слышали того, что кричал им Александр:
– Солдатушки, не стреляйте в своих! Богом заклинаю вас! Не проливайте русской крови!
Выстрелив, они деловито, с хмурыми, серьезными лицами, быстро двигали шомполами, перезаряжая ружья, потому что подчинялись приказу ротных командиров. К тому же они видели, как обошлись бунтовщики с их батальонным командиром, а поэтому спешили отомстить за него. А вскоре они получили другой приказ и бросились на мятежников со штыками наперевес. Александр, прятавшийся за углом дома, увидел, что в его сторону бегут два солдата с глазами, сверкающими лютой ненавистью к нему, их государю, и Александр догадался, что они бегут для того, чтобы убить его.
– Защитите!! – будто сам собой вырвался у него дикий, резкий крик. – Я царь ваш!!
– Не боясь, батюшка! Не выдам! – не поворачиваясь, крикнул поселянин, прицеливаясь, и когда облачко дыма было отнесено ветерком в сторону, Александр увидел, что один из солдат, уронив ружье, стоит на четвереньках и из пробитой груди струится на землю алая кровь.
– Не бось! – во второй раз сказал поселянин, принимая на штык своего ружья налетевшего на него солдата, но взявшийся Бог весть откуда третий служивый сходу вонзил в поселянина острие короткого тесака и тут же выдернул сталь из тела хрипящего, падающего навзничь бунтовщика, чтобы в следующее мгновенье замахнуться тесаком на Александра.
Никогда прежде на Александра не смотрели так злобно, никогда не собирались его убить, а поэтому теперь природа недавнего монарха отказалась было воспринимать и взгляд и жест солдата как сулящие ему немедленную смерть. Александр так и остался с опущенными вниз руками, даже не попытавшись поднять их, чтобы прикрыться, защитить себя. Но, видно, в серьезность намерений служивого верил тот человек, который откуда-то из-за спины Александра, громко крякнув, ткнул солдата в лицо прикладом ружья так сильно, что тот мгновенно осел, повалился на землю да так и остался лежать без движения. Еще не веря в то, что он находился на волосок от смерти, остолбеневший Александр был подхвачен под мышки чьими-то сильными руками, потом его ослабевшее тело с тем же кряканьем кто-то взвалил на плечи и понес в неизвестном направлении. Александр не имел сил сопротивляться, и скоро его довольно грубо бросили на что-то не слишком мягкое и накрыли чем-то тяжелым и не больно приятно пахнущим. Но вот застучали копыта лошадей, послышалось знакомое поскрипывание рессор и раздался голос Ильи:
– Ничо, ваше сыкородие! Улепетнем, пока они там друг дружку резать будут! Эх, втюхались в историйку – почище гомельской будет! А денжиц-то сколько сволочи той пораздавали – тьма тьмущая!
Александр, у которого колотились, как от озноба, зубы, не мог прийти в себя часа полтора. Накрытый медвежью полстью, он лежал на сиденье коляски, боясь высунуть голову, а Илья все погонял лошадей, стремясь увезти "господина капитана" подальше от места расправы с бунтовщиками. Наконец Александр выпростал из-под шкуры голову и слабым голосом сказал:
– Ильюшенька, не надо в Киев! Боюсь, что догонят меня, вернут, суду предадут. Поезжай окольными путями... в Новгород. В Юрьевский монастырь поступлю, архимандрит Фотий меня знает, любит. Он не выдаст...
– Как прикажете, ваше сыкородие! Наше дело кучерское, маленькое, Можно и в Новгород!
Натянул вожжи, останавливая тройку, а потом стал, цокая языком, поворачивать её.
8
ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ,
НАИВАЖНЕЙШИЕ...
"Декабрь. Суббота.
В половине 7-го часа утра государь император отъезд изволил иметь с Каменного острова в Царское Село, по прибытии имел выход по саду пеша.
В исходе 2-го часа его величество изволил поехать в Павловск, где за обеденным столом изволил кушать, потом обратно имел отъезд из Царского Села на Каменный остров.
За вечерним столом их величества кушали во внутренних своих комнатах.
Воскресенье
Четверть 9-го часа утра государь император изволил поехать с Каменного острова на Царицын луг к общему разводу с генерал-адъютантом князем Волконским в коляске. По учинению оного возвратился обратно на Каменный остров. По прибытии в половине 12-го часа их величества имели выход через сад в сопровождении фрейлин княжны Волконской, Валуевой, Саблуковой в церковь к слушанию Божественной литургии, которую отправлял оной церкви священник с диаконом.
По возвращении из церкви их величествам представлены были в Малиновой комнате обер-камергером графом Разумовским мужеска пола особы: отставной вице-адмирал Боратынский. флигель-адъютант крон-принца шведского полковник барон Кошкуль, отставной лейб-квардии Семеновского полка полковник князь Броглио. А потом их величествам в оной же комнате имел счастие откланиваться Бухарский посланник Азимжан уминжанов со своею свитою.
За обеденным столом их величества изволили кушать в Столовой комнате в следующих особах в половине 3-го часа: великий князь Михаил Павлович, фрейлины Валуева, Волконская, Саблукова, генерал-от-инфантерии граф Милорадович, князь Лобанов-Ростовский, генерал-лейтенанты барон Розен, Сукин, Бороздин, генерал-майоры Храповицкий, Бистром, тайный советник князь Голицын, флигель-адъютанты Клейнмихель, князь Лопухин.
Пополудни в 6 часов государь император занимался от министров докладом в кабинете".
(из "Камер-фурьерского журнала")
... Еще до приезда в Петербург в обличьи императора Норов знал, что Аракчеев, кроме заведования военными поселениями, имел на своей шее дела всего государства. Министры и другие сановники приезжали к Алексею Андреевичу с докладами уже в четыре часа утра. Аракчеев ровно в четыре звонил в колокольчик, в его кабинет из прихожей заходил дежурный адъютант. "Позвать такого-то!", и в кабинет на цыпочках входил министр, думавший лишь о том, чтобы Бог уберег во время доклада от желания зевнуть. Приняв доклады от всех министров и сановников, подписав от имени царя проекты указов, Аракчеев составлял общий рапорт, после чего сам шел к императору с докладом. Всем было известно, что заниматься государственными делами подолгу Александр не любит и его устраивает такое положение дел, при которых тяжкий груз обязанностей по управлению страной висит на шее Аракчеева. Норов же, убедившись в том, что военные поселения отменять не стоит, решил уменьшить влияние Аракчеева на политику как внутреннюю, так и внешнюю тем, что мягко предупредил Алексея Андреевича о том, что доклады министров теперь будет принимать лично он. Аракчеев вновь прослезился, стал было уверять Норова в своей беззаветной преданности, однако Василий Сергеевич на сей раз слабинки не дал, сказав:
– Я верю тебе, только уж боле не изволь беспокоиться – министров выслушивать буду сам, а то мне вдруг показалось, что моя жизнь довольно праздна и пуста: парады, смотры, обеды, прогулки, снова обеды и опять прогулки. Наскучит – вновь передам тебе сию обязанность, а пока не обижайся.
В тот день, когда ровно в шесть часов пополудни Норов должен был принять министров впервые, он с самого утра ходил в приподнятом расположении духа. Сбывалось то, о чем местали члены тайных обществ, к чему стремились они, не боясь пролития крови, насилия, ломки всего старого, привычного.
"С сегодняшнего дня в стране будут совершаться перемены! – не мог успокоиться Норов. – Я, благородный и умный человек, изменю жизнь россиян к лучшему при помощи одних лишь умных и благородных указов. Разве когда-нибудь в прошлом приходил к власти человек, решивший всецело посвятить себя всеобщему благу страны, всех её сословий? Я такой человек и есть, и да поможет мне Господь Бог во всех начинаниях моих!"
Министр юстиции Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, генерал-от-инфантерии и кавалер, был мужчиной средних лет с умнейшей лукавой улыбкой, прятавшейся в уголках тонких, чуть раздвинутых губ. Раскрыв кожаную тисненую папку, достал два листа бумаги с отпечатанным типографским способом текстом.
– Проекты двух указов, не изволите ли подписать, ваше величество? сгибаясь в пояснице, шепеляво проговорил министр, кладя на стол перед Норовым листки.
– А что здесь такое? – с лорнетом в руке, отодвигаясь от листков подальше, спросил Норов, и Лобанов-Роствоский струхнул – никогда прежде проекты подготовляемых им указов не проходили апробации на таком уровне.
– Дела пустяковые, ваше величество... – начал было министр юстиции, но Норов его строго прервал:
– Знай, что в делах, касаемых государсвтенных нужд, нет пустяков. Ну, прочти, что здесь написано!
Лобанов-Ростовский заметно дрожащим голосом прочел текст одного проекта.
– Так, – кивнул Норов, – о производстве пенсионов вдовам и детям умерших чиновников министерства?
– Точно так-с, ваше величество...
– Подпишу охотно, с подобного рода вещами мог бы и не ходить ко мне, хотя сие, конечно, не пустяк, не пустяк!
И Норов почерком Александра, владеть которым Василий Сергеич научился ещё будучи в Бобруйске, написал на проекте одобрительную резолюцию. Перешли ко второму указу, где предлагалось властям городов решать, какому виду казни подвергнуть преступника: или наказывать его публично, через палача, или при городских полициях, полицейкими служителями.
– Чего ж ты сей мерой хочешь добиться? – спросил Норов, не поняв важности нововведения и несколько раздраженный тем, что министр юстиции не принес ему ничего более существенного.
– Немалого, ваше величество! Некоторые виды воровства, за кои прежде подвергали публичному наказанию, при всеобщем смягчении нравов могут и не наказываться на площадях. Ворам, замечено, все равно, где их секут или клеймят – на людях или в тюрьмах, зато публика, особливо женщины и дети, во многих случаях будут избавлены от тягостного зрелища.
– Все сие верно, – хотел выглядеть Норов дотошным и внимательным, – да только не вижу в твоем указе руководства властям, по каким признакам одних воров считать достойными публичной казни, а каких сечь и клеймить в тюрьме.
– Сие определится по тяжести вины...
– Ах, так, – уже поднял перо Норов. – Что ж, может быть, ты и прав!
И два слова "Утверждаю. Александр" мгновенно явились на поле листка с проектом.
Когда Лобанов-Ростовский вышел в прихожую, пот крупными каплями стекал на шею с отлично выбритых и надушенных щек. Министр внутренних дел Василий Сергеевич Ланской, человек не столь ответственному посту новый, так и кинулся к министру юстиции:
– Что, Митя, беда?
– Беда, Вася, беда! – зашептал Лобанов-Ростовский. – Уж куда со "змеем" тяжко было, так уж знали, на что внимание обратит. Их же величество так и роет, так и роет. Истинно говорю, копает не зря! Или в отставку многих из нас отправить хочет, или снова затевает нечто, как при Сперанском было!
Ланской с видом крайней озабоченности покачал головой, незаметно перекрестился и двинул к дверям императорского кабинета.
– Что у тебя? – спросил Норов у Ланского, едва он вошел.
– Проекты указов по делам, что по-моему ведомству проходят.
– Ну, зачитай! Да помедленней, чтобы и мельчайшая деталь не ускользнула от меня! – потребовал Норов.
Оказалось, что министр внутренних дел пришел к государю тоже с сущими пустяками, которыми, понял сразу Норов, его можно было и не беспокоить. Требовалось утвердить указы об исправлении дорог в Санкт-петербургской губернии, и о воспрещении казенным крестьянам делить большие семьи на малые, а также об устройстве Ботанического сада на Аптекарском острове с наименованием его "императорский".
– Все это я, конечно, подпишу, но впредь приходи ко мне с делами более важными и неотлагательными, – желчно посоветовал Норов, чиркая пером на полях проектов, и когда Ланской, еле шевеля одеревенелыми ногами вышел в прихожую, к нему сразу же подошел министр финансов Егор Францевич Канкрин:
– Что же, их величество не в духе?
– Еще как не в духе, – вытирая платком пот, мрачно сообщил Ланской. Не нравится, когда по пустякам тревожат. Ты-то, Егор Францыч, не с ерундой к государю?
– Да в том-то и дело – взял с собой, что попроще – не хотел утомлять императора. Видать, промахнулся!
– Промахнулся, сие уж точно, – радуясь про себя, что не ему только доводится сегодня выслушивать царские выговоры, сказал Ланской и добавил: Не на пользу нам государева болезнь пошла. Сильно же он переменился. Эх, головы бы сохранить! Если уж самого "змея" от дел отстранил, с нами и вовсе царемониться не станет. Ну, иди Егор Францыч, испей чашу...
– Ну, а у тебя что? Указы? – уже вполне освоившись в деле приема докладов, вскинул Норов строгий взгляд на вошедшего Канкрина. – Докладывай!
И Канкрин, торопясь, дрожащими пальцами откинул верхнюю доску папки. Оказалось, что нужно подписать указ об уступке иностранцам пошлин на ввозимую в Россию соль, однако Норов, быстро смекнувший, что этой мерой в невыгоде окажется русское солеварение, очень довольный тем, что хоть здесь-то он может порадеть о благе отечества, решительно запротестовал:
– Нет. сей указ ты забери! Подписывать не стану! Я бы пошлины на иностранную соль ещё больше увеличил, а ты просишь уменьшить. Чьим интересам служишь, Канкрин?
Егор Францевич хотел было сказать, что он просит об уменьшении пошлин на иноземную соль потому, что собственной соли России не хватает, а поэтому она продается солепромышленниками по высокой цене, что невыгодно особенно простому люду. Но он отчего-то не сказал этого, а также не решился показать государю проект указа о сооружении в городе Ростове гостиного двора для ярмарки. И весь красный, вышел, пятясь, в прихожую, чтобы впустить в кабинет начальника Главного штаба генерал-майора Клейнмихеля, на которого Норов накричал, узнав, что тот принес ему на подпись указ об отпуске в каждую артиллерийскую роту ремонтных денег на тулупы и кеньги.* (сноска. Род валеной обуви.))
– Я, конечно, понимаю, генерал, что ты печешься о здоровье солдат, сказал Норов, несколько успокоившись, – но неужели монарх России обязан входить в такие мелочи? Впредь не изволь меня беспокоить такой пустяковиной!
– Слушаюсь, ваше величество, – раза три низко поклонился Клейнмихель прежде, чем за ним закрылась дверь.
Потом Норов, позвонив в колокольчик, вызвал камердинера и велел ему сказать всем, кто ещё дожидался аудиенции в приемной, что сегодня император докладов больше выслушивать не будет. Он не знал, с каким облегчением "император", отдав такой приказ, погрузился в раздумье: "Нет, при помощи таких указов, мелких и ничтожных по своему значению, я не сделаю Россию счастливой, не приведу народ к благоденствию! Завтра же я соберу Комитет министров и на его заседании сделаю заявление огромной важности. О, это заявление будет похоже на взрыв пудовой бомбы, и никто из министров не посмеет возразить мне! Я видел их сегодня – все они трусливы, ничтожны, каждый, уверен, видит, что из Белоруссии в Петербург возвратился под именем царя другой человек, самозванец, но ни у кого из этих блюдолизов не найдется мужества, чтобы арестовать меня, подвергнуть строжайшему допросу, а потом – казнить или заточить навек в каземате Петропавловской или какой-либо иной крепости! Завтра, завтра..."
"...А после сего государь император имел верховой выезд прогуливаться"
(из камер-фурьерского журнала)
Он ехал на вороном жеребце по хорошо очищенным от снега дорожкам парка, а подле него на холеной рыжей кобыле, в амазонке, отороченной мехом, с куньей пелериной на плечах, скакала фрейлина Лидия Саблукова, и её песочного цвета волосы, завитые старательно, искусно, подпрыгивали на плечах и спине. Норов давно уже заметил, что молоденькая, очаровательная фрейлина за столом или на прогулке порой бросает на него долгий, вопросительный, едва ли не требовательный взгляд, а поэтому, не понимая, в чем же дело, был до холодности вежлив с ней. А сегодня сама Елизавета Алексеевна упросила Норова взять с собою на конную прогулку по парку Лидию, утверждая, что та готова развлечь государя, уставшего после государственных дел, какой-то смешной историей, случившейся с ней, покуда он ездил "в свой" Бобруйск.
– Так что же это за история, сударыня, о которой вы хотели мне рассказать? – начал Норов по-французски, глядя только вперед, на дорогу.
– История? – удивилась Саблукова. – Ах да, эта история! Но я уже поняла, что она будет совсем не интересна для вашего величества, впрочем, могу и рассказать... Один влюбленный в даму кавалер покидает её ради очень важных дел. Она, бедняжка, тоскуя невыносимо, ждет его возвращения, и вот он приезжает. Там, вдалеке от нее, он заболел, его внешность сильно изменилась, но влюбленная дама нашла кавалера ставшим ещё более интересным – будто помолодевшим, не похожим на того, прежнего. Он стал стройнее, остроумнее, решительнее, но его, увы, уже не прельщает ложе любви – он предан государственным делам, даже не слышит вздохов бродящей вокруг него дамы, не замечает её бледности. И даме остается лишь одно – напомнить кавалеру о своей любви к нему, или... или искать покоя на две какого-нибудь пруда.
– Но, сударыня, – все ещё смотрел на дорогу Норов, – та дама забыла, что сейчас зима и все пруды подо льдом.
– О, не сомневайтесь, ваше величество! – мотнула кудрями фрейлина. – Я хорошо знаю ту даму – яд или кинжал вполне заменят ей пруд, правда, она ещё недеется...
– Пусть надеется, – кивнул Норов и с улыбкой посмотрел на Саблукову, завтра, после того, как кавалер уделит время важнейшему в жизни государству делу, он заглянет к той милой даме, если она на самом деле искренне говорит, что изменившаяся внешность кавалера её ничуть не пугает.
– О! – сорвался от восторга голос Саблуковой. – Совсем не пугает наоборот! А если кавалер заглянет в её спальню, то увидит её все в том же платье яблочного цвета, покрытом черным шантилли с вышитой на нем гирляндой смородины!
– Кавалер будет счастлив, увидев даму в таком наряде, – сказал Норов, быстро посмотрел по сторонам и, наклонившись к Саблуковой, крепко обнял её за талию, привлек к себе и крепко, вкусно поцеловал её в раскрытые, дрогнувшие губы.
Когда вечером, незадолго до того, как отойти ко сну, Норов без стука зашел в покои лейб-медика Виллие, служившие ему ещё и лабораторией, то увидел доктора в рубашке с засученными рукавами, в фартуке, кипятящим на спиртовке жидкость бурого цвета в стеклянной реторте. Норов смело уселся напротив, закинул ногу на ногу и заговорил по-английски: