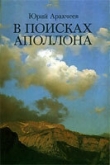Текст книги "Коронованный странник"
Автор книги: Сергей Карпущенко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Архимандрит, дав полобызать свою руку некоторое время, сильно удивленный, убрал её наконец:
– Довольно, сыне! Поднимись с колен. Кто ты? Чего тебе?
Странный человек, продолжая стоять на коленях, поднял на архимандрита кроткий взгляд:
– Отче преподобный, вы не узнаете меня?
Фотий вгляделся в черты лица чудного посетителя. Да, что-тдо знакомое виделось ему в этом лице, но архимандрит постарался прогнать от себя явившуюся мысль.
– Не узнаю, – твердо сказал он. – Так кто же ты? Откройся?
– На Фотия смотрели печальные, широко распахнутые в надежде глаза.
– Я? Я – бывший государь России, отче, Александр...
Только пять дней прошло с тех пор, как Фотий, весь полный чувством победы, торжества над своим врагом возвратился в монастырь. Перед отъездом его принял в Зимнем император, и Фотий страстно благодарил его за радение в защите православной церкви. Но Фотий торжествовал не только потому, что удалось прогнать врага православия. Он, монах, отказавшийся внешне от страстей мира, не мог изжить в себе сильную тягу к власти, и победа над Голицыным отождествлялась Фотием с победой и над государем, сочувствовавшим врагу, бывшим даже его другом. Поэтому Фотий ощущал себя если и не первым, то уж непременно вторым человеком в империи. Теперь же, признавая за "чудным" человеком право называться Александром, Фотий, сделавший союзником неведомого кого, какого-то рябого самозванца, потерял бы право на завоеванную власть.
– Ты, государь? – насмешливо скривив губы и отстранившись подальше, словно чтобы лучше разглядеть чудака, почти презрительно спросил архимандрит. – Окстись, сыне! Еще пять ден назад был я в дворцовых чертогах государя императора Александра Павловича, видел его живым и здравым, благословил его при прощадии. Теперь же являешься ты, утерявший где-то не токмо ум свой, но и штаны, да и крамолу несешь – государь я! И кто тебе поверит? На что сошлешься ты, какие-такие знаки императорства своего предъявишь? Нет, сыне! Ежели ты сам умом двинулся, то не считай других дураками, которые бы поверили поносным твоим словам! Прочь изыди, не то прикажу тебя взашей вытолкать! Прочь, говорю!
Александр быстро поднялся на ноги. Длинная речь Фотия убедила его в том, что архимандрит узнал его, но по каким-то соображениям не желает признаться в этом. Оставалось лишь одно – не настаивать на своем царском происхождении, а смиренно просить убежища. Поэтому Александр, понуро опустив голову на грудь, тихо сказал:
– Отче преподобный, Бог с тобой. Если не желаешь видеть во мне того, кто принимал тебя в дворцовых, как ты говоришь, чертогах, так и пусть. Но дозволь мне остаться в твоем монастыре. Давно я уже мечтал о тихой обители, о монашеской рясе и о служении одному лишь Господу нашему. К милости твоей прибегаю, не прогони. Прости лишь за то, что не сумел довезти до тебя вклад, что прочил твоей монастырской казне. Молю, не гони. Ради Христа, прошу...
– Слезы лились по щекам Александра, и Фотий был тронут, но не одно лишь чувство сострадания к этому, столь похожему на настоящего императора человеку заставило его призадуматься.
"А что, – размышлял Фотий, глядя на стоящего перед ним Александра, ежели в Петербурге обнаружат подмену да станут искать истинного царя, выведают, что он у меня, монах уже? Как востребовать его снова к правлению? Да и на меня гнев властей падет, уж непременно! Надо бы поосторожней с ним..."
Но и другая мысль, страшная, сатанинская, явилась и прогнала все прочие доводы. Фотий, страстно стремившийся к власти, желавший быть в России столь же весильным, как Никон при Алексее Михайловиче, подумал: "Добре! Того петербургского урода я уж усмирил в вожжах он у меня – но то самозванец! А настоящего-то я в ещё более строгие вожжи впрягу, такой хомут на него надену, что пожалеет. Фотий будет над двумя царями сразу: над самозванным и над истинным! Потешусь вдосталь! На власть токмо строгий христианин право имеет, а не вертопрах, которого к правлению высшему лишь случай подвел!"
– Хорошо, сыне! – кивнул Фотий после долгого раздумья. – Снисхожу к слезам твоим – останешься в моей обители. Токмо первый год послушником будешь, таков уж у нас обычай. Посмотрю на тебя, годишься ли. Ты вон, видишь, как много мнишь о себе – государем себя называешь! А монашескому образу полное смирение приличествует, а не гордыня. Гордыню же твою я смирю, не взыщи...
Александр с осветившимся огромной радостью лицом молча смотрел на Фотия и согласно кивал. Архимандрит же, вызвав того самого смешливого монаха, что докладывал о чудаке, приказал ему позвать отца келаря и, когда тот явился, так сказал ему:
– Послушника нового прими, поставь на полное довольствие по нашему уставу, сведи со старцем Никитой да, главное, обремени работой. Сей муж человек норовистый, много о себе мнящий, обители же нужны монаси смиренные. Лошадей знаешь? – повернулся он неожиданно к Александру.
– Как не знать, отче! – радостно закивал Александр.
– Ну так будешь при монастырской конюшне, у брата Никодима в подчинении. Будет жаловаться на тебя, на нерадение твое – в одночасье из обители прогоню. Еще устав наш хорошенько изучи. И – готовься! До пострига твоего ровно год остался – время есть, чтоб всякая блажь из головы повыветрилась.
И Александр, благодарный и расчувствовавшийся, вновь жадно припал к руке архимандрита.
И потекли однообразные, но счастливые дни монастырской жизни. Александр выделили келейку в одном из домиков в пределах обители, в которой он пробуждался вместе со звоном колокола, звавшего к заутрене. Потом скудная трапеза, казавшаяся Александру богаче и вкуснее изысканных дворцовых яств. Затем – работа до обеденной трапезы – в конюшне, где он чистил стойла, выносил навоз, приносил воду, закладывал сено, дробил овес, ячмень. Ему не нужно было приказывать дважды – Александр сам находил себе работу и испытывал огромное наслаждение от возможности всецело подчиняться монаху Никодиму, старшему конюху, который поначалу пытался быть излишне строгим, но видя каждодневно какое-то великое рвение послушника Василия, рвение с излишеством даже, его добрый, тихий взгляд, полностью уверился в добрых качествах подчиненного и стал доверять ему поездки за дровами или даже в город за кое-какими припасами. Но Александр как-то раз стал со слезами на глазах упрашивать Никодима не посылать его больше за пределы монастырской стены, и монах, поудивлявшись, согласился, хоть и почел нужным рассказать об этом архимандриту. Фотий внимательно выслушал монаха и про себя огорчился. Он думал, что Александр с великим трудом будет изживать в себе привычку к власти, с зубовным скрежетом станет привыкать к подчинению, к черной работе. Но выходило совсем наоборот, и грубому сердцу Фотия такое поведение недавнего властелина огромной империи казалось явлением непостижимым. Главное же, что огорчило Фотия, было то, что в покорности и легком послушании Александра не было поживы для удовлетворения его, Фотиевой темной страсти повелевать бывшим повелителем. Фотий не знал, что подчинялся он с такой легкостью потому, что тем самым с огромной радостью изгонял из себя остатки греха гордыни и жажды власти.
Но как ни жаждал Александр самоуничижения, печать былого положения лежала на нем, только увидеть её могли далеко не все. Старец Никита, живший в отдаленном углу монастыряв крошечной избушке, которую монахи не без насмешки называли кто скитом, а кто гробом, тот самый старец, который, по мысли Фотия, должен был подготовить Александра к постригу, как-то раз, внимательно посмотрев в глаза Александра спросил:
– Ты, Василий, каким ремеслом в миру промышлял?
– Офицером был, служил, отец, – улыбнулся Александр.
– Неправду глаголешь...
– Как... неправду? У меня и документ есть.
– Ну, документ твой – бумага, я же на челе твоем, сыне, знаки особые вижу...
– Какие же? – замер Александр.
– Царские знаки. – Старец провел тонкой, почти прозрачной рукой по густой еще, седой бороде и заговорил: – Нет мне дела до того, что у вас в миру творится. Спас Господь, увел от великих соблазнов, но как ты-то в обители оказался, царь России? Ведь ты ещё в зыбке качался, а тебя уж к высшему правлению готовили, к высшей власти. А тут все свои похотения оставить придется. Выдюжишь ли?
– Подчиняюсь всем правилам монастырским без ропота, – не стал опровергать Никиту Александр. – За тем и трон оставил. Мне легко здесь, ибо все в обители безвластны – за грех сие искушение считают.
Никита рассмеялся тихим, почти беззвучным смехом:
– Снова неправду глаголешь, сыне! В обители-то властных да подвластных нет? На власти здесь токмо все и держится. Дьявол, который Христа в пустыне властью искушал, здесь логово свое устроил...
Александр испугался и не поверил Никите
– Да что вы такое говорите, отче? Не грех ли гордости, что-де живете в отдалении от остальной братии да хлебе и воде, спите на сырой земле, вас на такие речи толкает?
– Нет, сыне – гордость вытекла из меня, как вода из дырявой кадки. Но многие отшельники, ещё с самых древних времен, гордость и жажду власти в себе пересилить не могли. Вспомни и Антония Египетского, Антония и Феодосия Печерских. Сергия Радонежского, Паисия Величковского да и многих старцев из Фиваиды Северной. Вначале уходили они от мира, от греха власти, селились в глуши, акридами и медом диких пчел питались, но узновал об их великой святости мир, приходил к ним за добрым советом, селились люди подле этих святых – так монастырьки образовывались. А где монахов много, там уж порядок нужен, а нужен порядок, нужна и власть. Вот эти отшельники святые уже и не отшельники вовсе, а игумены, уставы заводят, строго следят, чтоб остальная братия уставу подчинялась – то есть им же подчинялась! Был вчера отшельник – сегодня уж властелин, волю других людей попирающий. Земельку в свои монастырские пределы даже и с крестьянами, что на обитель работали, говорят, и Сергий Радонежский от богатых дарителей принимал. Не говорю об Иосифе Волоцком или Пафнутии Боровском. А ведь из монахов только на высшие церковные должности на Руси поверстывали. Где же тут безвластие? Только в скиту, как у меня, можно простоту и безвластие найти. Думаешь, я тобой руковожу? Нет, я – только косноязыкие уста, которыми Бог говорит. Можешь и не слушать меня – Бога будешь не слушать. Вот и ты – поучишься у меня, станешь монахом рясофорным, потом иеромонахом, за примерное поведение келаря из тебя сделают, а потом, если место настоятеля опорожнится, может и главным в обители будешь. Вот и получится, что знаки твои царские и не понапрасну на тебе видны. Оставил ты жезл мирской, возьмешь жезл друховный. А власть-то она одна – наслаждаешься бесовской радостью от знания, что тебе другие подчиняются. Так-то, сыне...
Александр, слушавший Никиту с какой-то болью в сердце, горячо сказал:
– Никогда я в искушение не впаду! Хочу быть скитником, как вы!
– Будь, будь им, сыне! – улыбнулся старец. – Только если ты уйдешь от мира в скит, он сам к тебе потом придет, прознав о святости твоей, да и вытащит тебя из скита за бороду, чтобы сделать тебя своим пастырем. Без пастыря-то овцы безголовые жить не могут. А станешь пастырем, станешь и властителем. Таков твой удел, сыне. Знаки-то, знаки зрю...
Александр ушел от Никиты в смятенных чувствах и дал себе зарок ходить к старцу как можно реже. Он с ещё большим усердием взялся за руд в конюшне, выполнял все предписания устава безукоризненно, был почтителен и кроток даже с простыми монахами. Александр видел, что над его усердием и исполнительностью посмеиваются молодые монахи и послушники, он же не только не выказывал обиды, но стремился быть более ласковым как раз с такими людьми. Александр уже в это время мечтал стать хорошим монахом, когда-нибудь принять схиму, и одна мысль, что к нему тогда смогут обратиться с предложением занять какую-нибудь монастырскую должность и он согласится, казалось Александру отвратительной. Он, обманутый и обиженный миром, бежал от него, гнал от тебя любые мирские помыслы, но мир настиг его в монастыре, правда, случилось это совсем не в том виде, в каком описывал вторжение мира к монаху Никита.
Случилось так, что для монастырской трапезной понадобился работник для вечерней чистки котлов, уборки, колки дров, и Фотий распорядился отправить туда Александра, веселый и счастливый вид которого не давал архимандриту покоя.
"Светел душою? Спокоен сердцем? – думал со злобой Фотий. – Говно конское выносить не брезгает? Ну так мало трудов у оного бежавшего с престола царишки. Тягло на него положу большее..."
Александр же, узнав ещё об одной работе, только поклонился монастырскому келарю и с радостью принялся за черный труд в трапезной, размещавшейся в отдельно стоящем домике, хоть и заметил в первый же вечер, что делом таким занимается он в одиночку. Никогда прежде не занимавшийся чисткой котлов, лишь спросив у уходящего повара, чем отскабливать их, и получив нужный совет, наносил из колодца воды, разыскал песок и золу и принялся за работу. Поначалу неумело, неловко, но потом все сноровистей, быстрее, при свете нескольких лучин отдраил котлы, стал перемывать оловянные миски и ложки. Казалось, что к полуночи Александр управится, но отвлек его от дела раздавшийся в трапезном зале шум, какой-то неуместный, мирской, суетный, совсем не такой, как во время монашеских трапез. Кто-то ходил по залу вольно, слышались чьи-то веселые выкрики, позвякивание, смех. Александр, отчего-то пугаясь этих звуков, осторожно подошел к оконцу, через которое монахи получали миски с рыбным или овощным варевом и хлеб, посмотрел в зал. Здесь и впрямь творилось что-то не свойственное монастырской жизни – со свечами в руках по залу ходили какие-то люди, хоть и в рясах, но возбужденные, готовящиеся сделать что-то противное монастырскому уставу. Один из них, бородатый, со всклокоченными кудрявыми волосами, вальяжно сев на стул перед столом, говорил:
– Ну вот, нашли-таки приют для отдохновения. Здесь и шишки сварим, да и шишку сварим. Или у вас, сыроядцев-сухоядцев, шишки совсем уж от долгого неупотребления иссохли, точно стручки гороховые стали? А?
Кудрявому отвечал один из суетившихся вокруг него монахов:
– Нет, Михаил Алексеевич, не совсем-таки стручки, кхе-кхе, ещё на что и сгодятся!
Говорил он это гадко-подобострастным голосом, и Александр сразу понял, что этот самый "Михаил Алексеевич" в компании за коновода, а кудрявый продолжал ерническим тоном:
– А не иссохли, так спустя часок пошлем тебя, Гордейка, за девками в посад новогородский. Денег я тебе дам, мне батюшка, в обитель вашу отсылая, отстегнул немного, хоть и жаден, как жид. Пока же оросим утробу нашу славным винцом да и закусим порядком, потому как выпить да и не закусить, это все равно, что посрать да не пёрнуть!
– Истинная правда, истинная! – захихикали монахи, выкладывая из сум и ставя на стол бутылки и какую-то снедь, а, наверное, Гордейка со смешком спросил:
– А как же, Михаил Алексеич, девок-то в обитель я проведу? Стена ж, да и ворота на запоре-с?
– Что ж, что стена, что ж, что ворота на запоре? – хохотнул коновод. Я напрасно ль в твоем гноилище живу уж месяц? Зря, что ли, от безделья шлялся здесь и там? Спознал уж, что, как пойдешь в дефилеях между собором и мойней прямо, так непременно в стену воткнешься, где кирпичи повыпали. Твой настоятель-скупердяй денег-то жалеет, чтобы стену заделать, вот и считай, что сам он дал нам повод монастырскую постную тишину маленько поразрушить. Да вы что, сыроядцы! – дико вскричал Михаил Алексеевич. – Сколько ж мне терпеть? Я месяц в вашей жопе гноюсь, а ни вина, ни баб за это время не пробовал! Хотите, чтоб я ума лишился?! Такими лещами вялеными, как вы жрете, питался? Нет, не будет такого! Я, может быть, в России третий по важности человек: вначале государь идет, хоть и рябой он самозванец, потом – батька мой, жила поганая, сославший меня сюда, а после, выходит, я, Михаил Алексеевич, хоть и выблядок я, как на Руси издавна незаконнорожденных детей именуют! Ну, Гордейка, ставь стаканы! Ты ветчину жрать станешь? Или тебе снетков чудских подать, а?
– Буду, ещё с какой радостью буду! – пропел Гордейка, и ему вторили другие монахи:
– И мы все ветчинки отведать не откажемся, барин!
– Хоть по маленькому кусманчику отчикай, Михаил Алексеич! Михаил Алексеич отозвался с важностью:
– Всем достанется, не боитесь! Я и в полку-то человеком щедрым считался, все деньги с товарищами пропивал – не жалел. И любили ж меня! Ну так и вы же полюбите! Вам-то, с вашими засохшими от чудских снетков животами да шишками, много ли надо?
– – Мало, ваше сиятельство, мало! – прогундосил по-холуйски кто-то. Вот ветчинки бы отведать – изголодались, постничая!
– Откормлю! – снов заорал Михаил Алексеевич. – Пузо отрастите! Девок, хоть каждый вечер, любить станете! Не бывать такому, чтоб мужики русские себя добровольно радостей жизни лишали! Ну, плещи, Гордейка – гулять братия будет! Коли я пришел к вам, так рай на землю вывести должен. Архимандрита же вашего – к лешему посылаю! Вериги, знаю, носит, а сам с Анькой Орловой сожительствует. Плещи, плещи, Гордейка!
Зашумело разливаемое по стаканам вино, заскрипел нож, захрустел разламываемый хлеб, застучали в дружеском чоканье стаканы, закрякали монахи, заперхали, застучали пальцы по обожженным с отвычками губам. Скоромный, неприличный, недозволенный пир начался. Скоро, слышал Александр, выпивохи закосневшими языками стали молоть всякий вздор, ругать монастырское начальство, порядки, всю жизнь монастырскую, собственную долю. Михаил же Алексеич всех одобрял, говорил, что все исправит, жизнь пойдет на лад, что архимандрит станет ему послушен, потому как и не может не быть таким, ибо зависит от его "батьки", как пчелы от матки. Через полчаса затянул протяжную, удальскую песню, а монахи нестройно, но с большой охотой подхватили. Но вот коновод оборвал пение и прокричал:
– Гордейка, сучий сын! Дуй в посад! За девками до мужиков охочими, дуй! Скажи, что барин гуляет! Каждой сули по серебряному рублю! Наливки тут у меня, конфекты да пряники! Лети, как муха, и чтоб через час доставил нам их сюда! Ну, прытко!
– Задаточек дадите, ваше сиятельство? – проканючил Гордейка.
– Бери, лихоимец, пять целковых, да только девок выбери поядреней, позадастей – я таких привечаю!
Зазвенело серебро, закрякал Гордейка в предвкушении давно забытой радости, Александр же, не имевший возможности уйти, весь сжавшийся, оскорбленный грубыми, растревожившими его разгворами, лихорадочно вспоминавший, чей же такой знакомый голос слышит он, на корточках сидел у раздаточного окошка, не имея сил подняться. А в зале все голосили монахи, и громче всех других голосов звучал голос Михаила Алексеевича, но вот прошел час или больше, – Александр не знал, – и в трапезной раздались смелые женские речи:
– Ай, мужички-монахи, рыбкой-то у вас здесь все провоняло!
– Нет, ладаном, Нюшка, пахнет, как возле упокойника. Пойдем скорей отсюда – чего ж нам в гробу оном делать? С мертвецами-то!
Но послышался сладко-призывный голос Михаила Алексеевича, страстный и наглый:
– Нет, девоньки хорошие, не совсем мы померли, ещё кое-что швелится у нас. Иди ком не, зазнобушка, иди, ладушка, да и приложи свою ручку белую. Ну, покойник ли я? Али тебе спервоначалу наливочки плеснуть да заедочек вкусных дать? Рыбка-то днем по этим просторам плавает, а ночью, гляди, окорок свиной сам к нам сюда притащился.
Вновь потекла по стаканам хмельная влага, зачмокали губами гостьи, зачавкали, поедая закуску, захрустели разгрызаемые орехи. Михаил Алексеевич все подчивал девиц, громко шептал им скоромные, бесстыдные слова, а те визгливо хохотали, радуясь ощущению власти над теми, кто именовался ущедшими от власти мира. Купленные за целковый, они в душе удесетеряли плату, делая похотливых мужчин подвластными себе.
Прошло время, и шум поутих, но громче зазвучало томное шептание, почмокание, постанывание, а к этим звукам внезапно прибавлялся вдруг чей-то чладострастный визг – и пропадал, сопровождаемый чьим-то одобрительным смешком. Вдруг звон разбившегося стекла прогнал все другие звуки, а вслед за ним последовал ленивый приказ:
– Гордейка, на кухню сбегай, кружку принеси...
– Сичас, сичас, Михаил Алексеич! Бегу!
Александр услышал приближающиеся шаги, вжался в стену, отчего-то сильно боясь, что обнаружат его присутствие, но монах, вошедший на кухню со свечой, вначале отпрянув от скорчившейся фигуры Александра, громко проговорил:
– Михаил Алексеич! Тута кто-то затаился!
– Да кто там затаился? – по-прежнему лениво отозвался коновод. Таракана али мышь нашел?
– Не таракана, ваше сиятельство! Послушник здеся, Василий, кажется! Сюда идите!
Не один Михаил Алексеевич, но все монахи и даже девки, – кто в рубахе, а кто и овсе нагишом, – явились на зов Гордейки. Александр же, считая, что не делом будет, если найдут его скорчившимся, будто он подглядывал, выпрямился. Те же, окружив его со свечами, с минуту настороженно глядели на Александра, покуда Михаил Алексеевич не заговорил:
– А, послушник примерный, тихий! Ты, брат любезный, оказывается, высмотрень архимандрита? За нами решил следиь? Ну так, иуда, будешь ты сейчас же живота лишен да и в котле сварен! Вот удивятся-то наутро все монаси, узрев за завтраком вместо постной каши мясо!
И кудлатый блудник, держа одной рукой свечу, другой не глядя взял со стола широкий длинный нож, шагнул к Александру, который, несмотря на темень, чуть вскрикнул, узнав в подходившем к нему человеке сына своего любимца Аракчеева – Мишеля Шумского! Александр уже отрастил бороду, и Мишель стоял перед ним бородатый, но оба, вперившись друг в друга взглядом, сразу же увидели знакомые черты. Мишель широко и пьяно заулыбался, сатанинская насмешка изломала красивое лицо, он с шутовской почтительностью поклонился и сказал:
– Ваше величество, какой сюрприз, какой презент! Вот уж не чаял найти вас на монастырской кухне. Разумеется, кто бы мог поверить в то, что вы, Благословенный, победитель Буонапарте, император, перед кем трепещет вся Европа, окажетесь близ грязных мисок и котлов! Презент, ещё какой презент!
И снова поклонился, трепеща от радости. Александр же взмолился:
– Михаил Алексеевич, я вас прошу, не открывайте никому, что увидели меня! Ну что вам стоит? Вам надобно умножить степень моего унижения? Ну вы видите, я и так унижен. Большего падения для государя и представить-то нельзя. Да, я по доброй воле решил отказаться от мира, я ищу в обители самую черную работу, я безропотен и беззащитен. Не унижайте же меня, прошу вас!
Мишель, продолжая смотреть на Александра со злобной насмешкой, вдруг повернулся к стоявшим позади него монахам и девкам, повелительно сказал:
– А ну, давайте, прочь идите!
Все разом хлынули из кухни в трапезный зал Мишель же, покривлявшись, заговорил:
– Ваше величество, вы сколько угодно можете меня просить – я же поступлю по-своему, потому как в сей жизни привык поступать лишь по-собственному хотению. Кто мне на оные поступки право дал? Вы же и дали! Я был рожден бастардом, но судьбе угодно было, чтобы родился я от семени второго человека Российской нашей империи. Эк, как чудто-то получилось жить с сознанием, что ты сын всевластного мерзавца, но в то же время безвластен вовсе! Вы согревали змея на груди своей, а я – змееныш, но токмо без жала и без зубов. Вот и захотелось мне смолоду кусаться, чтобы оправдать свое происхожденье. Кусаюсь я беззлобно, но все-таки кусаюсь, и таким кусачим решил я всю жизнь свою прожить, а то обидно как-то батька правит, а сынок даже фамилией его и титулом украситься не может. А здесь, в монастыре, куда меня послал папаша, я главным сделаться задумал, ибо Фотий папаши моего приятель, вы – бывший приятель Фотия, так отчего же мне не властвовать? Буду, буду! Теперь же и вы, кто сделал меня змеенышем, в путах власти моей находитесь, но я тиранить вас не стану. Одного лишь сейчас я попрошу от вас – совсем немного...
– Чего же?
– А погуляйте-ка вы с нами, царь-государь, потешьте сердце, станьте приятелем моим. Винцо да мясо сочное, наливки, девки и заедки ждут вас там. Выпьем по чарочке-другой – да и разойдемся. Никто и не узнает после, кто вы такой.
Александр вздохнул:
– Охочи вы до унижения брата своего, Мишель. Охочи!
Бастард смастерил на лице своем ухмылку, сатанея, прокричал, искривив все тело:
– Охоч, ещё как охоч! Же ву при, мон сеньон! Прошу к столу, а завтра как хотите! Мимо пройду и не замечу! Сейчас же с вами пить-гулять хочу! Час такой настал! Мой час! С самим царем гуляю! Идем! Идем!
Александр, понимая, что Мишель в своей необузданной страсти повелевать не отступит ни на шаг, покорно пошел за ним, идущим походкой гордой, радостной. Взбудораженный, с горящими от дикого восторга глазами, Мишель вышел в зал, сам, разливая водку, плеснул в стакан, подал Александру:
– На, пей! Знал бы ты, что подарил сейчас несчастному ублюдку минуту счастья! Ты и я – несчастные счастливцы, дети власти! Ну, выпьем да поцелуемся, Саша дорогой! Долго ль я проживу на свете – не ведаю, а час сей полуночный и на смертной одре буду вспоминать!
Не дожидаясь, покуда выпьет Александр, влил в себя стакан вина, губы рукавом утер и впился своими жадными губами в губы Александра, а после яро закричал:
– А вы, сушеные стручки, почему не пьете?! Каждый пусть за наше с Александром здоровье выпьет! Да и девкам наливайте – притихли что-то! Ну, трясогузки, пейте!
Монахи, не понимая, почему их коновод вдруг стал послушника Василия именовать Александром, с радостной суетой наполнили стаканы, все выпили. Мишель, уже довольно пьяный, песню снвоа затянул, кто-то из монахов пошел наяривать на ложках, другой в дно дубовой кадки стал стучать руками, девки закружились в срамотном диком танце, Мишель пошел плясать вприсядку, и гульба перевалила за те пределы, за которыми гуляк поджидает или совершенное бессилие, или полное исступление, безумное и всепоглощающее. Но чьей-то грозный окрик, раздавшийся неожиданно, некстати, мигом заставил всех остановиться, замереть. В дверях в сопровождении двух иеромонахов, с посохом в руке стоял архимандрит.
– Бесы! Бесы!! – с великим гневом. обидой и недоумением прокричал Фотий. – Святую обитель срамите?! Чистый алтарь калом и мочой срамоделия поливаете?! Никогда прежде не бывало такого греха в сей обители! Преступники вы и заслуживаете самой страшной кары! Говорите, кто зачинщик блудодействия наглого и бесстыдного?! Кто святотатец безумный?! Ответствуйте, иначе всех без разбору на казнь страшную пошлю!
Мишель, желая, видно, довести безобразие сцены до высших пределов, находя в том огромную радость от возможности попрать власть архимандрита, вихляя бедрами, со стаканом в руке, обнимая другой рукой полуголую блудницу, немало, однако, смущенную, пошел к Фотию.
– Кого казнить собрался, ханжишка? Меня что ль, Мишеля Шумского, сынка другого твоего и начальника?! Не я ли сам тебя в кнуты отправить могу, сорвав вначале с позором твой клобук настоятельский?!
Наглая речь послушника, опозорившего монастырь не виданным доселе срамом, отняла у Фотия дар речи. Он стоял, мелко-мелко постукивал посохом об пол, разевал рот, пучил глаза. Наконец изрек:
– Срамник бессовестный! Отца своего начальником моим называешь? Нет, не начальник он мне – иное начальство у меня отыщется! Ты же, щенок, весь в моей власти, и власть сию сам отец твой мне вручил, тебя, бесстыдника, ко мне на поруки отправляя! Но за не виданный досель в обители срам, тобою учиненный, завтра ж отошлю тебя в монастырь Соловецкий, где погодка похолодней да настоятель построже! Бесов изгонять из святых мест безо всякой жалости надо!
Тут Фотий, скосив глаза, нечаянно бросил взор на стоявшего в сторонке понурившегося Александра, которому было безумно стыдно находиться в одной компании с безобразниками.
– А это кто?! – скорее с радостью чем с негодованием воскликнул Фотий. – Послушник Василий, тихушник скромный! Ну-ка, ко мне скорей ступай! А ну, дыхни, дыхни! – потребовал Фотий, когда смущенный Александр приблизился к нему. – Ай, да и дышать не надо! Слышу, как зельем хмельным от тебя разит! Вот аспид-то в овечьей шкуре! Уступчив, работящ и скромен, а на деле что? Вином и девками в обители святой пробавляется с другими блудниками, так что ли?!
Александр просто корчился от обжигавшего чувства стыда, он даже не мог поднять на Фотия глаза, весь трясся. Еле слышно проговорил:
– На кухню я сегодня был отправлен, для мытья котлов... Простите, отче преподобный, ради Бога!
– Нет, не прощу! – чрезвычайно радуясь тому, что находящийся в его власти первый человек державы достоин его гнева, унизил себя до срамотного поступка, уничтожил в себе достоинства, присущие властелину, звонко прокричал архимандрит. – Прочь тебя, Василий, из обители изгоняю! Не достоин ты быть средь братии! Завтра ж собирайся!
Но тут заревел до этого молчавший Мишель:
– Кого гонишь, мракобес?! Святого человека гонишь?! Да ты и ногтя-то сего мужа не стоишь, хламида вшивая! Гордыней упиваешься, властью, а вериги носишь, постишься, ханжишь! Лживая твоя святость! Самого тебя из обители гнать надо грязным веником!
Фотий поднял было посох, чтобы ударить им обидчика или просто погрозить им, но Мишель опередил движение архимандрита, схватил его одной рукой за запястье, другой – за длинную бороду, Фотий по-дурному взвыл, скорее переживая оскорбление, чем страдая от боли, а Мишель, расценив вой отца преподобного как воинственный клик, сам закричал, опрокинул архимандрита на пол и, покуда два иеромонаха силились оторвать смутьяна от настоятеля, сын Аракчеева успел дважды съездить его кулаком по лицу, вырвать изрядный клок из бороды и один раз удружить ударом посоха. Александр, не имея сил смотреть на отвратительное побоище, происходящее в стенах монастыря, где укрывались люди от мирских страстей, поспешил выбежать из трапезной. Он летел к своей келье, чтобы укрыться в ней и предаться горячей молитве. Александр понимал, что мир добрался до него и в монастыре, причем в творении этого ужасного мира был повинен он сам, потому как Мишель Шумский на самом деле был в какой-то мере и его сыном: да, Аракчеев родил Мишеля, но Александр был тем, кто родил Аракчеева как государственного человека, второе после государя лицо.
... Из ворот Юрьевского монастыря Александр вышел поутру. Лил сильный дождь, и скоро его шинель стала намокать. Без шапки, в шинели, в сюртуке и в казенных монастырских штанах, которые ему разрешили оставить себе, Александр выглядел нищим бродягой благородного происхождения. Куда ему сейчас идти, Александр не знал, как не знал ни месяца, ни дня недели, ни числа. Прошел под дождем с полверсты, впереди чернели крыши какой-то деревеньки, слышалось чье-то уханье, злая брань и крики. Вдалеке увидел он копошащихся людей, которые, разделившись на кучки, то набегали друг на друга, то разбегались вновь. Подошел поближе и рассмотрел, что копошащиеся люди дерутся, дерутся яро и серьезно, с намерением ударить противника не просто побольней, а так, чтоб уложить на землю. Бились они, топая по размокшей от дождя земле, жижа чавкала под их сапогами и лаптями, на которых толстым слоем налипла грязь. Бойцы падали в грязь, вскакивали, если имели силы, или оставались лежать в грязи, окровавленные и перемазанные чернотой, как черти. Сажернях в тридцати от дерущихся стоял человек в шляпе приходского священника, в рясе, но с накинутой поверх головы и плеч рогожкой – от дождя. Стоял и молча, но неотрывно смотрел на дерущихся. Александр подошел к нему, с укоризной спросил: