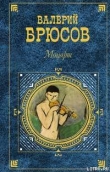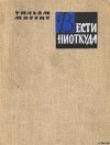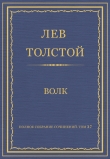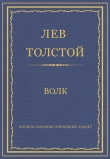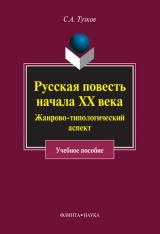
Текст книги "Русская повесть начала ХХ века. Жанрово-типологический аспект"
Автор книги: Сергей Тузков
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Динамика жанров в творчестве Б. Зайцева (от рассказа к роману) связывается исследователями с романным способом мышления писателя: он предпочитал мыслить максимально крупными, субстанциональными категориями, такими, как жизнь, смерть, судьба, время, Бог и др. Соответственно, промежуточные между рассказом и романом жанровые формы, в том числе и повесть, у Б. Зайцева романизируются (повесть-роман).
Творчество И. Шмелёва отчётливо делится на два периода: до– и послереволюционный. Свои лучшие книги – «Богомолье» (1931–1948) и «Лето Господне» (1934–1948) – он написал в эмиграции. Но среди его произведений 1910-х годов также немало достойных войти в «золотой фонд» русской литературы: повести и рассказы «Человек из ресторана» (1911), «Стена» (1912), «Пугливая тишина» (1912), «Росстани» (1913), «Волчий перекат» (1913), «Неупиваемая чаша» (1918) и др. За последнее десятилетие благодаря изданию сначала двухтомного (1989), а затем восьмитомного (1998–1999) собрания сочинений И. Шмелёв превратился из малоизвестного писателя, автора одного произведения (повести «Человек из ресторана»), в классика русской литературы XX века. Его художественное наследие стало фактом не только современной литературной, но и научной жизни: издаются монографии (О. Сорокина, 1994; А. Черников, 1995; Е. Руднева, 2002), защищаются диссертации, проводятся ежегодные Международные Шмелёвские чтения (Алушта), публикуются статьи в научных сборниках и т. п. Естественно, исследователи обращаются к наиболее ярким, эстетически значимым произведениям И. Шмелёва, высокая художественность которых бесспорна. При этом затрагивается широкий спектр проблем: творчество И. Шмелёва рассматривается в контексте славянской и мировой культуры, русской религиозной традиции, литературного процесса XX–XXI веков; особое внимание уделяется вопросам поэтики, стилистики, жанрового своеобразия его произведений; уточняются и переосмысляются устоявшиеся представления о творчестве писателя.
В дореволюционной критике за И. Шмелёвым прочно закрепилась репутация бытописателя, связанная с попытками ограничить значение даже таких его произведений, как повесть «Человек из ресторана», лишь обилием любопытных бытовых подробностей. Обвиняя И. Шмелёва в поверхностном «бытовизме», некоторые критики не принимали и характерную для большинства его произведений внешнюю бесстрастность и объективность повествования, лишённого зачастую даже малейшего намёка на авторское вмешательство, а следовательно, и ярко выраженной идеи. Мнение об И. Шмелёве как о писателе бестенденциозном было в своё время широко распространённым (А. Ожигов, М. Левидов и др.). Справедливости ради следует отметить, что существовала и иная точка зрения, выраженная в статьях Н. Коробки, В. Львова-Рогачевского, А. Дермана, согласно которым творчество И. Шмелёва шире заурядного «бытовизма», оно несёт в себе глубокое содержание, не сводимое к простому воспроизведению деталей быта.
Однако мнение, что в большинстве своих произведений 1910-х годов И. Шмелёв оставался поверхностным «бытописателем», всё же ещё долго преобладало: «Страдание человека остаётся здесь ещё в пределах быта, бытового горя, бытовых волнений и не вступает в ту сферу бытия, где выступает более чем человеческое или даже сверхчеловеческое содержание, возводящее душу на уровень мировой скорби» [20, с. 145]. Поэтому очень важно подчеркнуть, что быт никогда не являлся для И. Шмелёва самоцелью: в лучших произведениях писателя отчётливо видно стремление перейти от эмпирического бытописания к философско-художественному постижению мира. Это придаёт прозе И. Шмелёва новые качества, выявляет её эволюцию от реализма к неореализму и «духовному реализму» (термин А. Любомудрова). Характерно, что обращаясь к феномену неореализма русских писателей начала XX века, В. Келдыш определяет движение неореалистической прозы емкой формулой: «Бытие сквозь быт» [21]. Это, конечно, не универсальная формула (да и нелегко найти какую-либо формулу, в целом определяющую особенности того или иного литературного явления), но она знаменует одну из заметных тенденций в неореализме, основой которого становится более широкий относительно классического реализма взгляд на мир и человека.
Цель И. Шмелёва – показать реальную действительность, а уж затем искать в ней скрытый смысл. Он проясняется постепенно и как бы без участия автора, «проявление» текста происходит в сознании читателя, функцию проявителя выполняет стиль[12]12
Нам очень симпатична формула И. Ильина: «Шмелёв по стилю своему есть поющий поэт…» [20, с. 156], точность языка И. Шмелёва, прозрачность и в то же время насыщенность слова, делающая его стиль «не-сразу-прозрачным», требуют от читателя конгениального парения. О слове И. Шмелёва можно повторить сказанное им на чествовании И. Бунина, нобелевского лауреата: «Всё тленно, но “Слову жизнь дана”. Слово – звучит, живёт, животворит, – слово великого искусства… И если бы уже не было России – Слово её создаст духовно».
[Закрыть]. Соответственно, на первый план выходят стилевые поиски, обновление повествовательной манеры: для ранней прозы И. Шмелёва характерна поэтика сказа («Человек из ресторана», «Стена» и др.); в более поздних произведениях сказовые художественные традиции отступают, заменяясь собственно авторским повествованием, в котором эпические элементы сочетаются с драматическими («Волчий перекат») и лирическими («Неупиваемая чаша»). Новаторство И. Шмелёва проявляется и на других уровнях жанрово-стилевой структуры произведений – в их сюжетном построении, образной системе, хронотопе. Исследователями отмечается ослабленная сюжетность произведений И. Шмелёва, перемещение внешнего действия «вовнутрь», символическая многозначность образов и пространственно-временной организации текста. Эти особенности поэтики И. Шмелёва во многом определяют жанровое своеобразие его прозы – будь то повесть-сказ («Человек из ресторана»), повесть-драма («Волчий перекат»), повесть-поэма («Неупиваемая чаша»), повесть-идиллия («Богомолье») или «духовный роман» («Пути небесные»).
Феномен сегодняшней популярности Е. Замятина связан с романом-антиутопией «Мы» (1921), который – как это ни парадоксально – в своё время стал поводом к запрету сначала всего его творчества, а затем и самого имени писателя {4}. Именно «шлейф запретности» вознёс роман «Мы» заведомо выше всего, что было написано Е. Замятиным: не только в читательском восприятии он всё ещё остаётся автором одного произведения, но и во многих исследованиях творчество писателя по инерции оценивается в свете его антиутопии. Художественные открытия, сделанные писателем в других произведениях, искажаются или игнорируются.
Вместе с тем в современных работах, как отмечает в предисловии к сборнику «Новое о Замятине» (1997) его составитель Л. Геллер, идёт открытие Замятина, лишённого идеологической «антиутопической» нагрузки. Всё чаще высказывается мысль, что, с одной стороны, в подходе к проблемам творчества Е. Замятина появились разного рода стереотипы и традиционные схематичные оценки, а с другой – многие ключевые аспекты творчества писателя, не связанные с его главным произведением, остаются, к сожалению, ещё малоизученными. Парадокс заключается в том, что антиутопия Е. Замятина – далеко не первое его высказывание о судьбе России, далеко не первое его предсказание, предвидение.
Творчество Е. Замятина в последнее время привлекает особенно пристальное внимание научной мысли: регулярно проводятся Замятинские чтения (Тамбов), всероссийские и международные конференции, издаются коллективные работы и монографические исследования. Всё говорит о том, что период «возвращения» Е. Замятина на родину, сопровождавшийся скоропалительными политизированными статьями и соревновательным потоком публикаций произведений запретного писателя с минимальным комментарием, скорее сбивавшим с толку, чем что-то объяснявшим, наконец завершился: «…разбросанные камни почти все собрали и началось капитальное и серьёзное, неспешное строительство»
[22, с. 241]. В современном замятиноведении в целом определился ряд дискуссионных проблем, вокруг которых разворачивается научный дискурс: теория неореализма, оппозиция «энтропийно-аполлоновского» и «энергийно-дионисийского» начал, жанрово-стилевые поиски, интертекстуальная парадигма, мифотворчество и др.
Мировоззрение Е. Замятина нередко характеризуется через бытийную оппозицию «энергия – энтропия», которая находит соответствие в поэтике его произведений. В 1923 г. Е. Замятин опубликовал статью «О литературе, революции и энтропии», где, основываясь на сформулированных немецкими учёными XIX века законах сохранения энергии (Ю. Р. Майер) и её «вырождения» (энтропии) (Р. Ю. Клаузиус), определил своё отношение к революции: «Багров, огнен, смертелен закон революции, но эта смерть – для зачатия новой жизни, звезды. И холоден, синь как лёд, как ледяные межпланетные бесконечности – закон энтропии. Пламя из багрового становится розовым, ровным, тёплым, не смертельным, а комфортабельным; солнце стареет в планету, удобную для шоссе, магазинов, постелей, проституток, тюрем: это закон. И чтобы снова зажечь молодостью планету, нужно зажечь её огнём, нужно столкнуть её с плавного шоссе эволюции: это закон».
Здесь же он определил, что для нас более важно, свою писательскую программу («от быта к бытию, к философии, к фантастике») и принципы поэтики: «Старых медленных, дормезных описаний нет: лаконизм – но огромная заряженность, высоковольтность каждого слова. В секунду нужно вжать столько, сколько раньше в шестидесятисекундную минуту: и синтаксис становится эллиптичен, летуч, сложные пирамиды периодов разобраны по камням самостоятельных предложений. В быстроте движения канонизированное, привычное ускользает от глаза: отсюда – необычная, часто странная символика и лексика. Образ – остр, синтетичен, в нём – только одна основная черта, какую успеешь приметить с автомобиля. В освящённый привычкой словарь – вторглись провинциализмы, неологизмы, наука, математика, техника» [23, с. 387–388, 391, 392]. По Е. Замятину, «живая жизнь», как и литература, всегда анти-энтропийна.
Замятинская схема смены творческих методов (реализм – символизм – неореализм) сводится к следующему: «реализм – тезис, символизм – антитезис, и сейчас – новое, третье, синтез, где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стёкла символизма» [24, с. 366]. Эта схема, а также его «самохарактеристика» как неореалиста вводят исследователей в круг непрояснённых теоретико– и историко-литературных вопросов. Не только термин «неореализм» сегодня используется в различных смысловых контекстах, но нет и единого мнения относительно того, насколько последовательно использует Е. Замятин поэтику неореализма (внимание к быту провинции, некоторая преувеличенность и фантастичность в изображении мира, «показывание, а не рассказывание», сжатость языка, «пользование музыкой слова», ведущая роль сказа и т. п.) в различные периоды творчества.
Попытки представить творчество Е. Замятина как постоянно обновляющуюся художественную систему закономерно приводят к противопоставлению орнаментального стиля его «урбанистической» прозы конца 1910-х – начала 1920-х годов сказовой манере повествования «антиурбанистических» произведений начала 1910-х годов: сказовый дискурс является определяющим для жанровой парадигмы дореволюционных произведений Е. Замятина (повесть-сказ).
Гений В. Хлебникова – причина недооценки поэта современниками и посмертного прославления: его литературная репутация («поэт для поэтов») сложилась среди футуристов (В. Маяковский: «Понятные вначале только семерым товарищам-футуристам, они (стихи В. Хлебникова. – С. Т.) десятилетие заряжали многочислие поэтов») и утвердилась в эпоху формализма (в 1920-е годы), когда было издано его первое собрание сочинений в пяти томах с предисловием Ю. Тынянова, включившее большинство лучших, ранее не публиковавшихся, произведений[13]13
После того, как в 1928–1933 гг. было издано пятитомное собрание произведений В. Хлебникова, в 1940 г. вышел дополнительный том, который назывался «Неизданные произведения». Следующего тома сочинений поэта пришлось ждать почти пятьдесят, а собрания сочинений – семьдесят лет.
[Закрыть], и появились конгениальные («проективные») исследования поэтики В. Хлебникова (работы Р. Якобсона и др.).
С тех пор, несмотря на усилия многочисленных исследователей, отношение к В. Хлебникову в окололитературных кругах мало изменилось: он так и не стал «поэтом для читателей». Его литературное наследие, в том числе проза, и сегодня воспринимается как «алхимия слова», «экспериментальная заумь», вызывающая неподдельное восхищение лишь у относительно небольшого числа людей, для которых «велимироведение» стало если не смыслом, то частью жизни.
В науке о литературе интерес к творчеству В. Хлебникова за прошедшее столетие не только не угас, но приобрёл со временем качественно новую форму: «Если в начальную эпоху и в особенности для ближайших его сподвижников Хлебников нужен был прежде всего как изобретатель новых поэтических методов, нужен был в набросках, в отрывках <…>, если в последующие десятилетия важны были отдельные произведения и отдельные стороны его творчества – наиболее открытые и доступные для восприятия, то сейчас задача заключается в том, чтобы увидеть художественный мир Хлебникова в его целом. Дело идёт уже не о признании нужности и важности его поэзии, не об оценке его места в истории литературы, а о живом и сознательном понимании» [25, с. 6].
Решению этой задачи посвящены монографии (Б. Леннквист, 1999; X. Баран, 2002; И. Романенков, 2003) и многочисленные статьи современных исследователей творчества В. Хлебникова, собранные в тематических сборниках «Поэтический мир Вели-мира Хлебникова» (1992), «Вестник Общества Велимира Хлебникова» (1996), «Мир Велимира Хлебникова» (2000), наследие поэта в контексте мировой культуры XX века рассматривается на традиционных Хлебниковских чтениях (Астрахань). По-прежнему особое внимание литературоведов привлекают проблемы мифо– и словотворчества В. Хлебникова, причём наряду с поэзией немалый интерес вызывает и проза писателя – главным образом, относительно завершённые (насколько вообще понятие канонического текста применимо к ним) прозаические произведения («Ка», «Есир», «Малиновая шашка» и др.) и, разумеется, такое специфическое явление жанровой поэтики В. Хлебникова как «сверхповесть».
Жанровая эволюция прозы В. Хлебникова (от фрагментарных гротесков до «сверхповести») даёт представление о попытке «гениального графомана» разрешить проблему фабульного повествования. Чёткие ориентиры для исследователей жанровой поэтики В. Хлебникова наметил Т. Гриц в статье «Проза Велимира Хлебникова» (1933). Отметив частичную близость В. Хлебникова к прозе раннего футуризма, он указал на своеобразие его литературной позиции:
• необычность семантического строя: В Хлебников «смещает два плана – основной и метафорический, механически сцепляет множество предметных рядов. В результате получается чисто словесный орнамент…»;
• словотворчество: сближение фонетически близких, но семантически чуждых слов;
• архаический стиль: архаизм В. Хлебникова складывается в сложных гомеровских эпитетах, синтаксических инверсиях и лирических обращениях XVIII века;
• литературное «славянофильство»: «он уходит, в поисках темы, к славянской мифологии, к народному эпосу, к фольклорным песням и заклинаниям, к истории…»;
• воскресение традиции научной прозы: «свои математические, исторические и филологические изыскания он внедряет в ткань художественного повествования. С позой учёного связаны и его утопии, которые <…> дают не практическое, а чисто поэтическое построение мира»;
• нарушение жанровых канонов: «ощущение противопоставленности стиха и прозы почти стирается: проза делается «поэтической», а стихи прозаичными»;
• фрагментарность ранних гротескных набросков вытекает из их внутренних свойств: здесь «нет сюжетного задания, сюжетного осложнения, разрешение которого могло бы дать композиционную завершённость. Хлебников сосредотачивает свой интерес на описании, на стилистике, на внефабульном материале»;
• «сверхповесть» или «заповесть» складывается из самостоятельных отрывков: «основное жанровое содержание – соединение качественно отличных, самостоятельных кусков. Стихи здесь механически соединяются с повествованием, в повествование внедряются диалогические отрывки»;
• сложнейшая вещь В. Хлебникова – «Ка»: её сложность происходит «от неканоничности, от свободы обращения со словом, синтаксисом, семантикой, материалом и жанром» [26][14]14
К сожалению, по разным причинам, статья Т. Грица не была опубликована в своё время ни в России, ни в Нью-Йорке (у Д. Бурлюка), так что в научный обиход она вошла с 60-летним опозданием – только в 90-е годы XX в.
[Закрыть].
Проза и драматургия Н. Гумилёва находятся в тени его поэзии. Но если драматические произведения поэта, написанные рифмованными и белыми стихами («Гондла», 1916; «Отравленная туника», 1918 и др.), воспринимаются как органичная часть его творчества, то отношение к гумилёвской прозе всё ещё остаётся неопределённым. Нередко о прозе Н. Гумилёва-поэта судят снисходительно, находясь в заблуждении, что лучшие прозаические произведения писателя изданы в посмертном сборнике «Тень от пальмы» (1922). На самом деле эта книга не может восприниматься как итоговая, поскольку в ней собрана лишь ранняя проза поэта: большинство рассказов («Принцесса Зара», «Золотой рыцарь», «Последний придворный поэт», «Чёрный Дик» и др.) были написаны им в 1907–1908 гг. в подражание стилю любимых с детства писателей (Г.-Х. Андерсен, Р.-Л. Стивенсон, О. Уайльд).
Парадокс в том, что посмертный сборник «Тень от пальмы» представляет Н. Гумилёва-прозаика в самом начале его творческого пути – в период создания первых («полуученических») книг стихов «Путь конкистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908), «Жемчуга» (1910) – и отражает ту юношескую экзотику и эротику Н. Гумилёва времён неоднократно упоминаемых в мемуаристике «цилиндра и накрахмаленного пластрона», которые он преодолевал «лирикой простоты» в поздней документальной прозе («Африканский дневник», 1913; «Записки кавалериста», 1914–1915) и стихах 1910-х годов («Колчан», 1916; «Костёр», 1918; «Шатёр» и «Огненный столп», 1921).
Ранняя проза Н. Гумилёва, вопреки подражательности, сохраняет авторское своеобразие («гумилизм»): надменность, позёрство, любовь к «риторическому великолепию пышных слов» (В. Жирмунский)[15]15
Известен случай, когда вернувшийся из очередного путешествия поэт на вопрос об Африке ответил: «Я её не заметил. Я сидел на верблюде и читал Ронсара».
[Закрыть]. Но эта проза, воплощая «экзотический романтизм декоративного типа», на наш взгляд, составляет наименее интересную часть его литературного наследия. Более привлекательными для современных исследователей являются «Записки кавалериста» (военный дневник писателя) и его неоконченные прозаические произведения (повесть «Весёлые братья», впервые опубликованная Г. Струве в сборнике «Неизданный Гумилёв» (Нью-Йорк, 1952), «Белый единорог» и др.), стилистическая оригинальность которых позволяет думать, что поэт не дожил до своей лучшей прозы.
* * *
Развитие модернизма в русской литературе начала XX века, с одной стороны, и диалог между реализмом и модернизмом, с другой, приводят к тому, что в творчестве многих писателей – не только модернистов (В. Брюсов, А. Белый, А. Ремизов, В. Хлебников), но и тех, чьи произведения традиционно рассматриваются в контексте реалистического искусства (М. Горький, И. Бунин, А. Куприн) или неореализма как постсимволистского течения (Е. Замятин, И. Шмелёв, Б. Зайцев), – в большей или меньшей степени актуализируется модернистская стилевая тенденция (интертекстуальность, неомифологизм, использование лирических принципов организации повествования). Она распадается на несколько стилевых разновидностей (парадигм): экзистенциально-мифологическую, сказово-орнаментальную, импрессионистическо-натуралистическую.
Типология русской повести начала XX века нами строится на основе идеи синтеза различных художественных способов, принципов воссоздания мира и человека в пределах одного произведения. Формирование синтетического типа образности, стиля, художественного мышления представляет особый интерес в ракурсе сближения литературы с философией: принципиально новый характер философии с элементами художественной словесности, представленный именами таких русских философов, как Вл. Соловьёв, В. Розанов, Л. Шестов, П. Флоренский, Е. Трубецкой, Н. Бердяев и др., обусловил неразрывность философского и эстетического начал прозы М. Горького, Л. Андреева, В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Ремизова и других писателей, чьё творчество даёт возможность говорить об экзистенциальной традиции в русской литературе XX века. Экзистенциальное сознание формирует достаточно устойчивую модель мира: её параметры (катастрофичность бытия, кризисность сознания, онтологическое одиночество человека) задают универсальную эмоциональную доминанту литературы экзистенциальной ориентации, – она рождается между страхом смерти и страхом жизни. В то же время экзистенциальное сознание вариативно, оно вырабатывает оригинальные принципы поэтики [148].
Синтетичность (ассоциативность) – важнейшая черта сказово-орнаментальной поэтики, совмещающей в себе признаки прозы и поэзии: ничто не существует само по себе, всё связано, переплетено, объединено по ассоциации, иногда лежащей на поверхности, иногда очень далёкой. Сюжет утрачивает свою традиционную организующую роль, его функцию выполняют лейтмотивы: фрагменты повествования скрепляются ассоциативными связями. Повествовательная система орнаментальной прозы нередко включает в себя имитацию сказа: если сказ в чистом виде ориентирован на формы устной речи, которые находятся за пределами литературного языка, то в сказовом стиле А. Ремизова, А. Белого, Е. Замятина, И. Шмелёва отталкивание от нормативной наррации выражается сознательным подчёркиванием условности, искусственности повествования.
Импрессионизм и натурализм в современном литературоведении нередко рассматриваются как кульминационные пункты развития реализма XIX века. Отмечается, что импрессионизм в русской литературе проявил себя преимущественно как течение, пограничное с символизмом в поэзии и с реализмом и неоромантизмом в прозе. Вместе с тем импрессионистическая художественная система обнаруживает очевидное тяготение к элементам натурализма. Натурализм, в свою очередь, зафиксировал сближение литературы с естественными науками: здесь эстетическое переживание рождается из совпадения материала с действительностью, при этом сочетаются «новизна материала, смелость в затрагивании той или иной темы – и шаблонность, эпигонская вторичность в способах организации этого материала» [28, с. 197]. Как самостоятельные явления ни импрессионизм, ни натурализм в русской литературе не сыграли сколько-нибудь значительной роли, но тем не менее оказали существенное влияние на формирование творческого метода таких писателей, как И. Бунин, Б. Зайцев, М. Арцыбашев, А. Куприн и др. Импрессионистическо-натуралистические тенденции проявляются на разных этапах их творчества и постоянно привлекают внимание исследователей.
На рубеже XX века формула художественного сознания второй половины XIX столетия («рациональный дискурс») изживает себя: реализм уже не может претендовать на роль универсальной эстетической системы, способной объяснить мир. На смену ему приходят модернизм и неореализм. Термин «неореализм» возник в 1900-е годы, но научного обоснования не получил и постепенно был вытеснен из научного обихода, так как многие из писателей-неореалистов в 1920-е годы оказались в вынужденной эмиграции. В сущности, судьба этого термина – а в литературных энциклопедиях советского периода такая статья или отсутствует, или описывает направление в итальянском искусстве 1940–50-х годов – повторяет судьбу многих писателей-эмигрантов, на долгие годы вычеркнутых из истории русской литературы.
Процесс реабилитации растянулся на многие десятилетия: табу на термин «неореализм» было снято лишь в 90-е годы XX века, когда в Россию вернулись произведения Б. Зайцева, И. Шмелёва, Е. Замятина и др. Но реабилитация оказалась не полной: огромный смысловой потенциал термина по-прежнему остаётся невостребованным: сегодня, как и в 1910-е годы, им обозначают постсимволистское стилевое течение в русской литературе начала столетия. Создатели многочисленных теорий реализма XX века (реализм «новой волны», новый реализм и т. п.) в поисках термина-эвфемизма невольно забывают о том, что «не следует увеличивать количество сущностей» («бритва Оккама»).
Элементарная толерантность подсказывает единственно верное с историко-литературной точки зрения решение: расширить область употребления термина «неореализм». Нам представляется, что неореализм следует рассматривать в одном ряду с реализмом и модернизмом, как новый этап в русском реализме, синтезировавший опыт реализма XIX века и модернизма (символизма, экспрессионизма, импрессионизма и т. д.) рубежа XIX–XX веков.
Модернизм и неореализм (реализм, обогащенный элементами поэтики модернизма), возникшие в качестве антитезы рациональной картине мира, становятся доминирующими направлениями в русской литературе начала XX века. Развитие жанра повести в данный период отражает новое соотношение литературных направлений: произведения ведущих русских писателей рубежа XIX–XX веков могут быть вписаны в два типологических ряда: модернистская повесть и неореалистическая повесть. В свою очередь, каждый из этих рядов распадается на множество жанровых разновидностей.