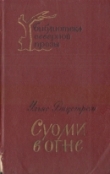Текст книги "Крамола. Книга 2"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
6. В год 1920…
Трибунал… Кара…
Есть слова, от звучания которых прежде вздрагивает душа и лишь потом доходит их смысл. Они понятны без перевода на всех языках.
Контрреволюция, террор, экспроприация, реквизиция, диктатура…
Слова эти были интернациональны в России, ибо ни одно из них не имело русского корня.
Они повторялись всюду на разные лады, словно языческое заклинание; они легко срывались с уст и были конкретны, как пулеметная очередь. В некогда сложном российском народе, где человек порой не мог понять даже себя и вечно терзался вопросом – кто я? зачем живу? – где преклонялись перед мучеником, а не перед знатностью и канонизировали блаженных нищих, – в этом народе набор рычащих слов и их суть враз упростили мир до животной простоты.
«Кто не с нами – тот против нас», «Кто не работает – тот не ест», «Кто был ничем – тот станет всем»…
Первое время после Москвы Андрей ездил по освобожденным районам Сибири и не мог отвязаться от ощущения, будто снова оказался в степи под Уфой и бродит по земле, усеянной костями. Война откатилась далеко на восток, словно таежный пожар, однако кругом все еще дымились и вспыхивали его очаги. Из тюрем и приспособленных для этой цели подвалов освободили одних, но тут же и загрузили их другими, словно опасаясь, как бы не осталось пустым нынешнее «святое» место. Одно военное положение заменили другим, а законы его – увы! – одинаковы при любой власти. Вместо интендантских и фуражных отрядов пошли по городам и весям продовольственные отряды, колчаковскую контрразведку заменила ЧК, и что больше всего потрясло Андрея, так это то, что могилы замученных большевиков переносили на центральные площади, а в освободившиеся ямы сбрасывали трупы расстрелянных по приговору чрезвычайки.
И если в Москве, выслушивая инструкции работников ревтрибунала или в беседах с Шиловским, он видел перед собой конкретных людей, видел их глаза, лица, руки, и было нетрудно понять и почувствовать, от кого исходит чужая воля, то здесь, за тысячи верст от центра, воля эта была незримой, неосязаемой, но довлеющей над человеком с силой еще более неотвратимой. Андрей надеялся, что с расстоянием гипноз чужой власти ослабнет, а то и вовсе перестанет существовать. Впрочем, так и случилось, и он почувствовал это еще в поезде, по дороге в Сибирь. Он был свободен и владел своей волей, но лишь в той степени, пока не вспоминал, кто он и зачем послан. Но и тогда была все-таки возможность проявить свою волю, хотя бы потому, что слова «трибунал» так или иначе опасались даже власть имущие люди, привыкшие к раскатам громовых революционных слов. К тому же многие знали, кто такой Березин, помнили его расправу с пленными на Обь-Енисейском канале и всегда подразумевали, кем обласкан был он в столице и как произведен в судьи.
Можно было проявить волю…
Но невидимая чужая власть и воля, материально доходившая сюда разве что в виде телеграфных лент, засургученных пакетов с мало кому ведомым содержанием, однако же была вездесуща и усилена многократно. Казалось, глаза, глядящие в упор, и руки, двигающие тебя, куда мягче: все-таки человеческий образ. А воля, воплощенная в телеграфную ленту, напоминала длинный, свистящий в воздухе бич, совладать с которым невозможно.
Кругом говорили, что это – воля пролетариата, что это его властная рука, его ум, честь и совесть.
Диктатура пролетариата.
Трепещите, враги!
То было странное, непривычное состояние: Андрей чувствовал свои развязанные руки, и рот ему никто не затыкал и простор был кругом на многие сотни верст. И одновременно ему чудилось, будто он постоянно находится в каком-то магнитом поле. Он мог судить – творить то, что отпущено лишь высшей власти. Шиловский знал, что говорил: судья правит миром… Он мог миловать. И миловал бы всех, если бы не обязан был казнить. Он много говорил, иногда до хрипоты и отвращения к своему голосу, а вот по душам поговорить было не с кем! Тауринс от природы был молчалив, да и не доверял ему Андрей; Юлия, племянница Шкловского, – чужой, хотя и участливый человек, к тому же многого не поймет по молодости. Были еще почти всегда рядом два члена трибунала: венгр-интернационалист Янош Мохач, страдающий по своей родине сорокалетний человек с белым, без кровинки, лицом и член коллегии губчека Вешняков. Первый уже работал в военном трибунале при Пятой армии, и с ним можно было посоветоваться по всем делам, однако душевного разговора не получалось, поскольку Янош Мохач откровенно мог лишь страдать о поруганной революции на родине. Мог даже заплакать, не стесняясь слез, отчего лицо его становилось еще белее, словно гипсовая маска. Егор же Вешняков, двадцатипятилетний молодцеватый парень из бывших вахмистров, навоевавшийся в империалистическую и гражданскую, привыкший к революционному лексикону, всегда говорил резко, однозначно и коротко: «Кон-нтр-ра!» И при этом жесткая, болезненная судорога сводила его сухое лицо. Казалось, этим словом, как каблуком, он вдавливал человека в землю. Андрей внутренне вздрагивал, когда Вешняков, играя желваками, выбрасывал из себя очередное жаргонное словцо, и боялся смотреть ему в глаза. Однако скоро случилось почти невероятное: член коллегии губчека Егор Вешняков влюбился в Юлию! И сразу как-то расслабился, перестал хрустеть пальцами, сжимая кулаки, и если произносил любимое словечко, то как-то вымученно, на вдохе.
И еще было много разных людей, но ни у кого не возникало желания откровенничать с председателем тройки.
Получив назначение из державных рук, Андрей тем самым будто начертал обережный круг окрест себя. Только круг этот не спасал от нечистой силы – напротив, лишал его людей. Оставшись в одиночестве, он вспоминал, как они встретились с Сашей в разрушенном доме и как проговорили всю ночь. Пусть непростым был разговор, зато как легко и вольно проливалась душа вместе со слезами, как сладко было произносить полузабытые слова…
Часто Андрей думал о матери. Найти ее не составляло труда: есаульский женский монастырь, по слухам, стоял никем не тронутый. Однако останавливало последнее письмо, посланное из камеры смертников. Воскреснуть? Но в каком образе?.. Да и нужно ли объявляться? Маменька ушла от этого мира в обитель и, по сути, отказалась от всего, что связывало ее с земной жизнью. Она искала покой и нашла его. Так нужно ли еще раз, после «смерти», тревожить ее «воскресением»? И если разобраться, то и он ушел от мира, в котором жил неустойчиво, но все-таки привычно. Ушел и обвел вокруг себя обережную черту…
Но при всем этом душой он чувствовал, что кем бы и каким бы ни был он – маменька примет и обрадуется. Да как же ей на глаза являться? Что сказать ей?.. Чувствовал и будто готовился к исповеди, накапливая в себе покаянные слова и слезы. Особенно много их приходило по ночам, если случалось ночевать «дома» – в Красноярске, в каменном особняке с зарешеченными окнами, который городские власти выделили под ревтрибунал и жилье. Он лежал с открытыми глазами, слушал, как сопит в смежной комнате телохранитель Тауринс, как шаркает ногами по земле часовой за окнами и порой ему казалось, что он плачет. Что затвердевшее в коросту нутро размякло и освободившиеся слезы текут по щекам. Тогда он щупал пальцами лицо, глаза – все было сухим и горячим, как при болезни.
Однажды ночью Андрей очнулся от собственного крика и в предрассветных сумерках увидел, что на постели сидит Юлия.
– Что?! – вскинулся он. – Почему вы здесь?
– Вы кричали, – она потрогала рукой лоб. – Мне показалось, вы больны…
– Нет, я здоров! – он сбросил ее руку и, завернувшись в одеяло с головой, отвернулся к стене, однако тут же привстал. – Что я кричал? Что?!
Тауринс больше не сопел, видимо, прислушивался.
– Бессвязное что-то, – сказала Юлия. – И маму звали…
– Но маму же, а не вас! – грубо крикнул он. – Уходите отсюда!
Наутро он извинился перед ней и тем самым будто признал свою слабость. На какой-то миг возникло желание исповедаться, отбросить всю подозрительность и недоверие, однако он спохватился и взял себя в руки. Конечно же, Юлия была подослана Шиловским, чтобы всюду контролировать его, знать о каждом шаге, о каждой его мысли, написанной ли в протоколах или высказанной вслух. Она только и ждет, когда Андрей расклеится и начнет откровенничать. Еще в поезде, приглядываясь к своим спутникам, он поделил их так: Тауринс приставлен, чтобы осуществлять внешний контроль, выслеживать, с кем и по какой причине встречается, Юлия, с ее от природы данным искусством, обязана следить за его умом и сердцем. Два ангела-хранителя стояли за плечами…
Он стал бояться спать по ночам, и если засыпал, то ненадолго и тут же вздрагивал оттого, что начинал говорить. Промучившись так несколько дней, он старался поехать куда-нибудь и отоспаться в поезде. Председателю тройки выделили личный вагон, который все время стоял в тупике на станции и по первому требованию мог быть прицеплен к любому составу. Дорога укачивала Андрея, облегчала душу, хотя часто снился сон-землетрясение, впервые увиденный еще в «эшелоне смерти».
Едва вернувшись из Канска, Андрей оставил в Красноярске членов трибунала изучать дела, переданные из губчека, а сам отправился в Ачинск. Последним Декретом ревтрибуналу давалось право проверять следственные действия чрезвычаек и инспектировать тюрьмы. Военно-революционному трибуналу, пока он действовал на освобожденных территориях, заниматься этим было некогда, местные ЧК с трудом поспевали управляться с текущими делами, а попросту, выносить приговоры и по законам военного положения расстреливать: для колчаковцев, взятых с оружием в руках либо не сдавших его по приказу, для контрреволюционеров, саботажников и дезертиров других приговоров не было. Ко всему прочему, вдоль железной дороги и в глубинках разгуливали бандитские шайки грабителей, мародеров и бывших партизан, отказавшихся разоружаться. Однако в тюрьмах находились сотни людей, арестованных по самым разным причинам, но без предъявленного обвинения.
Прежде, чем поехать на вокзал, Андрей завернул в красноярскую тюрьму, уже частью «разгруженную», и, пока ждал, когда в канцелярии соберут нужные документы, не вытерпел, спустился в подвальные камеры. Здесь его знали в лицо все, до последнего надзирателя. Знали и тогда, и сейчас, поэтому пропускали без звука. Он прошел вдоль длинного ряда железных дверей и точно остановился возле «своей» – ноги еще помнили… Кивком головы попросил надзирателя открыть.
Все было по-прежнему. В тюрьмах никогда не меняется интерьер, только вот люди другие. А какие люди, такая и камера.
Арестованные, оторвавшись от своих тоскливых дел, пристально следили за Андреем. Он чувствовал на себе сразу все десять пар глаз, они спрашивали – зачем? за кем? – и было слышно, как дрожит дыхание. На нарах возле маленького, спрятанного в каменную трубу оконца, на его, Андрея, «месте», лежал бородатый мужик в изношенной грязной гимнастерке.
– Ну-ка, встань, – сказал ему Андрей.
Тот неторопко поднялся и молча стал накручивать обмотки.
– С вещами? – спросил он, глянув исподлобья. – Иль уж без?..
Андрей молча лег на нары. Хрустнул под спиной соломенный, свеженабитый матрац, перед глазами встал истрескавшийся серый потолок. Он сразу ощутил тепло, исходящее от нар: нагрел мужик его место. Рисунок трещин не изменился, разве что добавилось копоти и легли на потолок новые светотени. Неясный лик человека с широко разинутым ртом, лежащий конь, а прямо в зените – страшная, полузвериная морда.
– Что, начальник, примеряешь? – съехидничал неприятный, дребезжащий голос невидимого человека. – Не леживал, поди…
Мужик, кому достались нары, стоял с обмоткой в руке и недоуменно комкал замусоренную бороду.
Андрей, не проронив ни слова, встал и вышел из камеры. Надзиратель смотрел в пол. Он-то, знакомый, почти родной, – уши помнили его шаги, его дыхание и то, как он вставляет в скважину и проворачивает ключ, – все понимал.
Начальником чрезвычайки в Ачинске был моряк, занесенный революционным ветром в глубь материка. Невысокий, коренастый, с цепким испытующим взглядом, он походил на тех матросов, что рисовали на плакатах. Не хватало разве что пулеметных лент и бескозырки. Фамилия его звучала несколько смешно, однако, когда ее произносили, было не до смеха – Недоливко.
– Та ж мною дитэй пугают! – весело похвастался он неожиданно высоким, плаксивым голосом. – Недоливко преде и забере.
Он будто бы даже обрадовался приезду председателя тройки. Тюрьма была забита до отказа, людей держали уже в сараях, а вот что делать с ними, никто не знал. Хорошо, что возле тюремного забора день и ночь колготились родственники арестованных и кое-как подкармливали.
– Я уж как колоду тасую, тасую, – жаловался Недоливко, кивая на кучу дел. – Кого в распыл, кого на волю спущу, а места усе не хватае…
ЧК помещалась в здании бывшей полиции, тюрьма тоже перешла по наследству, и даже папки с делами были старые, царские, только вывернутые наизнанку. Андрей начал просматривать дела – а было в каждом по две-три бумажки, исписанных неумелым, детским почерком. В основе дела чаще всего лежал донос работника сельского Совета о спрятанном оружии, о спрятанном хлебе, лошади, дезертире; милиционеры и просто сознательные граждане доносили о том, кто служил Колчаку, приводя целые списки подозреваемых в контрреволюции и дискредитации Советской власти. И чем больше читал Андрей, тем яснее осознавал, что все эти «дела» – клочки бумажек с детским почерком – не что иное, как детская игра. Собрались дети в купеческом доме, и, пока родители их заняты взрослыми делами и разговорами, они затеяли свое дело: нарисовали бумажные деньги, выправили самодельные векселя, долговые расписки и обязательства и вот теперь играют во взрослых. Играют по-серьезному, предъявляют друг другу счета, грозятся разорить или подать в суд, заключают выгодные сделки, кооперируются для новых дел, сговариваются о твердых ценах на товар, но стоит родителям кликнуть своих чад, как полетят на пол и превратятся в мусор невзаправдашние бумажки…
Эти же бумажки чаще всего превращались в приговор. Едва Андрей вывел первую резолюцию – освободить, как Недоливко стал цепляться за каждое дело.
– То, кажу, контра! – поначалу недоумевал он. – Як же ш отпускать? Колы не доказав, так докажу! Я ж вижу – контра!
Андрей молча накладывал резолюции. Недоливко возмутился:
– Ты шо ж, мне не веришь? Мне, пролетарьяту и революционному матросу?! Я ж змеюк этих насквозь вижу!
И вдруг, сменив гнев на угрожающий шепот, приказал предъявить мандат, который смотрел всего часа два назад. Андрей по-прежнему молча протянул ему свой мандат, не отрываясь от дел. Недоливко долго вчитывался в машинописный текст и мрачнел. Вернув мандат, он плотнее уселся на стуле, опустил голову на грудь, и лицо его постепенно стало наливаться серой, свинцовой тяжестью. Глаза сделались неподвижными, а на приспущенных веках проступили синие точки от въевшегося в кожу угля: Недоливко до германской работал на шахтах. Между тем Андрей рассортировал одну стопку папок и потянул к себе другую. Начальник чрезвычайки взорвался:
– Не трожь! Этих не дам! Не дам!
В тонюсеньких папках были дела заложников, заключенных в тюрьму еще в феврале.
– Я уразумел, шо ты за птиця! Дывитесь, мол, який я добрий! Узяв и распустив усю контру, котору Недоливко у тюрьму заховав! Авторитет себе робышь! Шоб слава пишла, який ты освободитель!.. Ни, Березин, я ж про тебя слыхав! Слыхав, як ты в красних карателях був! Як ты пленных з пулемету косив! – он погрозил ему пальцем и пристукнул кулаком по столу. – Ша, браток! Славу ты себе зробив вже, люди кажут, звирь Березин був, звирь… Потому тебя в ревтрибунал определили. А зараз ты грех перед народом искупаешь? И усю контру на волю? Ни, Березин, нам с тобой без заложников не можно. Меня давно бы уж вбилы, колы б я буржуев пид собой не держав. А тебя, ревтрибунал, и подавно.
Андрей выслушал его хладнокровно и все-таки придвинул к себе дела заложников. И замелькали перед глазами имена купцов, священников и престарелых офицеров-отставников. Отдельным списком шли жены и дети тех, кто не вышел из тайги и не сдался Советской власти. Недоливко следил за каждым движением, и когда Андрей обмакнул перо в чернильницу, лицо его, на минуту отмякшее, вновь окаменело.
– Заложников освободите сегодня же, – сказал Андрей. – Иначе завтра же подам телеграмму в Верховный Трибунал.
Недоливко кашлянул, сказал хрипло, вымученно:
– Добре, Березин, добре…
А ночью Андрей проснулся с предчувствием опасности. Ставший уже привычным и казавшийся надежным мягкий вагон навевал тревогу. За его стенками что-то происходило, близко шипел паровоз, слышались торопливые шаги вдоль насыпи. Тупик же, куда загнали вагон ревтрибунала, был далеко от станции и рельсы его давно заржавели. Андрей осторожно отворил окно и выглянул: неясные фигуры маячили между подкатывающимся паровозом и вагоном. Похоже, хотели зацепить. Не раздумывая, оделся и, прихватив маузер, выпрыгнул через окно на улицу. Часового почему-то не было, хотя, засыпая, он слышал его шаги.
Андрей выстрелил в воздух и пошел к прицепщику. Тот повернул к нему луч фонаря и замер.
– В чем дело? – спросил Андрей и оглянулся на стук вагонной двери: телохранитель Тауринс выскочил в исподнем, а в дверном проеме маячила белая фигурка Юлии.
– Велено перевести, – протянул железнодорожник и убрал фонарь.
– Куда и кем велено? – быстро спросил Андрей.
– Не знаю кем, велели, – уклончиво пробурчал тот.
Паровоз подкатился и стоял в сажени от них. Второй прицепщик, соскочив с буфера, протяжно зевнул.
– Дак чево?
– Кто велел вывести вагон из тупика? – Андрей приставил маузер к груди прицепщика. – Отвечай, быстро!
– Дежурный! – испугался тот, пытаясь оттолкнуть ствол. – Велел! Счас курьерский пойдет, дак зацепить…
– К курьерскому?
– Ну! Этот самый вагон, по наряду!
Андрей спрятал маузер, взял фонарь и осветил лица прицепщиков – нет, не знакомые…
– Ладно, – бросил он. – Вагон не трогать. Вы, Тауринс, ступайте с прицепщиками к дежурному и ко мне его. Все. Да! Спросите в карауле, где наш часовой.
Он поднялся в вагон и по колебанию воздуха ощутил, как отпрянула от входа в темноту тамбура Юлия. Прошел в свое купе, затворил окно, защелкнул решетку и сбросил френч. Сел на диван. И в тот же миг услышал голос Юлии за дверью.
– Андрей Николаевич, можно войти?
– Можно, – буркнул он.
Юлия вошла и сразу присела рядом, заговорила горячо:
– Бойтесь Недоливко, Андрей Николаевич! Он страшный человек, поверьте мне. Я вчера смотрела емув лицо… Поверьте, я женщина и очень хорошо чувствую. Бойтесь его!
– Спасибо, Юлия, – бесцветно вымолвил Андрей. – Ступайте спать.
– Но он вам не простит! – воскликнула она. – Он обязательно отомстит вам!
– Идите спать! – приказал Андрей, ощущая раздражение. – Завтра едем в Казаково. Подъем в пять утра. Спите!
Юлия отошла от двери. В темноте лица ее было не видно, лишь белое пятно, однако Андрею показалось, что она плачет.
– Впрочем, нет, – поправился Андрей. – Вы останетесь здесь и приведете в порядок свои бумаги.
– Нет-нет, я поеду с вами! – воспротивилась Юлия, и ему послышались слезы в ее голосе. – Я вас не оставлю.
– Вы плачете? – спросил он.
– Я не плачу, – сказала Юлия совершенно убедительно. – Дядя просил не оставлять вас…
– Понятно, – оборвал Андрей. – Все, идите.
Оставшись один, он лег на диван, крепко зажмурился и тут же восстал перед глазами начальник чрезвычайки Недоливко. «Революционер, – усмехнулся он про себя. – Знал бы ты, какие бывают настоящие революционеры…» Однако в следующий момент он сел и встряхнул головой. Нет, не так прост был Недоливко, самую больную коросту всковырнул, помянув и расстрелянных пленных, и славу Березина в народе.
«Звирь, звирь…»
Но ведь не ради искупления старых грехов рядил он вчера суд! Не ради оправдания своего. По совести хотел…
А можно ли сейчас судить по законам совести, когда есть другие, революционные? Помнится, перед смертью дядя, владыка Даниил, говорил: не берись судить. Говорил, будто знал, что придется ему судить!
Не берись судить. Это промыслы Господни. Осудишь только верующего. Человек же без веры не подсуден.
Да где же она, вера? В чем она и во что?!
Как же сулить, если у людей пропала всякая вера? Они же не подсудны! Это все равно что судить собаку, укусившую человека…
«Звирь…»
Шиловский сказал: судья правит миром, ибо может решать вопросы жизни и смерти. Но кто же тогда правит судьей? Кто? Кому молиться судье?
Все-таки судьей правит совесть. И вера! А можно ли судить по вере и совести, если есть ревзаконы? Законы диктатуры пролетариата, законы меньшинства над большинством?
Как же судить, если законным признается террор против безвинных заложников? Против стариков, женщин и детей, которых щадили во все времена даже самые лютые захватчики? Это ведь равносильно тому, чтобы ходить в атаку за их спинами…
Андрей думал так и боялся подобных мыслей. Боялся расковырять ту коросту, которую уже тронул сегодня Недоливко и за которой скрывался столп, воздвигнувшийся из одуревших от пулеметного огня оленей, и толпа пленных, сгрудившаяся возле огромного костра. Он помнил все, каждую деталь. Помнил, как Дерябко встал на колени возле пулемета, умостился, предусмотрительно подстелив полы шинели, и, глядя через щиток, нажал гашетку. Помнил, как пленные, все-таки не ожидавшие такой скорой и неожиданной расправы, метнулись в кучу, полезли в огонь. Некоторые почему-то побежали не в стороны, а на пулемет, словно подставляясь под пули…
Он помнил все, но память каким-то образом заволоклась в этом месте пеленой, обросла коростной кожицей и не давала прикасаться к себе. Это напоминало Андрею раненого солдата, однажды увиденного на вокзале. Осколком ему вырвало ребра с левой стороны, и раненый, выписавшись из лазарета, бродил среди людей и за деньги показывал свою рану. Прямо под кожей у него билось сердце.
– Пальчиком меня ткни – и наповал! – удивленно говорил раненый, протягивая свою фуражку пассажирам. – Щелчком щелкни – и насмерть!
Но если думать, что ты – карающая рука революции, можно жить спокойно и долго. И можно делать все, что не запрещено законом.
Андрей встряхнулся, прогоняя навязчивые мысли. На его счастье, в коридоре вагона застучали тяжелые сапоги Тауринса и еще чьи-то шаги – мягкие, ватные, неуверенные. Тауринс втолкнул в купе дежурного по станции, осветил его фонарем. Перепуганный насмерть пожилой человек не мог сказать ни слова. С горем пополам удалось добиться, что наряд на прицепку вагона ревтрибунала к курьерскому неведомым образом очутился у дежурного на столе, и тот, боясь промедлить, погнал маневровый в тупик. Андрей отпустил его, заверив, что не тронет, однако заверениями дежурному уже было не помочь. Вздрагивая и хватаясь за сердце, он так и побрел по заросшему травой тупику, пока не растворился в серых рассветных сумерках.
* * *
В половине шестого во дворе ЧК уже была заложена пара в плетеные дрожки, и десяток бойцов охраны из отряда частей особого назначения, подседлав коней, завтракали хлебом и салом, рассевшись на крыльце черного хода. Недоливко отдавал какие-то распоряжения и выглядел вполне благодушно, хотя посерело лицо и покраснели глаза от бессонной ночи. На прощанье он даже помахал рукой, выйдя за ворота.
– Отомстит, – шепнула Андрею Юлия. – Теперь я совершенно уверена.
Кучер, молоденький рябой красноармеец, весело понукал коней и, разгорячив их, оглядывался и улыбался во весь рот, мол, ну, каков я? За дрожками, вздымая пыль, крупной рысью скакали бойцы охраны. Двое из них ехали впереди, как и полагается конвою. К тому же день начинался ясный, солнечный, в утреннем воздухе уже чувствовался осенний знобкий холодок, прозрачный воздух, казалось, позванивает, будто родник, и в этом чистом, прекрасном мире не могло ничего случиться дурного.
– Вернемся, Андрей Николаевич? – безнадежно попросила Юлия. – У меня плохое предчувствие…
– Это что, приказ? – хмуро спросил Андрей.
– Я не могу вам приказывать, – смутилась она. – Мне неспокойно.
Андрей не ответил. Похоже, Тауринс тоже что-то чуял, сидел все время настороже и держал в руках колодку маузера. А может быть, просто бдительностью своей искупал вчерашний грешок. Проспал ведь, и вагон едва не увели из тупика и не прицепили к курьерскому.
– Если вам неспокойно – оставались бы дома, – зло сказал Андрей. – Или бы отправлялись к своему дядюшке, кормить животных.
Юлия обиделась, но перемогла обиду, сделала вид, что ничего не случилось. Она сняла кожаную тужурку, свернула ее аккуратно и положила на колени, сказала облегченно:
– От судьбы не уйдешь.
Андрей заметил, что из кармана тужурки торчит перламутровая рукоятка браунинга. Он никогда не видел оружия у Юлии, и теперь не укладывалось в голове, что она может еще и владеть им, стрелять, а значит, и убивать. «А почему бы и нет? – сам себе возразил он. – Дядюшка готовил ее не для светской жизни. Еще один профессиональный революционер…»
Он достал браунинг, вынул заряженную обойму, вставил на место.
Территория, по которой они ехали, давно считалась освобожденной от колчаковцев, по всем городкам и селам установилась Советская власть, ходили по рукам новые газеты и деньги, на паровозных лбах и над козырьками фуражек краснели звезды, и красные флаги торчали над каждой деревней. Но освобожденная ли это территория, если председатель ревтрибунала ездит по ней вооруженный до зубов да еще с эскортом бойцов? Если из-за каждого поворота можно ждать нападения, из-за каждого дерева – выстрела в спину? Судья ли он, коли ему по штату полагается телохранитель, соглядатай, а в дороге – полэскадрона охраны? Так освобожденная ли это земля? И если освобожденная, то от кого? И кто теперь на ней остался?
И можно ли ее вообще освободить, пока не наступит справедливость и не станет действовать закон совести?
Андрей засунул браунинг в карман Юлии. И вдруг засмеялся громко, откровенно, как давно уже не смеялся.
– Вы что, Андрей Николаевич? – испуганно улыбнулась Юлия. – Что с вами?
Он помотал головой, не в силах остановиться, мол, ничего, все в порядке. Кучер тоже захохотал над чем-то, наверное, просто от яркого светлого дня, оттого, что хорошо шли кони и важным седокам было весело.
А смеяться было над чем, Ехали они не просто вооруженные и охраняемые, будто по тылам врага. Главное, ехали под чужими именами. Каждый раз, отправляясь по уездам в сторону от железной дороги, Юлия зашивала мандат в воротник обыкновенной солдатской гимнастерки, после чего Андрей надевал ее и клал в карман красноармейскую книжку стрелка внутренней охраны. Так полагалось по инструкции. Говорили, что за ревтрибунальцами охотятся.
Смешно…
И охотятся за ним лишь потому, что он не судья, а карающая рука революции.
В народе – каратель…
К заходу солнца они благополучно добрались до Казакова и расположились ночевать в местной чрезвычайке. Андрей устроился в кабинете начальника и затребовал дела. Начальник велел своей жене принести ужин и остался коротать ночь вместе с гостем да еще двух чекистов оставил под рукой. С первых же дней работы в тройке Андрей заметил интересную закономерность: чем дальше от железной дороги, тем мягче и человечней были и сами работники ЧК, и вынесенные ими приговоры. И заложников здесь не держали, чтобы подстраховывать свои жизни и свести до минимума возможность восстаний. Хотя именно по глубинкам больше оставалось колчаковцев в тайге, дезертиров и бандитствующих бывших партизан. Железная магистраль словно требовала и железного отношения к населению, однако причина была не в этом, а понять, в чем, – казалось Андрею очень важным. Не сказать, чтобы начальники попадали сюда робкие либо малоубежденные в правоте своего дела – нет, встречались всякие, иной был круче по характеру, чем в центре. Что же происходило? Какие силы действовали на сознание и образ мыслей этих людей, если они умели ладить с народом? Почему уездные ЧК вдоль «чугунки» вызывали больше раздражения и ненависти у таежных, объявленных вне закона людей?
За всеми этими вопросами, всякий раз возникавшими у Андрея, крылась какая-то загадка. Казалось, тут, в глухомани, можно простить то, что не прощалось человеку возле Транссибирской магистрали. Возникало ощущение, будто ревзаконы и военное положение утрачивали здесь свою несгибаемую жесткость и на белый террор уже было совестно отвечать красным. Совестно, потому что в этой отдаленности, будто в самом воздухе, реет понимание, что террором настоящую власть не установить. Тем более Советскую, объявленную декретами как самую гуманную, справедливую и – народную. А там, возле железной дороги, где можно в любой момент перебросить войска, пригнать бронепоезд, наконец иметь постоянную телеграфную связь с центром и прямые директивы, – там будто можно все. И годится террор как самый простой и надежный способ смирить непокорных и инакомыслящих. Подобный вывод подтверждался еще и тем, что колчаковский режим тоже больше свирепствовал вдоль «чугунки».
В этом Андрей чувствовал путь к пониманию многих странностей. Получалось, что на север и юг от магистрали даже самые суровые законы как бы начинали перевоплощаться; они наполнялись другой, новой сутью и уже были не революционными, а крестьянскими и даже христианскими, ибо у них была цель не смирить – помирить. Примирить народ и власть, поскольку, какая бы она ни была, – все от Бога. Заслужили – и отпущено было.
И если следовать логике, по которой даже самая жестокая власть, распространяясь от центра к окраинам, способна переродиться пусть не в противоположность, а хотя бы стать терпимой и приемлемой народом, то возникал закон ее центростремительной силы. Режим, породивший бесправие и террор, сам должен был захлебнуться в них.
А коли так, выходит, что деревенской крестьянской России с ее необъятным простором не страшна никакая диктаторская власть. И гегемон, узурпировавший ее и сеющий страх и повиновение, идеологию зла и рабства, не в силах раскрутить колесо в обратную сторону и бросить эти зерна в человеческие души. Не потому ли российский народ переживал такие потрясения и катаклизмы, которые были бы губительными – и были! – для многих других народов? Нет, он не возрождался из пепла, ибо не сгорал. Всю свою прошлую историю он жил в состоянии вечного отторжения зла. Не погиб под игом татаро-монголов, не изменил своего характера под поляками и не продал души неметчине, насаждаемой царями.
И не потому ли насаждение сверху любой идеи и мысли – возможно, передовых и прогрессивных для других стран и народов – никогда не достигало глубинных пластов России и не имело успеха? А ведь именно там, в глубине, подобно расплавленной магме в земной коре, кипит и варится все, что потом изливается на поверхность.