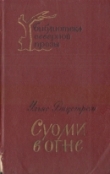Текст книги "Крамола. Книга 2"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В таком случае России отмерен лишь один путь – путь эволюции.
Но почему же именно здесь произошла и теперь уже укрепилась Революция?
Андрей оттолкнул от себя бумаги, сжал виски и долго сидел, уставившись в зеленое сукно столешницы.
В Казакове, как и везде, ЧК занимала полицейский участок, а ее начальник – кабинет станового пристава.
– Может, постелить? – участливо поинтересовался начальник чрезвычайки, сам страдающий от сонливости. – Время позднее…
Андрей отрицательно помотал головой и вновь уставился в протоколы: написано собственноручно, фразы нелепые, бестолковые, хотя почерк великолепный, даже изящный.
Диктатура пролетариата, революция…
Да почему же не в Англии, промышленной и с пролетарским большинством? Почему не в Германии или Америке? В Америке, с детских пеленок капиталистической? Нет, в крестьянской России… Может быть, из-за войны? Народ вооружен, устал от смерти и крови. Скажи: долой войну! – и пойдут против власти. Все одно, где проливать эту кровь. Нет, слишком просто, хотя верно то, что люди привыкли к оружию, огромная армия, боеспособные солдаты и офицеры. Ведь к шестнадцатому году для России была обеспечена победа. И все-таки, почему выбрана Россия? Был же и девятьсот пятый, генеральная репетиция… Нет, не случайно, давно готовились, присматривались, изучали. Похоже, дело тут не в экономических причинах и предпосылках. В конце концов, в Англии и Германии они ярче. Ярче, но ведь это небольшие по сравнению с Россией государства, к тому же в самой середине Европы. Они всегда на глазах у всего мира. Их считают цивилизованными странами, на них любуются все народы, по ним равняются. Попробуй, скрой там силу, способную сделать переворот! Шила в мешке не утаишь… А Россия?
Может, потому она и выбрана, что народ ее во многом непонятен народам Европы? А само огромное государство, в котором можно растворить целые легионы революционеров! К тому же, великая история гражданских войн, традиция искать правды, ходить не крестовыми походами в чужие страны, а штурмовать собственную столицу. Воров на встряску! А правду не замай!.. Откуда знать миру, что варилось и варится в российском котле? Не зря кричат на все лады – темная Россия, дикая, срамная. Срамят свои, срамят чужеземцы, и казалось бы, какая тут может быть революция? Отсталая, аграрная страна, чахлый пролетариат, кустарное производство. Нет же, именно в России!
Не зря, и не случайно. Наверняка Россию избрали после первой попытки революции во Франции. Там не удалось – центр Европы. Но оттуда пошли все эти слова – контрреволюция, террор, экспроприация, диктатура…
И даже революционный трибунал из Франции.
Диктатура пролетариата в крестьянской России.
Переделать Природу! Так говорил профессиональный революционер Шиловский! Переделать Природу и Мироздание… Революция – начало новой эпохи на Земле… У России великая миссия… Пробил час… Эволюция губительна… Только такой жертвенный народ способен… на алтарь…
Но это же чудовищно! Пустить под топор огромный народ, чтобы утвердить революцию по всему миру. Исполнить роль агнца, рожденного на заклание. Народ – жертва? Да почему же в крови, а не в сиянии должна начаться новая эпоха?
Душа не принимала, разум противился, как если бы его заставляли выкупаться в этой крови. В самом деле, надо было переделать природу человека, чтобы смириться и свыкнуться с «великой миссией». Кругом же любили говорить – и Андрей много раз слышал это, – дескать, мы не должны бояться и брезговать крови; мол, она подобна той, что проливает мать при рождении дитя. Тут же рождается революция! Мы же лишь повитухи при ней… Этому оправданию хотелось верить. Трагично и восхищенно звучали такие слова, а потому и убеждали, вернее, нет – притушали рану, затягивали ее коростой, кожицей, но не нарастала кость, чтобы прикрыть сердце.
Мать рожала в муках и крови, однако лишь потому, что сама, грешная, рожала безгрешное дитя. И было сияние от него и матери, и миру.
Хотелось верить – и верил бы! – если бы роды революции не напоминали кесарево сечение.
Андрей встряхнулся, прибавил свету в лампе и снова уставился в протокол. И вчитался наконец, зацепился за странную фразу, скорее всего написанную под диктовку: слишком уж не сочетались почерк и содержание. «На всех допросах я врал и изворачивался, а нынче проникся к Советской власти и заявляю, что я недобитая контра…»
– Кто это? – спросил Андрей, торопливо перелистывая бумаги. – Как фамилия?
Начальник чрезвычайки оживился и, зайдя со спины, разочарованно протянул: – А был такой один…
– Он жив? – перебил Андрей. – Где он?
Признаваясь хотя бы даже под диктовку, человек тем самым подписывал себе смертный приговор.
– Оставили мы его, – сообщил начальник. – Хотели сначала, да потом попридержали. Будто чуяли проверку. Фамилию врет, откуда приехал – врет. Да все он врет. Зачем – не понимаем.
«…что я недобитая контра, потому как бывший заводчик и шпион Антанты, – читал дальше Андрей. – В1918 году я покушался на жизнь тов. Урицкого и тов. Володарского. А принадлежу я к партии эсеров и желал бы поставить во главе Республики царя-батюшку. Но теперь я этого не желаю и чистосердечно раскаиваюсь…»
– Кто его допрашивал? – резко спросил Андрей.
Начальник чрезвычайки пожал плечами.
– Никто. Бумагу дали, и он сам все написал.
– Неправда! Ему диктовали!
– Да истинный Бог! – вдруг забожился тот. – Сидел в камере и писал. Я ему свечу дал…
– Где его арестовали?
– На заимке, сонного, – усмехнулся начальник. – Тепленького… Хотели сразу в губчека отправить, похоже, птица крупная.
– Почему не отправили?! – Андрей пристукнул кулаком, но тут же смягчил тон. – А если бы я не приехал? В расход?
Начальник чрезвычайки помялся, одергивая коротковатую гимнастерку, наконец смущенно вымолвил:
– Дак вы его… в Красноярске-то скорей бы… А мы тут пока разбирались, пока во вранье уличали…
Андрей встал со стула и оказался вровень с начальником. Можно было смотреть в глаза прямо…
– Простите. Наверное, вы правы, – сдержанно сказал он. – В камере он один?
– Таких мы по одному…
– Проводите меня, – бросил Андрей и направился к выходу.
В подвале бывшего полицейского участка было всего две камеры – общая и одиночка, поэтому арестованных содержали еще и в кладовой и тюремном коридоре, отгороженном толстыми плахами. И чтобы попасть в одиночку, следовало пройти через эту загородку, мимо двухъярусных нар, устроенных вдоль глухой стены. Когда Андрей с начальником чрезвычайки проходили по камере-коридору, арестованные привставали на нарах и замирали с выжидательной надеждой. Только было не понять, чего ждут: свободы или смерти…
При свете фонаря все казались одного возраста и на одно лицо.
Ключ от камеры был старый, полицейских времен – кованый, красивый, вечный…
Он пронзительно заскрипел в скважине, как если бы пальцем провели по мокрому стеклу: звук был знакомо тревожным и предвещающим, словно клацнувший затвор.
Однако арестованный спал как ангел либо человек, привыкший к бродяжничеству и скитаниям. Начальник потряс его за ноги, прикрытые солдатским одеялом.
– Вставай, побеседовать хотят. Из Красноярска прибыли, вставай!
Арестованный медленно приподнял голову, скривился, сощурился от света и вытер слюну, набежавшую на усы и бороду. На вид ему было лет тридцать пять, подвижное излишне лицо и задумчивые, отвлеченные глаза выдавали какую-то болезнь.
– А я не хочу беседовать! – отмахнулся он. – Снова бить начнете, не хочу. Я написал – прошу вынести приговор.
– Он вот так давно уже дурака валяет, – объяснил начальник. – Прикидывается, будто не все дома. Но меня не проведешь, в уме он.
Человек опустил босые ноги на пол и, обхватив руками голову, покачался из стороны в сторону.
– Головонька моя боли-и-ит…
Он встал и, согнувшись, подобрался к стене, прильнул к ней лбом. Андрей сел на привинченный табурет и заметил железное кольцо, лежащее на полу. Потянул его на себя, однако – не поддалось. Побрякал им, на что арестованный болезненно проговорил:
– Там его кто-то держит. Я тоже все тяну, а не дают… Ты погоди, я сейчас. Только напитаюсь силой и встану. От матушки – сырой земли.
Он растянулся на полу, так что голова оказалась на кольце, раскинул руки и замер. Глаза окончательно потухли и почернели.
– Идемте отсюда, – сказал начальник чрезвычайки. – Опять представление закатывает, Микула Селянинович.
– Это его имя? – насторожился Андрей. – Или…
– Да ну его! – оборвал начальник. – Врет он, выкобенивается. Хватит придуриваться! Вставай!
– Встану… – словно из-под земли отозвался тот. – Погодите маленько…
Выглядел он жалко, однако отверженный вид его – рваная, в бурых пятнах, нательная рубаха, зияющие дыры на коленях, босые ноги и благородство в лице создавали облик человека странного, а потому притягательного. Он не походил на деревенского дурачка Леньку-Ангела; в нем было что-то от юродивого, по лицу которого угадывается стихия мысли и откровений.
– Вот сейчас его пинай – глазом не моргнет, – зашептал начальник чрезвычайки. – Да я же вижу – терпит.
Арестованный лежал как мертвый, и лицо успокоилось, разгладилось; проступила благостная безмятежность и покой. Андрей не мог оторвать взгляда.
Спустя минуту он медленно встал и глаза его обрели осмысленность.
– Набрался силы, – удовлетворенно сказал он. – И готов к битве.
– Кто вы? – спросил Андрей, испытывая холодящее чувство нереального.
– Скажу – не поверите, – прошептал арестованный. – А вы кто?
– Председатель ревтрибунала.
– Трибунал это суд, – будто бы догадался он. – Судить меня будете? Очень хорошо. Прошу высшую меру наказания.
– За что же?
– А я сейчас все! все расскажу! – оживился он. – Вы ведь из карательного органа, значит, состоите в аппарате. А аппарат – враг Советской власти и враг Ленина. Вы же были профессиональным революционером?
– Нет, не был, – признался Андрей. – Я был офицером.
. – Вот как! – удивился арестованный и, попятившись, забрался с ногами на топчан. – А я был писателем. Известным русским писателем. Но меня почему-то не назначили в трибунал.
– Понес! – махнул рукой начальник чрезвычайки.. – Был богатырь, а теперь писатель. Не слушайте его, товарищ Березин. Только время потеряете.
– Не верьте, товарищ Березин! – горячо зашептал арестованный. – Я писатель, и мы время не потеряем!
– Как ваше имя? – спросил Андрей.
– Бездольный, – вкрадчивым шепотом сообщил он. – Мой псевдоним… А меня… Да на что оно?
– Бездольный? – изумился Андрей и подался вперед. – У нас в доме была ваша книга…
Он оглянулся: начальник чрезвычайки хлопал глазами, не зная, как объяснить поведение председателя тройки.
– Нам нужно поговорить, – сказал ему Андрей. – Мы поднимемся в ваш кабинет.
Начальник дернул плечами, дескать, не возражаю, и открыл скрипучую дверь. Арестованный насторожился.
– Так уже поведете?! А я еще не все рассказал!
– Расскажете там, – успокоил Андрей. – Идите, не бойтесь.
Он пропустил его вперед. На ходу начальник чрезвычайки забормотал в ухо:
– Не верьте вы ему! Он нагородит, что с товарищем Лениным чаи пивал, а с товарищем Горьким обнимался.
– Разберусь, – коротко бросил Андрей.
В кабинете он остался наедине с арестованным. Усадил его на стул, прибавил свету в керосиновой лампе, отчего окна стали черными, будто покрытыми махровой печной сажей. Вгляделся в лицо: юродство делало Бездольного независимым, но и непроглядным, как окна.
– Простите, я не помню вашего отчества, – выговорил Андрей. – Я не читал вашей книги, только видел на столе у отца…
– Отчество не обязательно, – засмеялся арестованный. – Можно записать просто – убиенный Иван. Мы все Господу известны, одного имени хватит.
– Я не собираюсь убивать вас, – мягко сказал Андрей, ощущая вину перед ним. – Хочу разобраться, почему вы здесь.
– А я знаю! – уверенно заявил Бездольный. – У вас теперь рука не поднимется! Вы теперь, товарищ Березин, всех миловать станете. Казнить вам больше никого нельзя.
Андрей слегка отпрянул и, чувствуя, как мороз ползет по спине и немеют губы, спросил:
– Почему вы так решили?
– Неужто нет? Неужто еще кого покараете?.. – не дождавшись ответа, добавил: – Конечно, вы теперь официальная карающая рука революции. Да все равно не посмеете.
Андрей замолчал, пристальнее вглядываясь в лицо арестованного. А тот, склонившись, зашептал:
– Товарищ Березин, а вы у тех, у пленных, тоже имена спрашивали?
Андрей отпрянул, но Бездольный потянулся к нему, засмеялся старческим смешком, забалагурил.
– А зря, зря! К старости-то они вас мучить станут. Ой, как мучить! Вы же и имен не знаете, чтоб в поминальник записать и по свечечке поставить за упокой душ убиенных.
В его балагурстве сквозили разум и презрение, с которым юродивые и кликуши обращаются к толпе.
– Советую, товарищ Березин, впредь записывать, – он выпрямился и поднял голову. – А еще совет: как только вас посадят в камеру, сразу прикидывайтесь сумасшедшим. Можно не сразу. Когда первый раз побьют, тогда. Если по голове будут бить – еще лучше, убедительнее. А прикинулись – держитесь до конца. Вам от этого двойная выгода. Чекисты не любят возиться с дураками и чаще отпускают, чем расстреливают. Главное, играть до конца. Ну а потом, сокамерники не придавят ночью. Поскольку вы трибуналец, надо больше сокамерников бояться. Иначе не уцелеть.
– Спасибо, – проронил Андрей, справившись с замешательством. – Считаете, меня посадят?
– Безусловно, – решительно сказал Бездольный. – Не сразу, конечно. Вы сейчас играете роль милосердного и справедливого судьи. А вам давали другую, карателя. Иначе как бы вы в аппарат-то попали?.. Кто не играет образ своего героя, того режиссер изымает из спектакля.
– Я не играю, – сдерживаясь, проговорил Андрей. – И не прикидываюсь сумасшедшим.
– Вы напрасно обижаетесь, – миролюбиво заметил он. – Каждому дадена своя роль. Даже вашему вождю. Хотя я уважаю его как человека. Вот и на вас смотрю. Интеллигентный человек, и ничего звериного в облике. Говорили, в шрамах весь. Тут всего один.
«Славу ты себе зробив, – издевательски насмехался Недоливко. – Люди кажут, звирь…»
Андрея передернуло: опять ковыряли коросту…
– А что я под дурака тут – уж простите, – покаялся Бездольный. – От вас же спасаюсь. Натурально играю, особенно когда бьют.
– Сами-то знаете, в чем виноваты?
– Как же, знаю. Вина моя в том, что вступил в партию эсеров и приближал эту революцию.
– Против не выступали?
– Не успел, – с сожалением признался он. – В ЧК попал, в Орловской губернии.
– Хорошо, – Андрей положил перед ним лист бумаги. – Напишите об этом – и свободны.
– Вы меня отпускаете? – подозрительно спросил он.
– Бездольному – доля, вольному – воля…
Он встал, походил по кабинету, стуча голыми пятками, поклонился Андрею.
– Благодарствуйте, барин. За милосердие ваше да за волю. Только увольте, ничего писать не стану. И воли такой не желаю. Меня уже раз отпускали – довольно. Ваш вождь освобождал. Лично. В Сибири посоветовал скрыться. И посидеть тихо, пока буря не уляжется. Да от вас скроешься, как же.
– Какую же вам еще волю надо? – угрюмо спросил Андрей.
– Напишите мне свидетельство, что я ненормальный, сумасшедший, – попросил он. – И печать свою приложите.
– Я же не врач…
– Вы – трибунал! Власть, а власть выше всякого врача.
Андрей сел за стол, взял ручку, но писать помедлил.
– Напишу… Но как же вы жить будете? Вам же все время придется играть. Неужели, чтобы уцелеть, надо всю жизнь изображать дурака?
– Вы ничего не смыслите, – решительно заявил Бездольный. – Самый свободный человек нынче в России – дурак. Безумец. Вот я и пойду дураком по земле. И стану говорить, что думаю. А удастся – и писать. А как еще? Если знаете как – скажите?
Андрей склонился, придвинувшись к лампе, и стал писать свидетельство под диктовку Бездольного. Расписался, приложил печать. Бездольный взял бумагу, помахал ею в воздухе, подсушивая густые чернила, затем аккуратно сложил вчетверо и спрятал под рубаху.
И вовремя успел: в кабинет вошел начальник чрезвычайки. Андрей заметил, как мгновенно переменились лицо и фигура арестованного. Переменились, хотя он не сделал ни одного движения. Остекленели в отрешении глаза, перекосилось тело…
– Товарищ Березин, я вам на диване постелю, – сообщил начальник чрезвычайки и покосился на Бездольного. – Ложитесь отдыхать. А я конвойного позову, чтобы…
– Не нужно, – отрезал Андрей. – Он невменяемый. Утром привезите доктора. А дело спишите в архив.
– А не врет он? – подозрительно спросил начальник, – Потом греха не оберешься.
– Медицина подтвердит – врет, не врет, – безразлично сказал Андрей. – Идите.
Когда начальник ушел, оставив на диване одеяло и подушку, Андрей сел поближе к Бездольному. Тот стряхнул с себя блажь, оглянулся на дверь и погрозил кулаком.
– Я так не смогу, – признался Андрей. – Не сумею.
– Придется, Березин, и сумеете, – заверил Бездольный. – Пришлось же судейство принимать? Сумели?.. Ладно, простите.
– Да нет, ничего, – сказал Андрей. – Я виновен. Перед людьми и совестью. Не заметил, как вошел во вкус гражданской войны. Удержаться трудно, увлекательная штука… Хочу разобраться, хочу понять, что происходит с человеческой душой. Со своей. А что с Россией-то происходит?
Бездольный насупился, покивал каким-то своим мыслям.
– Не ломайте голову, Березин, – посоветовал он. – Ничего не выйдет.
– Почему? Объясните.
– Да потому, что даже Ленин – ваш лидер! – не знает, что происходит в России! – заявил Бездольный. – Вернее, нет, он умный человек и неплохой политик; он понимает, что делается вокруг него. Республика сейчас держится на армейских штыках и на подвалах ЧК. А он пытается сделать народоправство.
– Разве он не диктатор?
Бездольный горько усмехнулся, поглядел. Андрею в лицо.
– Он такой же диктатор, как и вы. Если власть на армии, а Троцкий давно вышел из его подчинения? Впрочем, он никогда и не был под его рукой. Он искусно лавировал и делал свое дело… А карательный орган? Какой же он диктатор, если ему пришлось несколько раз просить и требовать у Дзержинского, чтобы меня привели на беседу? Мне кажется, он ясно осознает, как аппараты, созданные им, выходят из подчинения и становятся правящими аппаратами. Теперь ему уже не позволят народоправство… Да что говорить, Березин! Если он сам посоветовал бежать в Сибирь, в глушь, чтобы уцелеть. По-моему, Ленин разочарован в том, что происходит, и чувствует, как власть уходит из рук.
– Кто же тогда правит в России? – воспользовавшись паузой, спросил Андрей. – Диктатура пролетариата?
– Не знаю, – признался Бездольный. – Диктатуру пролетариата я понимал как власть рабочего класса. Но вы найдите в нынешнем правительстве хоть одного настоящего рабочего! Там профессиональные революционеры. Во всех высших аппаратах только они, а не пролетариат. Так чья же это диктатура?.. Я знал многих профессионалов. Если кто-то из них трудился, то лишь в юности. Потом они уходили в подполье, жили за границей и проедали партийные деньги. Если они – пролетариат, то я круглый идиот и ничего не смыслю в революции. Советская власть кончилась, Березин, а вы от ее имени еще судите. И власть народа кончилась, когда разогнали Учредительное собрание и начали гражданскую войну. Профессиональным революционерам она была необходима. Они отвыкли трудиться, они привыкли жить на незаработанные деньги. Я враг той власти, которая сейчас утверждается в России. Но Ленина я уважаю и жалею как человека и политика. Он был откровенным, когда дважды заверял народ, что Учредительное собрание будет созвано. Он предчувствовал, к кому уйдет реальная власть, и всегда боролся за нее. Аппараты оказались сильнее…
Андрей слушал и вспоминал Бутенина. И ныли в боку сломанные ребра. Нет, все-таки у Ленина была сила. Если не власти, то народной любви. Лицемерный политик не смог бы вызвать ту восторженную любовь, что была вокруг Ленина. Было в этом человеке что-то притягательное для людских умов и сердец.
– Но ведь слава в народе – это самая сильная власть, – возразил он. – Его знают как вождя. А чувствами людей управлять невозможно, чувства – стихия. Особенно в России.
– Сейчас возможно все, – вздохнул Бездольный. – И стихией научились управлять. А нет, так обязательно научатся. Так что не обольщайтесь славой в народе. Я вас понимаю. Вы стремитесь стать справедливым и независимым судьей. Только у вас ничего не получится. Эпоха мировых судей ушла в историю. Независимым может стать лишь тот, кто не приемлет мирского, кто не принадлежит ни к партиям, ни к фракциям. Кто может взглянуть на земную жизнь сверху. А это, сами понимаете, может только Господь Бог.
– Вы меня загоняете в тупик, – признался Андрей. – Вы заражаете меня нигилизмом. Вы отчаялись и потеряли веру. А я еще верю в разум и справедливость. Поверьте, я знаю, что такое жестокость и власть аппаратов. Испытал и испытываю до сих пор. Но мне никто не запретит жить и судить по совести!
– Вам просто запретят судить, – отпарировал Бездольный с некоторой усталостью. – Нельзя быть независимым, выполняя чью-то волю. Это же смешно. Человек уже сейчас бесправен в России, а скоро начнется такое бесправие, что и свет не видывал. Если меня не мог защитить пролетарский писатель Горький и вождь революции Ленин – это что-то значит. Вы же угодили в аппарат только потому, что сами проявляли жестокость. А вы встали в две лодки и пытаетесь плыть. Не выйдет, Березин. Вас заставят сесть в одну. А нет – так утопят, если сами не утонете.
Как человек, разочаровавшийся в вере, он уже никого, в ком бы еще теплилась та вера, не мог переносить. С его разрушительной логикой можно было соглашаться: да, заставят сделать выбор. И Шиловский, видно, надеялся, что за совершенное над Андреем насилие тот ответит насилием по отношению к своему народу. Таково было условие предложенной жизни. И он принял его. Те, кто раскручивал огненное кольцо террора, наверное знали о законах центростремительной силы. Знали, а потому искали подходящих людей, чтобы с их помощью нарушить этот закон либо обратить его в прямо противоположный, центробежный. Да, Бездольный прав: иначе аппараты не смогут смирить народ и сделать его управляемым.
Андрей мысленно соглашался с ним, но душа противилась. И в противлении ее была боязнь потерять веру. Слабую, призрачную, но веру! А ведь духовная работа – это как раз и есть утверждение веры в себе. Иначе становится бессмысленным само существование человека. Впрочем, нет. Существовать можно, если переделать Природу, вложить новую суть и новое мироощущение.
– Вы не можете себе представить, Березин, насколько человек стал беззащитным, – продолжал Бездольный. – Сейчас у него отнимают чувство чести, а тюрьмы отнимут последнее – гордость. И все. Аппараты станут всемогущими и абсолютно неуправляемыми. Иногда профессионалы будут выкликать вождя, поднимать его и использовать как щит. Они и авторитет Ленина используют, как вам и не снилось. Они сделают из него кумира и из имени – знамя. И понесут, и ведь народ пойдет. Потому что беззащитный народ всегда идет за голой идеей.
– Вы предсказываете Апокалипсис. – Андрей подошел к Бездольному и тот встал, глядя выжидательно. – Вы считаете, так скоро можно переделать человеческую природу?
– Но вы же согласны со мной!
– Город Владимир разоряли и сжигали пять раз. А люди его каждый раз отстраивали заново. Схлынут кочевники – и поднимутся люди.
– Кочевники только, грабили и сжигали, – вздохнул Бездольный. – Они не забивали в головы людей никаких идей. Представление о мире оставалось незыблемым.
– Я хотел сказать, что на Руси никогда не жили с ожиданием светопреставления, – поправился Андрей. – Эта мысль чужая для русского человека.
– Для русского чужая, – согласился Бездольный. – Так вот в первую очередь аппараты и профессионалы постараются лишить народы национального самосознания. А потом можно делать с человеком все, что угодно. Он примет любую идею, у него нет защиты! Народы, утерявшие национальное братство и гордость, очень легко превращались в рабов.
– Вы слышали об «эшелоне смерти»? – вдруг спросил Андрей.
– Кто же в Сибири не слышал о нем…
– Так вот он сделал из меня большевика, – признался Андрей. – Я потом это понял… Тогда я думал: вот кто прав! Вот кто борется за истину, а потому и страдает. Я пошел за мучениками. Потом был Обь-Енисейский канал, Бутырская тюрьма с камерой смертников. Я до сих пор не могу прийти в себя. Как быстро из мученика я стал палачом! Не увидел, не заметил когда. А вот уже и топор в руках…
– Потому что вы не были мучеником! – перебил Бездольный. – Вы обманулись. Потому что когда идет драка за власть, есть выигравшие и проигравшие. И есть палачи. Но нет мучеников, поскольку мученичество – стихия человеческого духа.
– Но я не один обманулся! – воскликнул Андрей, ощущая озноб. – Вся Сибирь поднялась за нас против палачей. Я увидел, как комиссары добровольно вышли из вагона под расстрел, и пошел за ними. А народ увидел телеграфные столбы и виселицы с большевиками. И поднялся. Так неужто все – обман?! Чувства народа обмануть нельзя!
– Можно! – резко возразил Бездольный. – Вы имеете представление, что такое материализм? Вы большевик, а что вы знаете о своей религии?
– Читаю, – в оцепенелой задумчивости бросил Андрей. – Меня снабдили в дорогу…
– Так вот, вы из тех, кто идет от чувства, и поэтому уже готовы принять голую идею! – возбужденно заговорил Бездольный. – Вы уже беззащитны, и вами легко управлять, вас легко обмануть! А материализм – это разум. Разум в чистом виде. Он отрицает идеализм, а значит, и чувства. Но он бы никогда не тронул наше сознание, если бы был холодным. В материализме же есть своя прелесть, тонкая, едва уловимая. Она-то и подкупает, она-то и греет чувства! Это детское осмысление мира. Дети чувствуют глубоко, и мир воспринимают во всей его сложности. А попробуйте заставить ребенка объяснить мир! Словами, как он думает о нем, а не чувствует. Он объяснит, и это будет материализм. Нас притягивает к нему простота и естественность. В материализме все объяснимо! Все имеет начало и конец. А в метафизике нет ни начала, ни конца. Человеку же хочется познать мир поскорее, без лишних хлопот. И материализм дает такое познание. И обманывает наши чувства!
У Андрея вдруг заныли сломанные Бутениным ребра. Он прижал их локтем, согнулся, пережидая боль. Так уже бывало. Однако давящая боль не проходила.
Тогда он еще не понял, что болит сердце.
– Это не святой обман, – продолжал Бездольный. – Это холодный расчет идеи. Никакая умозрительная идея не может утвердиться в нашем сознании, пока она не поссорит ум и сердце. В России, Березин, уже посеяны эти зерна. Они проросли и дали всходы. Вы же, должно быть, чувствуете, какая детскость психологии у людей? Как стало все просто. Война похожа на игру, на детскую драку, когда идут улица на улицу. А жестокость? А непримиримость и максимализм! И наивность! Боже, какая наивность даже у людей мыслящих!
Андрей расстегнул гимнастерку и нащупал ноющие ребра, приложил холодную ладонь. Будто бы чуть отлегло.
– «Эшелон смерти» сделал большевика, – повторил он глухо. – А что сделает ревтрибунал?.. Мне нужно идти до конца. Но его нет. Я даже не могу прикинуться дурачком, как вы.
– Ревтрибунал сделает человека, – уверенно сказал Бездольный. – Потом хоть дураком прикидывайтесь, хоть юродивым – все равно человек.
– Нет… – сквозь боль в груди процедил Андрей. – Мой брат однажды сказал… Я тогда не понял его. Он сказал: самое страшное наказание человеку – лишение пути…
Он перевел дух, стараясь не волновать плескавшуюся за ребрами боль, набрал побольше воздуха.
– Я беспутный… У меня нет пути. У меня нет пути!
Выезжая из Казакова, он еще крепился и старался не прислушиваться к грудной боли. Он помнил себя слабым и беспомощным, когда лежал в тифу и его попросту выбросили из вагона на какой-то станции. Но тогда был крепок дух, поскольку дорога лежала на родину, и дух этот, ожидание встречи с домом и великие надежды на будущее перебороли заразу и укрепили тело.
Сейчас же, после бессонной ночи и неожиданной исповеди, которую он жаждал все последнее время, опустела душа и ослабло сердце. Однако рядом были люди и нельзя было показывать свою беспомощность. Он холодно простился с начальником чрезвычайки, но тот, подседлав коня, поехал провожать до росстани. И заодно поговорить. Он очень жалел, что Березин так скоро уезжает; а надо было посоветоваться, как работать дальше.
Военное положение, наверное, скоро отменят, и станет действовать закон мирного времени, по которому отменена смертная казнь. Кругом же банд полно, дезертиров и всякого отребья, и что с ними делать – ум за разум заходит. За околицей, так и не услышав в ответ ничего вразумительного, начальник чрезвычайки остановился, спрыгнул с коня и подошел к дрожкам:
– Вы уж похлопочите, товарищ Березин, – попросил он. – Пускай хоть еще взвод внутренней охраны дадут. И штат агентурный увеличат. Иначе мы все эти банды не переварим.
– Вы что, есть их собираетесь? – хмуро буркнул Андрей и велел погонять коней.
Тот так и остался стоять среди дороги с фуражкой в руке, которой, видимо, собирался помахать.
Андрей крепился, но Юлия замечала, что он перетерпливает боль, и тревожно поглядывала в его бледнеющее лицо. Потом он стал потеть неприятным, холодным потом, и хорошо, что встречный ветер обдувал лицо. И наконец, ослабнув, он стал кусать губу, но подавить в себе стон не мог.
Дрожки остановились. Андрея уложили на мягкое сиденье, Тауринс принес воды, и Юлия, намочив красную косынку, положила на грудь.
– Это ребра болят, – признался он. – Мне Бутенин сломал… Сейчас пройдет.
Ему не хотелось признаваться, что болит сердце.
– Нет, это сердечный припадок, – определенно заявила Юлия. – Нужен покой.
Слово «припадок» как-то неприятно отозвалось в мозгу: припадки и обмороки случаются с барышнями, с разъевшимися домоседами, а он всякое видывал, и никогда не припадало сердце. Он хотел тогда сказать, что у него болит душа, но поглядел на Юлию, потом на Тауринса, на перепуганного кучера – говорить было некому…
Охрана спешилась, сойдясь в кружок, завела какой-то разговор, и кони их хрупали перезревшую траву.
– Едем! – приказал Андрей. – Вперед!
Тауринс пристроился рядом с кучером, а Юлия села на сиденье, положив голову Андрея на колени. Поехали медленно, чтобы не растрясти боль. Кучер поминутно оглядывался и ловил взгляд важного седока, будто хотел спросить, мол, хорошо ли еду, правильно ли? Это раздражало Андрея, и тогда он повернул голову и стал смотреть в небо.
Охрана явно скучала от езды шагом, обленилась, растянулась, и время от времени отделенный командир уводил ее далеко вперед, обдавая дрожки белой, мучнистой пылью. Юлия кричала им вслед, дескать, прекратите пылить, но молодые ребята, горяча коней, не понимали ее и смеялись: наверное, думали, что она с ними шутит и восхищается. Они еще не понимали, что такое сердечная боль…