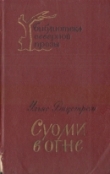Текст книги "Крамола. Книга 2"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Небо было ясным, по-осеннему глубоким, хотя еще стоял август и на деревьях только-только намечалась первая желтизна. Оно, словно река, если сидеть долго у самой воды, убаюкивало и, завораживая, наводило легкое, покойное оцепенение. В такие минуты всякие неприятные мысли отлетали прочь и наступало пугливое, едва уловимое бездумье. И время останавливалось или, наоборот, бежало стремительно и неосознанно. Однако стоило лишь подумать, что ты отключился на какой-то миг и прожил его без единой мысли, как думы возвращались еще более тяжелыми, будто увеличивалось земное тяготение. Но если долго смотреть в небо и видеть только его, это состояние бездумья можно было продлевать бесконечно. Андрей глядел и, казалось, поднимался вслед за своим взглядом, ибо приходило ощущение высоты. Небо ощущалось совсем рядом – опусти в него руку и борозди пальцами, как бороздят воду, и одновременно оставалось таким недоступно высоким, что замирал дух.
Боль постепенно укачивалась, утихала. И если это болело не сердце, а душа, то она, наверное, не дождавшись, когда уснет тело, вырвалась и улетела вместе со взглядом купаться в горнем свете.
Небо покачивалось и дрожало в такт дрожкам, колесящим по неровному тракту, и тем самым словно связывалось с дорогой.
– У вас глаза голубые, – будто сквозь сон услышал он голос Юлии и тотчас же вернулся на землю. В груди заныло, но уже без прежнего жгучего огня.
Андрей впервые увидел лицо Юлии снизу вверх, причем близко, так что ощущалось дыхание. И вдруг обнаружил, как пальцы ее, едва касаясь, гладят и ласкают шрам на лбу и щеке, а затылком почувствовал твердое и теплое колено.
– Молчите, молчите, – предупредила она. – Вы молчите, а я буду говорить. И вам станет легче от моего голоса. Вы только слушайте.
Сквозь запах кожи ее тужурки – привычный армейский запах – пробивался тонкий, чуть слышимый запах женского тела.
– Так они у вас зеленые, – говорила Юлия. – А когда вы смотрите в небо – голубые. С реками и человеческими глазами одинаково: какое небо, такие и они.
Пальцы ее замерли на шраме, споткнувшись о рубец. Андрей поймал ее взгляд: печальные глаза ее были темными, в расширенных зрачках стояли желтые блестки.
– Я знаю, как вас ранило, – неожиданно проговорила она. – Это под Уфой было, в степи, когда чехи подняли мятеж. Троцкий послал дядю выяснить, что произошло там на самом деле… Здесь вас и свела судьба. Он мне все рассказывал…
«А о часах он вам рассказал? – про себя спросил Андрей. – Интересно, рассказал или нет? И как невинного человека за них повесили?»
– Вы помните, у дяди вашего были серебряные часы? – тихо сказал он. – С дарственной надписью?
Она нагнулась к нему, чтобы лучше слышать: дрожки дребезжали громко и нескончаемо.
– Помню… – задумчиво произнесла Юлия.
– Где они сейчас?
Она пожала плечами, улыбнулась:
– Не знаю. Кажется, теперь у него другие… А почему вы спросили?
«Значит, промолчал, – с каким-то удовлетворением подумал Андрей. – Все правильно. Есть вещи, о которых рассказывают на предсмертном покаянии. А то и вовсе уносят с собой…»
– Да так, вспомнил, – проронил он. – Хорошие были часы.
Он замолчал, потому что вновь увидел нутро вагона в «эшелоне смерти». Какая вера, какая сила помогла тогда выжить Шиловскому? Что это? Наивысшая духовная мобилизация и страсть к жизни или все-таки осознанность своей незаменимости в служении Идее? (Шиловский был в списках особо ценных и незаменимых.) Если так, то эта сила уже не человеческая, вернее, не мирская, а подобная иноческой, когда человек добровольно принимает постриг, чтобы служить только Богу и никому больше. Для мира он становится живым мертвецом, обряженным в черное и скрывающим под этим одеянием не только грешное тело, но и таинство бытия. Насколько был близок дядя Даниил, однако Андрей никогда не понимал, какая же сила движет его к духовному подвигу. А брат Александр? А маменька? Стоило им обрядиться в рясу, как они тут же становились таинственными, мысли их непостижимыми, хотя при этом они сохраняли родственное к ним отношение.
Наверное, таким же черноризным служителем своей Идеи был и Шиловский.
Неужто все профессиональные революционеры как бы связаны в один Орден и подчиняются неведомым для непосвященных правилам и законам? И они, эти законы, допускают спокойную совесть, когда за тебя казнят совершенно другого человека? И тебе можно не выходить, когда выходят под расстрел другие, по всем признакам похожие на тебя?
– Вам плохо? – спросила Юлия.
– Нет, мне лучше, – пробормотал Андрей. – У вас рука легкая.
– Пока я с вами – ничего не случится, – серьезно и уверенно сказала она, и Андрею показалось, будто он уже слышал от нее такую фразу. Когда-то она уже произносилась, разве что не придал ей значения.
– Не отбирайте хлеб у Тауринса, – бесцветно пошутил он. – У вас пайки одинаковые.
Дорога пошла по лежневке, вымостившей болотистую низину, дрожки запрыгали по бревнам, хотя кучер сдерживал коней. От тряски в груди будто расшевелили костер: жжение поползло к горлу, и стало трудно дышать.
– Потерпите, – зашептала Юлия. – Сейчас, немного еще… Потерпите, милый.
Она вытащила косынку, остудила ее на ветру и вновь приложила к груди. Болото кончалось, в полусотне саженей дорога поднималась в лесистую гору и там, на ее склоне, гарцевали бойцы конвоя, поджидая дрожки. Андрей задерживал дыхание, и боль успокаивалась, но от глотка воздуха становилась еще жгучей.
До хорошей дороги оставалось совсем немного, когда на горе вдруг раздался выстрел. Тауринс мгновенно оказался между кучером и Андреем, и маузер уже был в руке. Бойцы охраны развернули коней вперед, и Андрей сквозь лязг и стук услышал ни с чем не сравнимый звенящий звук, с каким тянут шашку из ножен. Отделенный что-то прокричал, и приглушенный топот умчался в гору.
И сразу же выстрелы затрещали густо, но, скраденные лесом, показались далекими. Дрожки скатились с лежневки, и кучер натянул вожжи, озираясь.
– Гони! – приказал Андрей, приподнимая голову. – Не стой мишенью, вперед!
Кучер ударил вожжами, лошади взяли крупной рысью и понесли в гору. Среди леса мелькнули конские крупы и пропали из виду; охранники кого-то преследовали, свернув с тракта на проселок. Стрельба теперь была одиночной, палили из револьверов далеко от дороги. Выскочив на гору, кучер выдернул из-под сиденья бич и, ловко раскрутив в воздухе кольца, щелкнул над холками коней. Кони взяли в галоп и, подуставшие, пошли белой пеной под шлеями и хомутами. Андрей попытался сесть, однако Юлия обняла голову и зашептала срывающимся голосом:
– Лежите! Вам нельзя шевелиться, лежите, ради Бога!
Андрей послушался, но, завернув голову набок, смотрел вперед. Перед глазами то влево, то вправо метался в дрожках телохранитель Тауринс, закрывал обзор. А кучер нащелкивал бичом, так что разгоряченные лошади чуть не выпрыгивали из постромок. Дрожки пошли мягче, однако кипяток в груди бурлил и мешал дышать. Так они промчались версты две, и стрельба, оставшись сзади, утихла, поглощенная шумом сосен. Тауринс перестал суетиться, и теперь, стоя на коленях, лишь вертел головой. Тракт был прямой и узкий. По обе стороны стенами стояли толстые сосны, и кроны их, почти смыкаясь над дорогой, плясали перед глазами. Юлия успокоилась, и руки ее чуть разжались. Она хотела что-то спросить и по глазам поняла, что ему больно и тяжело дышать. Расстегнув френч, она старалась подставить его грудь ветру и бормотала:
– Потерпите, сейчас, потерпите… Пройдет, еще немного…
Андрей смотрел на кроны сосен и с трудом тянул, цедил в себя казавшийся горячим воздух.
И неожиданно увидел, как впереди могучая сосна дрогнула, качнулась и стала опрокидываться наземь. Она падала медленно, а ему казалось, что опрокидывается мир вместе с этой сосной. Еще мгновение, еще рывок – и когда дерево коснется земли, мир перевернется, как опрокинутая лодка.
Сосна пала на дорогу, взметнув столб пыли, и лошади, осаживая галоп, уперлись крупами в потные, белые шлеи, хомуты полезли на вздыбленные головы.
Мир не перевернулся. И все осталось на месте: тракт, стены деревьев, и лишь остался светлый прогал, где стояла сосна.
Но почему-то Тауринс, приподнявшись в дрожках, начал стрелять, притискиваясь спиной к Андрею, и молоденький кучер тянул из-за плеч карабин. Потом Андрей вообще перестал что-либо видеть, поскольку тяжелое, грузное тело придавило его сверху, и он, упершись руками, попытался свалить его и освободить лицо. Потом вывернул голову и увидел, что лошади уже стоят, упершись дышлом в ствол поваленного дерева, и огромные сучья кроны нависают над головой. И тут же ощутил на лице руки Юлии.
Вооруженные люди, матерясь и путаясь в кроне, выводили коней на чистовину, а двое других висли на подножках дрожек, выставив перед собой револьверы. Наконец лошади попятились, выкатили повозку, и ее сразу же со всех сторон окружили люди. Один из незнакомцев стащил грузное тело с Андрея, и он увидел, что это Тауринс. Другой обшарил дрожки, выкрутил из мертвой руки телохранителя оружие, достал из-под сиденья маузер Андрея и спрыгнул на землю.
– Заворачивай! – крикнул он мужикам. – Живей!
Кучера было не видать, а вместо него на козлы сел седовласый мужик, взял вожжи и, развернув коней, погнал их назад. Уже на ходу запрыгнул еще один, в английском френче с завязанной головой, повернулся к пассажирам. Руки Юлии подрагивали, ладони вспотели. Боль в груди чуть отступила, пригасла в момент, когда упало дерево.
– Накатались, голубки? – густым, крепким басом спросил мужик. – Хватит тискаться-то! Отпусти мужика! Чего облапила?
– Не трогайте его, он болен! – сказала Юлия. – Кто вы такие? Что вам надо?!
– Вас и надо, – протянул мужик и засмеялся. Андрей нащупал спинку сиденья и подтянулся, подымая голову. Юлия помогла ему сесть, но рук не отняла, приобняв за спину. Дрожки круто повернули на мшистый, неезженный проселок и понеслись, сминая молодую акацию.
– Ну, и что скажете? – равнодушно спросил Андрей, глядя на мертвую руку Тауринса, свисающую из дрожек.
– Велено поймать – поймали! – развеселился мужик во френче. – Чего еще сказать? Мы люди военные.
Андрей обнаружил, что рубаха его залита кровью и прилипает к телу. Если Тауринс лежал на нем, значит, это была его кровь…
– Кто велел? – спросил он.
– Ты нам допросов не устраивай, – отрезал мужик. – Здесь не имеешь права.
Но Андрей даже не услышал его. Кровь Тауринса, пролитая на грудь, остужала жгучую боль и освобождала дыхание. Может быть, это было не так, может быть, просто заканчивался сердечный припадок, но в то мгновение он не мог думать иначе. Подумал и устрашился! Тауринс, этот бессловесный человек, этот мечтатель, писатель и шпион до конца выполнил свое предназначение. Он закрыл Андрея своим телом…
«Господи! Что же это? – глядя на окровавленную рубаху, думал он. – Зачем – это? Как же это?..»
Новый кучер остановил коней и, спрыгнув с облучка, стал привязывать вожжи к дереву.
Андрей поднял глаза и увидел конных, тихо стоящих среди деревьев. Они смотрели со спокойным любопытством, лениво отмахиваясь от редких комаров. Один из всадников неторопливо подъехал к дрожкам и спешился. Был он одноруким; левый рукав кожана запрятан под ремень, на котором висел английский пистолет. На вид человеку наверняка перевалило за пятьдесят, чисто выбритое лицо, ухоженные волосы под солдатской фуражкой.
– Здравствуйте, Березин, – сдержанно сказал он, будто старому, но не очень близкому знакомому. – Это я вас побеспокоил. Откровенно сказать, ждал завтра, да вы что-то скоренько назад поехали.
– Кто вы? – глухо спросил Андрей.
– Не узнаете? – спокойно спросил человек. – Впрочем, мы с вами никогда не виделись. Но я вас таким и представлял. Говорили, что тогда у вас лицо было забинтовано. Вы будто в маске ходили.
– Я вас не знаю, – сказал Андрей.
– Соломатин, – представился тот.
– Соломатин? – боль вновь толкнулась в грудь.
– Точно так. Да, тот самый, которого вы так и не пустили в Есаульск, – Соломатин вздохнул. – Документов, к сожалению, не имею и подтвердить свое лицо не могу. Поверьте уж на слово. Вы и не чаяли встретить меня? Верно? Ну, если и хотели увидеть, то в камере ЧК.
– Да уж, не ожидал, – признался Андрей. – Старый известный бандит Соломатин… Почему-то вы мне представлялись другим.
– Разумеется, – согласился Соломатин. – Со звериной мордой и ножом в зубах… Вы напрасно не пустили меня в Есаульск. До сих пор не могу понять, кого вы защищали?
– Людей, – проронил Андрей негромко и заметил в оттопыренном кармане Юлии рукоятку браунинга: ее не обыскали.
– А я людей не трогал, и это вам известно, – отпарировал Соломатин. – Купцов бы потряс. Они старые мои должники, а долги полагается возвращать.
– Что же, купцы не люди?
– А вы на приисках не бывали? – в свою очередь спросил Соломатин. – Жаль, что не бывали. Однажды бы посмотрели, как людей в землю загоняют, не потянуло бы эту сволочь защищать. Все есаульские купцы акционерами были и некоторые – хозяевами приисков.
– Что же вы, благородный разбойник? – Андрей оттянул прилипшую рубаху на груди. – Робин Гуд?
– Я старый партизан, – обиделся Соломатин. – Боролся против эксплуататоров двадцать лет. И ни разу не тронул безвинного. А сколько вы погубили за три года?
Андрей дотянулся до руки Тауринса, поднял ее, показывая Соломатину:
– Он? Он в чем перед вами провинился?
– Он стрелял.
– Он защищался! И не себя защищал – меня! – крикнул Андрей и привстал, схватившись за грудь, захрипел.
Юлия усадила его, прижала голову к своему плечу. Андрей отдышался, грудь холодила чужая кровь.
– А вы кто нынче? – спросил Соломатин. – Ангел небесный? Дитя непорочное?
Он сдернул с седла колодку, зажав ее между колен, выхватил маузер, показал, держа за ствол:
– За что вручают такие игрушки?.. А я знаю за что! И знаю на что! Если мы вынуждены по тайге прятаться как звери, так, думаете, ничего не слышим и не видим?
– Простите, – отдышавшись, сказал Андрей. – Я плохо думал о вас. Простите… И о нем тоже думал…
Он поправил висящую руку Тауринса, прижал ее к телу.
Соломатин вложил маузер в колодку и, шагнув к дрожкам, подал Андрею. Андрей не взял. Тогда Соломатин положил оружие на пол и отступил назад.
– И вы меня простите, – проронил он, успокаиваясь. – Мы сейчас с вами оба в безвыходном положении. Тот, кто преподнес вам маузер, ждет, когда вы станете применять его. А вы начали распускать арестованных. Есаульские купцы вас предали, предадут и эти, кому вы служите. Центросибирь нуждалась во мне, когда колчаковцы развешивали большевиков по столбам. Даже орден посулили. Теперь я объявлен вне закона.
– Что же вы предлагаете? – спросил Андрей. – Пойти служить к вам?
– Я не возьму вас, – отрезал Соломатин. – Хотя вы хорошо защищали Есаульск.
– Так что же?
– Мне известно, что будет амнистия, – с расстановкой проговорил он. – Скажите, можно ли ей доверять? Не способ ли это выманить нас из тайги?
Андрей посмотрел на его пустой рукав, выбившийся из-под ремня, затем на маузер, лежащий под ногами, сказал определенно:
– Нельзя доверять. Вы Недоливко знаете? Доверились бы вы ему?
Соломатин посмотрел себе под ноги, заправил рукав, вздохнул.
– Понятно… Скажите, есть ли смысл вести переговоры с властями, чтобы разрешили пройти по дорогам в Монголию? Тайгой не пробьемся, с нами семьи, дети…
– Попробуйте, – сказал Андрей. – Но я не уверен, что вас выпустят за границу.
– Почему? Я пройду с оружием в обозе. Согласен, чтобы сопровождал конвой до рубежа. – Он помедлил и добавил: – Согласен на границе сдать девяносто процентов оружия.
Андрею вспомнилась карательная погоня за Олиферовым, мороз, горящие чумы, пирамида из обезумевших оленей…
– Хорошо, попытаюсь вам помочь, – после паузы проговорил Андрей. – Передам условия. Но гарантировать ничего не могу.
– Я понимаю вас, – без всякой надежды сказал Соломатин. – Последний мой козырь такой: на границе сообщу властям место тайника. Там десять пудов золотого песка.
– Я передам, – пообещал Андрей.
– Когда к вам прислать человека?
– Через неделю. Если жив буду.
Соломатин посмотрел в его лицо, заметил кровь на рубахе.
– Вы ранены?
– Нет. Я убит, – сказал Андрей, глядя на Тауринса.
Лицо Соломатина набрякло. Обернув голову вполоборота назад, он сказал негромко и властно:
– Был приказ – без крови!
– Да он четырех наших! – сверкнул глазами седой мужик, что правил лошадьми. – В упор!
– Проводи на тракт! – распорядился Соломатин и вскочил в седло. Уселся удобно, замер, окаменел. И каурый жеребец под ним застыл изваянием.
Было в этой фигуре что-то скорбное и трагичное, словно придорожный камень на неизвестной могиле: ни эпитафии, ни имени, ни даже даты жизни. Проедешь такой, глянешь мельком, а он потом стоит всю дорогу перед глазами. И как слеза, наворачивается вопрос – когда и зачем жил человек?
7. В год 1931…
На рассвете уже знобило даже и в шинели, хотя земля еще не остывала за длинную осеннюю ночь и, черная, с восходом солнца исходила паром, краснела, будто сохнущая над огнем одежина. В такую пору обычно начинали пахать зябь…
И в эту же пору Деревнину очень уж хотелось жить! И наверное, не только ему, а всем: молодым и старым, больным и здоровым, богатым и нищим. В самой сердцевине осени есть короткий промежуток времени, когда живется с ощущением, что в природе вот-вот произойдет нечто такое, что единожды и навеки уравняет все живое и неживое на земле. Но ожидание всегда напрасно. Просто на переломе осени люди, деревья, птицы, звери да и сама земля переживают одно и то же: печаль, холод, предчувствие зимы. И переживание это роднит, сближает, сбивает в стаю, а община обостряет жажду жизни.
Голев и Деревнин шли берегом Повоя, вниз по течению, прочь от монастыря и Есаульска. Шли с туго набитыми котомками и подбирали место, где бы присесть, чтобы и от людей подальше и глазу приятно. Голев наконец выбрал невысокий взлобок, окруженный кустами, и опустил котомку.
– Шабаш! Садись, стрелок!
Однако Деревнин высвободился из лямок и, ступая нетвердо, спустился к воде. Присел, глядясь в светлую осеннюю воду как в зеркало, затем ударил по своему отражению и мокрой рукой отер лицо, соскребая и роняя в воду очки. Глядел тупо, отрешенно.
Тем временем Сидор Филиппович скинул шинель, ловко распотрошил содержимое котомки и соорудил выпивку и закуску: водка в тяжелой баклаге, колбаса и ком сыра. Ему не терпелось, однако, соблюдая ритуал, он лишь отвинтил пробку и понюхал черное, похожее на винтовочный ствол, отверстие.
– Разбавил, стервец! – крикнул он Деревнину. – Слышишь, чего говорю?.. Вот паскудник, а?
Деревнин оглянулся на крик, пошарил вокруг себя очки, полез рукой в воду – не нашел. Только рукав шинели до локтя вымочил. Смирившись, стал умываться. Набирал скользкой глины, мылил ею ладони, каждый палец, споласкивал и снова мылил. Наконец ополоснул лицо и спрятал руки под мышки – заломило от холода…
«Погоди, что мы сегодня делали? – постарался вспомнить он. – Что же мы такое делали?..» Болела похмельная голова, знобило, и мысли были неясными, расплывчатыми, как прибрежные кусты, река и лес на той стороне. Он с детства страдал близорукостью.
– Эй, оглох, стрелок? – окликнул начкар Голев, теряя выдержку. – Айда, поправим здоровье и по домам. А то пайка выдыхается.
Деревнин подышал на онемевшие руки, содрогнулся телом от холода и какой-то брезгливости: водка в кружках казалась ледяной и жирной.
– Давай! – Сидор Филиппович поднял кружку. – Первую у нас пьют за здравие!
Он выпил одним духом, молодецки крякнул и отломил кусок колбасы.
– Все-таки развел, – заключил он. – Форменное вредительство!
– Что? – будто очнувшись, спросил Деревнин.
– Да говорю, каптер водку разводит!
– А-а… – протянул Деревнин и попросил: – Товарищ начкар, налейте полную!
Сидор Филиппович покосился на котомку стрелка, где была непочатая фляга водки, но махнул рукой:
– Ладно, сегодня так и быть, я угощаю!
Деревнин медленно выцедил всю кружку, будто холодную воду – лишь зубы заныли.
– Видно, человек ты непьющий, – заключил начкар. – Потому особо на нее не зарься. Паек лучше домой неси. Похмелился после работы – остальное домой. Лучше потом с друзьями выпить, родню угостить… И культурно опять же!
Деревнин посмотрел, как Голев аккуратно шкурит колбасу и неожиданно подумал, что сегодня надо обязательно напиться. Может, выпить всю пайку сейчас же – и не ходить домой. Лечь здесь, на берегу, и уснуть. Он огляделся, словно подыскивая место.
– На нашей службе и без нее невозможно, и с ней погибель, – рассудил начкар. – Так что ухо востро держи и бдительность проявляй… Ладно, вторую принято за упокой!
Он налил водки. Деревнин взял кружку и потянулся ею, чтоб чокнуться, но Сидор Филиппович отстранился.
– Не положено, раз за упокой. Ты чего, на поминках не был?
– Был, – признался Деревнин и выпил.
Хмель не брал, даже руки после холодной воды не согревались. «Разведенная водка, – подумал он. – Каптеру паек не полагается, он и подливает воды».
– А знаешь, почему не положено? – продолжал начкар. – Чтобы не чокнуться, понял? Так старые люди говорили.
Деревнин отрицательно помотал опущенной головой.
– Нет, не поэтому… Ерунда все.
– Как – ерунда? – насторожился Голев. – Это как понимать?
– На поминках нечем было чокаться, – вяло возразил Деревнин. – Из братины пили… По старшинству, по очереди. Ритуал был такой.
– Ишь ты, грамотей! – возмутился начкар. – С одной посуды, что ли? Как свиньи?
– Почему как свиньи? Говорю же, обычай такой был, из одной чаши, – терпеливо объяснил Деревнин, глядя в землю. – Пили, чтобы побрататься, чтобы мир был, если пьют из братины. Вздумает кто соседа отравить, а нельзя. Сам отравишься.
Он говорил и думал, что зря все это рассказывает начкару. Зачем ему знать историю и ритуалы, когда у Голева совсем другие интересы. Да и был бы он человек хороший, а то ведь скотина, каких свет не видывал. Сволочь, одно слово. Мразь. Он ведь никого не любит, и ничего святого нет для него. Зачем он живет? В чем у него радость бывает? Сапоги хромовые получил, водку на спецпаек и уже счастлив. Разве можно жить так?
– Что касаемо травли – это да! – неожиданно согласился начкар. – Так и глядели, как бы соседу яда насыпать. Только отвернись… Да оно и нынче вон что творится! Сколько вредителей кругом!
Сидор Филиппович косо сощурил левый глаз, а правый, наоборот, широко, но тоже косо открыл и уставился на стрелка. Взгляд его напоминал клин, и мало кто мог его выдержать. Он словно расщеплял человека, и даже будучи честным, невозможно было не смутиться под таким взглядом.
– Чего это у тебя душа трясется? – вдруг спросил он. – Тебе-то что скрывать? Ты теперь стрелок проверенный и товарищ испытанный. Живи открыто и в глаза смотри. Пускай враги трясутся, а не ты… Или все-таки есть грешок? Может, укрыл что из биографии?
Деревнин зажал рукой рот и сунулся к ближайшему кусту…
Потом он умылся, попил воды и, вконец ослабший, больной, вернулся назад. Голев покачал головой:
– Есть грешок, есть… Потому и спецпаек не впрок пошел.
– Перед Советской властью греха нет, – сказал Деревнин. – А рвет, потому что голодный.
– Ты ешь, ешь, – подбодрил начкар. – Тебе на что колбасу дают?.. Да я тебе верю, Деревнин. Только одно сомнение: чего ты в стрелки пошел? Грамотный человек, гимназию закончил… Тебе бы счетоводом или бухгалтером самое место. А ты концлагерь охранять подался. Тут и без образования можно. У меня вот два класса церковноприходской, а я начкаром!
– У меня, Филиппыч, таланта нет, – признался Деревнин. – Ни к счету, ни другой гражданской работе. Когда таланта нет, жить невыносимо. От меня вот и жена ушла… Никому я не нужен. Кроме родителей, конечно. Вот и на службе я никуда не гожусь…
– Ты это брось! – отрезал Голев. – И не думай! Все так начинают. Ты в кругу своих товарищей, надежных товарищей. Пройдешь полный курс, и тебя хоть куда потом ставь. Погоди еще… Вот уйду я на пенсию, в отставку. Глядишь, тебя на мое место назначат.
«Какая же ты скотина, – думал про себя Деревнин, слушая подвыпившего начкара. – До чего же ты мерзкий, плюнуть бы в твою тупую рожу…»
– Куда мне, – отмахнулся Деревнин. – Не будет толку…
– Ты же красный партизан! – нажимая на букву «р», прорычал начкар. – Что за разговор: куда мне, толку не будет… Ты нынче хозяин! И свою власть кровью завоевал! Так чувствуй себя хозяином!.. Вот за это давай по третьей – и на покой. Чтоб кошмары не снились.
– Не буду пить, – тоскливо сказал Деревнин. – Желудок не принимает…
– Тогда не переводи добро, – Голев выпил и стал собираться. – Завтра чтоб как штык!.. Каэров поведешь ямы копать.
Он затянулся ремнем, закинул котомку за спину и выжидательно посмотрел на Деревнина.
– Я еще здесь посижу, – вяло сказал тот. – Пора хорошая, так жить хочется…
– Ну, гляди, стрелок, – многозначительно бросил начкар. – Только не дури, понял?
Сидор Филиппович ушел напрямик, через лес, а Деревнин долго и тупо глядел на тихую осеннюю воду. Рядом суетились воробьи, расклевывая огрызки колбасы, а на высокой сосне, изломанной ветрами, сидел и дожидался своей очереди таежный ворон, похожий на головешку. Изредка кричал, поторапливал.
– Кр-р-р – пым-м, кр-р-р – пым-м…
Деревнин развязал свою котомку и попил прямо из фляги. Водка холодила горло, но не согревала и не пьянила. Он полежал на земле, ожидая приятного жжения в желудке и теплой, легкой волны в голову – не дождался: жизнь по-прежнему казалась постылой и ненавистной. «Убью, гада, – вдруг подумал он о каптере. – Ведь если захочет – отравит, и докажи попробуй…»
Ворон слетел на землю и сел в сажени от Деревнина, скосил голову, рассматривая человека. Деревнин достал колбасу и кинул ему полкруга. Ворон отпрянул, однако тут же вернулся и стал клевать, глотая крупные куски. Он ничуть не тяготился присутствием человека и не боялся его; наоборот, когда глотал, вскидывая голову, то глаза его подергивались бельмами и прикрывались, словно от блаженства. «Вот сволочь!» – зло подумал Деревнин и, вскочив, согнал ворона, распугал воробьев.
– Все сволочи! – крикнул он и, забросив котомку за спину, побрел к городу.
Было раннее утро, и потому на пустынных улицах лишь изредка попадались крестьянские телеги и редкие прохожие, спешащие к базару. Деревнин остановился у ворот своего дома, хотел постучать, как обычно, однако передумал и полез через заплот. В доме еще спали. Там, за наглухо запертой дверью, он бы мог сейчас рассказать все, если бы повернулся язык. И он всегда рассказывал, не тая самой последней мелочи, и исповедь эта, будто выплаканные в детстве слезы, враз облегчала душу, и можно было жить дальше.
Сегодня же он представил, как бы стал рассказывать матери о ночной службе и понял, что впервые за свои тридцать лет не сможет до конца быть откровенным. Все равно умолчит о самом главном, солжет, не повинуясь воле, ибо сказать вслух матери о том, что случилось сегодняшней ночью, невозможно. Об этом он и думать боялся.
Теперь случилось такое, что и матери не скажешь…
Мысль о самоубийстве у него зрела еще на берегу Повоя, когда они с Голевым похмелялись, но там вокруг была осенняя природа, то самое ее состояние, когда так хочется жить. Здесь же, у порога своего дома, стало ясно, что жить дальше невозможно, ибо теперь не спасет даже всеискупляющая исповедь перед матерью.
Деревнин бесшумно отомкнул дровяник, заперся изнутри и стал перекладывать поленницу. Работал до пота, пока не добрался до заповедного угла, где хранился зарытый еще после гражданской револьвер. Он выкопал жестянку из-под монпансье, раскрыл ее и достал сверток из промасленной тряпки. Ржавчина не достала револьвера, и патроны оказались как новенькие. Деревнин зарядил полный барабан и вдруг почувствовал, как задрожали руки. Вот сейчас надо отвести курок, приложить ствол к виску и надавить спуск. И все разом кончится… Он достал из котомки флягу, сделал несколько глотков и неожиданно вспомнил начкара Голева.
«Меня сейчас не будет, а он, гад, останется жить, – с завистью и обидой подумал Деревнин. – А потом – стой! Он же сказал, будто вложил мне холостые патроны! Я первый раз, так мне холостые, вроде тренировки…»
Он машинально отпил еще, затем спрятал револьвер за пазуху и, озираясь, вышел со двора. Если ему Голев вложил в магазин холостые, то ведь Деревнин никого не убивал! Не расстреливал!
От внезапной прилившей надежды он заметался по улице, лихорадочно соображая, где живет Зинаида Солопова – вдова, у которой притулился начкар Голев. Наконец вспомнил и бегом помчался по гулким, пустым улицам, сдерживая шаг лишь при виде прохожих. Через четверть часа он уже был возле особнячка, во дворе которого зычно лаял пес. Деревнин торкнулся в калитку – заперто. Не долго думая, перебрался через заплот и, прижимаясь к нему, чтобы не достала собака, заскочил на крыльцо, постучал. Через минуту в сенях зашлепали босые ноги, дверь распахнулась. Голев стоял в трусах, но по виду еще не засыпал.
– Во! Ты чего прибежал? – спросил он недовольно.
– Товарищ начкар… Сидор Филиппович! Скажите, ради бога! – забормотал Деревнин. – Снимите камень с души!.. Вы мне правда холостые вложили?
– Тихо ты! – обрезал Голев и втащил его в сени. – Чего орешь?
– Правда, холостые? А? – напирал Деревнин. – Холостые же?
– Тьфу! – выматерился начкар. – Дурак, что ли? Или не похмелился?
– Скажите! Ну, скажите! – кричал Деревнин, хватая его за руки. – Холостые или боевые?! Ну?..
Голев затащил его в дом, прикрыл дверь.
– Набрали сопляков! – рычал он. – Ишь, нервная барышня! Чего, заснуть не можешь?
– Не могу, – забормотал он. – Спать не могу, есть не могу, жить не могу…
– А ты выпей литру и спи! – приказал начкар. – И встанешь как огурчик!
– Сидор Филиппович! – Деревнин упал на колени. – Холостые или нет?
– Сидор? – окликнула Зинаида из спальни. – Кто там пришел и что нужно?
– Убирайся отсюда, дурак! – злым шепотом заговорил Голев. – И язык прикуси. Служебная тайна, понял?
– А холостые? Холостые?! – воспрял Деревнин.
– Какой же идиот холостыми стреляет? – возмутился начкар. – Игрушки тебе, что ли? Пошел отсюда!
– Так боевые?.. Боевые?!
– А то какие же! Я что, пули тебе ковырять бы стал? – Голев пнул босой ногой Деревнина. – Ну и дубина! Иди домой!
– Говорил же – холостые… – выдавил Деревнин и поперхнулся.
– Говорил, чтоб руки не дрожали!
Деревнин заскрипел зубами и опустил голову, по-прежнему стоя на коленях.
– Да что тебя, силком выкидывать?! – закричал Голев.
Деревнин поднял глаза и выхватил из-за пазухи револьвер, взвел курок. Начкар попятился.
– Мне теперь все одно, – тихо сказал Деревнин. – Но и ты, паразит, жить не будешь!
. Голев повернулся, чтобы бежать в спальню, и Деревнин нажал на спуск… Осечка! Отсырели патроны!..