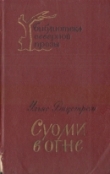Текст книги "Крамола. Книга 2"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Поверьте мне, они больны! – горячо заговорил Михаил. – На медицинском языке это называется паранойя. Желание переустроить мир, навязчивое желание…
– Вы считаете, что мир наш так хорош, что его не нужно переустраивать? – изумился человек-невидимка. – Разве вы не замечаете, что творится вокруг вас?
– Нет, не замечаю, не вижу, – признался Михаил. – Вокруг нас тьма непроглядная. Я даже не вижу, с кем имею честь говорить…
– Ты кто, товарищ? Ты кто, товарищ? – по-прежнему бубнили из правого угла.
– Кто это говорит? – спросил Михаил.
– Человек, – отозвался невидимка. – Вернее, еще вчера был человек, а сегодня уже… Он никого не узнает, темно.
Стараясь не шуметь, Михаил пополз на четвереньках в правый угол.
– Ты кто? Кто ты? – испуганно забормотал человек. – Не подходи!
Михаил нащупал стену и прошел вдоль нее, подальше от всех. Он сел, стиснув руками виски, попытался отрешиться и забыть, вытравить из памяти зловещее слово – безумие.
Потом Михаил увидел сон, показавшийся ему бесконечным. Будто он не человек, а речной песок, мелкий и белый; и будто кто-то рассыпал, развеял его по полу и самому теперь никак не собраться. Он стал кричать, звать людей, чтобы его смели в кучку, но никто не слышал. И тогда он заплакал. Странность была не в самом сне, а в том, что он смотрел на этот песок откуда-то сверху и плакал.
Он и проснулся в слезах. Таращась на распахнутые двери подклета, длинно всхлипнул и встал. В разных углах уже переругивались: занимался новый день.
– Лекарь? Выходи! – послышалось из дверного проема.
Глаза к свету привыкали медленно, резь углублялась и уходила в мозг, слезы бежали ручьем. Михаил перешагнул порог. Свежий воздух и смолистый запах молодой листвы закружили голову; чувствуя легкое опьянение, он пошел вдоль заплота к церкви, на паперти которой стояло несколько военных. Завернув за угол, он резко остановился: на церковной площади были выстроены войска – человек двести или триста в новеньких гимнастерках и сапогах. Во главе строя развевалось красное знамя.
– Двигай, двигай, – поторопил конвоир. – Тебя ждут.
Робея от такого скопления людей, Михаил вышел к паперти и получил приказ стоять. Оглядевшись, он узнал вчерашнего военного в буденовке и рыжего паренька порученца.
– Смирно! – крикнул военный и, развернув лист бумаги, стал читать. – Именем мировой революции я, командующий Партизанской Республикой красного воинства Димитрий Мамухин, приговорил вражьего сына и предательского лазутчика за вторжение через границу к казни через смертную казнь путем зарубления саблей.
Он не понял смысла этих слов, но вздрогнул от мощного рева – ура! Однако военный поднял руку и крик разом опал.
– Но учитывая то, что в нашей республике нет лекарей, – продолжал командующий, – а Березин Михаил Михайлович хоть и вражий сын, но лекарь, я, командующий Партизанской Республикой красного воинства Мамухин Димитрий, приговорил помиловать его до особого моего распоряжения.
Воинство опять закричало – ура! – с прежним азартом, так что было не понять, что этим криком одобрялось. Михаил еще не успел ощутить ни дыхания смерти, ни восторга избавления от нее: все воспринималось как святская шутка ряженых.
– Подымись сюда! – распорядился Мамухин и поманил рукой.
Михаил взошел на паперть. Командующий был беспечен и благодушен, словно урядник после воскресной службы.
– Значит, Березин Андрюха тебе сродный брат будет? – спросил он.
– Да… – сообразил Михаил. – Вы что-нибудь знаете о нем? Где он?
– А как же! – горделиво улыбнулся командующий. – Помню, он еще бесштанным бегал!.. Про Андрюху мы с тобой потом потолкуем. Стань в сторонку и гляди. Присутствовать будешь, полагается лекарю присутствовать.
Он хотел спросить, зачем, но увидел, что к паперти подвели возницу и еще какого-то тщедушного человечка бродяжного вида и ужасно оборванного, так что сквозь лохмотья виднелось синеватое тело. Командующий сделал торжественное лицо и стал читать новый приговор. И когда прозвучало имя возницы, Михаил замер в ожидании, однако прозвучало – помиловать! – и лишь конфисковать коня и бричку в пользу Республики. Возница вдруг низко поклонился всем, стоящим на паперти, затем – солдатам в строю и заплакал.
– Проводить его на заставу и выдворить! – распорядился командующий. – А ты, лекарь, видал этого человека? Что скажешь про его здоровье?
Командующий указывал на тщедушного в лохмотьях. Михаил пожал плечами.
– Я не знаю его…
– Да вы ж в амбаре вместе сидели!
– Сидели, сидели! – весело подтвердил оборвыш. – Я вам руки развязывал!
Узнать его было невозможно. Почему-то во мраке подклета человек-невидимка казался ему выше ростом и поблагороднее осанкой и видом.
– Сдается мне, больной он, на голову слабый, – предположил командующий. – Несет черт-те что.
– Он болен, да! – спохватился Михаил. – Душевное расстройство.
– Я совершенно здоров! – закричал оборвыш. – Какое вы имеете право записывать меня в дураки?!
– Ленька! Уведи его! – приказал командующий. – Нездоровые умом суду не подлежат.
Ленька слетел откуда-то с церкви и повел безумца по дороге, ведущей на заставу. А тем временем из амбара привели еще двух человек – взрослого мужчину сурового и независимого вида и молодого белокурого парня, круглолицего и краснощекого, эдакого пастушка с дудочкой, если бы лицо его не искажали пылающие гневом черные глаза. Михаил сразу узнал их, поскольку арестованных вели поодиночке, на веревках.
– Именем мировой революции, – начал командующий, на что белогвардеец плюнул в сторону паперти и отвернулся, – колчаковского недобитка казнить через смертную казнь на березах!
Грянуло мощное ура! – причем строй даже не шелохнулся, а лишь разинул рты, чтобы выпустить из себя торжествующий крик.
– А грабителя и мародера из вражьей партии Продотряда казнить сначала отрублением рук с последующим утоплением! – заключил командующий. – Но учитывая его прошлые заслуги в Пятой красной армии, заменить позорную смертную казнь простым расстрелом!
На площади опять заорали, и от этого рева Михаил словно опомнился.
– Их нельзя казнить! – закричал он. – Они больны! Они невменяемы! Я как врач протестую! Нельзя казнить!
Командующий побагровел, и шея его врезалась в тугой ворот кителя. Рыжий помощник его был уже рядом с Михаилом, но не бил, ждал команды.
– Я тебя для другой нужды тут оставил, – сурово произнес командующий. – И кого казнить или миловать, решаю я! Только революция имеет права жизнями распоряжаться! А ты, лекарь, будешь компасировать смерть, понял? Так по закону полагается.
– Констатировать, – робко поправил его человек в полувоенной одежде, стоявший все время за спиной командующего и хранящий спокойствие.
– Я могу констатировать только жизнь! – ответил Михаил. – И в ваших… в вашем безумии участвовать не буду!
– Заставлю, так будешь! – уверенно заявил командующий и улыбнулся. – Как миленький!
Строй засмеялся, сохраняя неподвижность.
– Не заставите!
– По закону требуется, понял? – еще раз попробовал вразумить его командующий. – Чтоб люди в землю пошли мертвыми. Мы же не белая сволочь, чтобы живыми закапывать! Верно?!
– Верна-а! – прокатилось по площади.
– Вы!.. Вы же больной человек! – закричал ему в лицо Михаил. – Вы же не ведаете, что творите! Вы сумасшедший!
Лицо командующего налилось кровью.
– Н-ну, лекарь!.. Ну, вражий сын!.. Хотел миром с тобой… В амбар его!
Рыжий помощник толкнул прикладом в спину. Михаил споткнулся на ступеньках паперти и упал. А вставать с земли не хотелось, и не было больше сил. Однако рыжий схватил его за шиворот и помог встать. Едва передвигая непослушные ноги, Михаил побрел назад, к амбару, и какой-то мальчишка бросил в него камень.
За амбаром десятка полтора солдат, повиснув на веревках, удерживали две согнутые березы, как удерживают воздушный шар перед полетом. А четверо других уже привязывали те веревки к ногам приговоренного: левую – к левой березе, правую – к правой…
9. В год 1931…
Прошка Грех умирал тихо, как измученный болезнью бессловесный ребенок. Его разрешили держать при себе, в женском бараке лагеря, однако место на нарах выделили только одно. Да и не было лишних мест; трехъярусные нары были забиты до отказа. Прошка уже не двигался около двух месяцев, лежал, спеленутый тряпьем, будто кукла, и лишь разевал беззубый рот, когда хотел есть. Мать Мелитина кормила его жвачкой с губ, словно птенца, и когда он засыпал, насытясь, ложилась сама на самый край нар и спала чутко, как молодая, беспокойная мать, трясущаяся над своим первенцем. Стоило Прошке шевельнуться, как она вздрагивала и уже не могла уснуть до самого утра. По ночам она сидела возле него, молилась за отца, за всех тех, кому обещала молиться, за скитающегося сына, за пропавшую дочь, за людей, искушенных злом, за мучеников совести, за добро и справедливость, за живых и мертвых, за здравие и упокой. Когда Прошка беспокоился, начинал ворочаться и тоненько поскуливать – у него болело нутро, – мать Мелитина брала его на руки и укачивала молча, чувствуя желание вместо молитвы петь колыбельную. Она уже давно не воспринимала его как отца. Ухаживая за Прошкой, она ощущала, как просыпаются в душе материнские чувства, смиренные иночеством, и в такие мгновения не знала: грех это или благо? Кто он был теперь, человек на ее руках? Отец, давший ей плоть, или уж крест, который вручен ей господом, чтобы нести его до конца?
И даже когда она почувствовала, что смерть его уже стоит в изголовье, все равно не могла понять ни умом, ни сердцем, что умирает отец. Она не хотела судить его жизнь и начинала молиться, как только возникала мысль об этом, и все-таки судила. Она думала, что человек, лежащий на ее руках, жизнь прожил бестолковую и пустую. У Прошки был брат-близнец, умерший десяти лет еще там, в Воронежской губернии, и старики в Березине часто вспоминали его и жалели. Говорят, он особенно ничем не отличался от прочих детей: играл, озорничал, ходил подпаском либо на пашню с отцом, однако за что бы он ни брался – игру ли, работу, – все насыщалось светом и плодородием. Рассказывают, однажды они сеяли с отцом. И вот остался небольшой клинышек у межи, а родитель уже притомился и отдал лукошко с семенем сыну. Тот рассеял зерно, а когда пришли осенью жать – диву дались! Рожь уродилась невиданная, две горсти сожнешь, а уж сноп не поднять. Вокруг колос худосочный, мелкий, считай, столько же со всего поля нажали, сколько с клинышка. В другой раз отец заставил его все поле засеять, и сын засеял, правда, занедужил потом и хворал до жатвы. Пошли убирать, а на поле хлеб стеной стоит по сравнению с другими полосками, и хоть бы один колосок лег или сломался. Этакое чудо от народа не скроешь, узнали, кто сеял, чьей рукой семя брошено, и на следующую весну вся деревня пошла кланяться, просить сыночка, чтоб рожь посеял. Отец не отказал, и люди в ум не взяли, что ребенку не под силу будет с таким трудом совладать. Однако всем уж больно доброго хлеба хотелось, а мальчику-то самому еще невдомек было, что он вместе с зерном и себя по земле раскидывает. Пошел он сеять – мужики только лукошки с семенем подносят. День и ночь сеял, и когда бросил последнюю горсть, упал сам на меже и едва дышит. Сбежались люди, глядят, а у сеятеля руки кровоточат и кожи-то нет на ладонях, вся в землю ушла. Подняли его, понесли в деревню, и по дороге он скончался. Схоронили Прошкиного брата, на могилке цветы посадили, а они не растут, и даже трава не принимается. Так и стояла она потом черная, будто выжженная. А мужики по осени убрали тучный хлеб, забили им гумна, скирды сложили, каких вовек не видывали. Поели хлебушка вволю. На следующий год посеяли сами, но земля будто мертвая сделалась, ничего не уродила.
И начался страшный голод. Рассказывали, будто люди мерли на улицах и лежали так до весны – хоронить некому было. Кто остался в живых, все винили Прошкиного родителя, дескать, от его сына горе пошло, от сеятеля. Никак, знался он с нечистой силой, потому и сынок такой народился. А что сами невиданным урожаем землю выхолостили, все ее соки выжали – никто признать не хотел. Потом-то еще года три отходили измученные пашни, сил набирались. Прошкин родитель поначалу оправдывался, совестил односельчан, чтоб не возводили напраслины, в жадности уличал и сколько выручал потом денег, все в церковь вкладывал, однако что бы ни делал он, любое благое дело его корыстью объявляли. И дали ему прозвище – Грех, да такое, что по наследству сыновьям перешли.
– Грешен я, грешен, – будто бы потом соглашался он. – И грех мой в том, что растратил я Божию благодать, данную сыну моему, растранжирил, разворовал да в землю втоптал. Сам пожадничал, хлеба богатого захотел. А если бы сынок-то мой живой был? Что бы могла сотворить его легкая рука?
Вспоминала мать Мелитина рассказы об отцовом брате, и жизнь Прошкина еще никчемней казалась. Бог словно и не заметил, когда он родился и как жизнь прожил. Так забытым и к смерти своей подошел, только не прямой дорогой, а великими кругами. Но вернулся опять туда, откуда вышел – в детство. Наверное, и смерти-то не будет ему человеческой: лежит как младенец, и все меньше, меньше делается. Глядишь, станет зародышем, а там и вовсе превратится в ничто, как потухший огонь.
Прошка Грех скончался на рассвете, в канун того дня, когда есаульский концлагерь стали готовить к этапу – раздавали одежду и обувь. Многие женщины в бараке слышали это слово впервые, однако и без объяснения угадывали за ним начало своих мук. Крестьянские жены и дочери, на своем веку знавшие разве что дорогу до соседнего села, если туда выдавали замуж, на ярмарку или дальний покос, теперь безумели от той, что выпадала на их долю. Нескончаемый вой и рев стоял в бараке, и многоголосый причет, вырвавшись на волю, доставал неба.
Перед смертью Прошки мать Мелитина не спала уже дня четыре и, утомившись от дум и молитв, прикорнула, сидя возле нар. И вдруг, проснувшись от резкого треска, увидела перед собой расколовшуюся повдоль деревянную подпорку. И только подняла руку для крестного знамения, да так и обмерла от страшного треска над головой.
Толстое матичное бревно на глазах разошлось, расшиперилось косой трещиной, шириною в ладонь. Утихли плачущие женщины.
Сразу так и сказали: это Прошкина душа билась да рвала дерево, отойти не могла.
И вот отошла Прошкина душа. Отошла как полагается, под бабий крик.
С рассветом мать Мелитина пошла просить начкара, чтобы позволил выкопать могилу рядом с могилой Александра. Был уже ноябрь, земля замерзла в камень, однако женщины из барака сулили помочь. Начкар ей был знакомый – тот самый Деревнин, что в Вербное воскресенье подсобил положить вербу к наружной надвратной иконе Богоматери. Заметила мать Мелитина, что он узнает ее во время прогулок и режимных обходов, приглядывается, словно что-то спросить хочет, да стесняется, а может, нужды большой нет.
Начкар был где-то на хозяйственном дворе, и пришлось немного подождать возле караулки. А часовой все гнал и гнал ее в барак.
– Эй, тетка! Иди на место! – нетерпеливо, хотя и неуверенно покрикивал он. – Говорят тебе – иди. Ну, попадет же мне, иди!
Деревнин распекал какого-то стрелка, полы расстегнутой шинели летели за ним, будто крылья. Сапоги были забрызганы известкой. Даже не взглянув на мать Мелитину, он поставил ногу на ступень крыльца и стал оттирать снегом пятна извести.
– Тятенька мой преставился, – сказала мать Мелитина. – Позволь схоронить рядом со своими?
Деревнин вычистил сапоги, оглядел их придирчиво и вскинул голову: – Не положено. Ступай на место.
Она не стала больше ни просить, ни спорить. Начкар показался ей глухим, никак не отозвавшись на известие и просьбу; он не понимал, что такое смерть. Мать Мелитина вернулась в барак, присела возле покойного, вздохнула:
– Вот, тятенька… И земля тебя не принимает. Неужто так велик грех твой?
И, глядя в пол, она вдруг просияла, перекрестилась размашисто – благодарю, господи! Пол был неровный, щелястый, и плахи кое-где качались под ногами. Она взяла кочергу возле печи и зацепила крайнюю от стены доску. Земля была сразу под полом. Две женщины молча стали помогать ей, и скоро они освободили место у стены, вооружились березовыми сколками от дров и начали копать. Земля оказалась ледяной, кое-где окаменела, однако поддавалась. Женщины разрыхляли, расковыривали ее, затем отгребали руками, и лагерницы, сбившись полукругом между нар, застыли, словно дожидаясь своей очереди поделать эту непривычную и страшную работу. Они слишком хорошо понимали, что жизнь не вечна и обязательно заканчивается смертью. И это особенно ясно осознавалось здесь, в лагерном бараке, который напоминал чистилище перед жизнью вечной.
Пробившись сквозь замерзающий слой на вершок, женщины присели отдохнуть. Дальше земля пошла легкая – влажный мелкий песок, и мать Мелитина радовалась: хоть в этом утеха. Женщины сидели задумчиво, рассматривали свои руки, испачканные землей, пытались отскрести ее, оттереть, и было отчего – она жгла руки. Уделом женщины было рожать, а не хоронить, и могильная земля, будто короста дурной болезни, язвила и уродовала душу. А как легко было сделать из плодоносной земли – могильную! Вместо семени опусти в ее чрево покойного – вот и переродилась земля…
К обеду могилу отрыли по пояс, достали доски из нар, чтобы сделать на дне нечто вроде гроба – не класть же православного как басурмана, запеленутого в тряпье. И все бы обошлось, схоронили бы, как полагается, но принесла нелегкая мужика с ведром баланды.
– Бабы, обедать! – с порога закричал он. – Обедать, да шшупать стану! Начальник велел нынче всех перешшупать!
Поставил он ведро и вытаращил глаза. Какая-то бабенка погнала его к двери, суя кулачишками под ребра, однако выброшенную на пол землю он все-таки увидел. И, похоже, заявил охране. Через несколько минут в барак ворвались стрелки, оттеснили женщин от могилы, и началось разбирательство. Пришел начкар, осмотрел яму и заключил, что это – подкоп и что виновников немедленно поместить в изолятор. Стрелки схватили женщин, у которых руки были в земле, и повели, а остальным приказали засыпать яму и заделать пол. Однако на улице начкар одумался и велел отпустить могильщиц, а мать Мелитину подозвал к себе.
– Ночью похоронишь, – сказал он, отвернувшись.
– Но ведь не хоронят ночью! – запротестовала она. – Не принято…
– Я сказал – ночью! – прикрикнул он и ушел.
А ночью, когда все спали, вошел стрелок, велел взять покойного и повел в глубь монастырского двора. Там он отомкнул калитку в воротах, ведущих на хозяйственный двор, и пропустил мать Мелитину вперед. Прижимая к себе тряпичный сверток, она пошла едва заметной тропинкой на снегу к темной, приземистой конюшне. Возле дверей остановилась, подождала, покуда стрелок отомкнет замок и зажжет фонарь. В конюшне резко пахло гашеной известью и хлоркой. Подсвечивая себе фонарем, стрелок подвел ее к дощатому настилу посередине прохода, откинул плаху. И образовалась черная дыра.
– Бросай! – приказал стрелок.
– Да что ты, батюшка? – ослабла мать Мелитина. – Куда же бросать?..
И осеклась, вмиг осознав, что это не навозная яма, не помойка – братская могила. Она встала на колени, чувствуя, как прогибаются и дрожат доски над пропастью, читая молитву, опустила запеленутое тело отца в черную дыру.
И страшно ей сделалось, когда она не услышала звука падения – лишь черным ветром дохнуло в лицо, а под крышей забил крылами невидимый голубь.
Стрелок вложил на место доску и приказал встать.
«Господи, Вседержитель! Куда же ты ведешь меня по пути этому? – взмолилась она, но тут же, убоявшись мысли своей, поправилась. – И за сие благодарю тебя, Господи».
– Позволь мне отпеть их? – попросила она стрелка, не вставая с колен.
– Не могу, тетка, – пожаловался тот. – И хотел бы, да не могу.
– Ну, хоть заупокойную прочесть?
– Попадет мне, тетенька, – тихо выговорил стрелок. – Прибежит начкар – обоим несдобровать.
– Тогда я хоть свечечку поставлю, ладно? – Мать Мелитина достала тонкую самодельную свечу. – Она неярко горит, никто и не заметит.
– А тебя за что посадили-то? – спросил стрелок.
– За веру, сынок, за веру…
– Ну, поставь свечу, – разрешил он. – На вот спички…
Мать Мелитина прочитала молитву и зажгла свечу, прикрепленную на доске. Огонек затрепетал от сквозняка, кланяясь во все стороны, однако не потух и, неожиданно набрав силу, загорел ровно, и пламя вытянулось неподвижным, немигающим язычком.
И голубиная стая, сбившаяся под крышей, возрадовалась свету, затрепетала крыльями и с легким шорохом унеслась в небо сквозь слуховое окно.
* * *
На девятый день, в эшелоне, приснился матери Мелитине чудный сон. Будто идет она по неведомой земле – убранной, ухоженной, как изба к великому празднику. Нигде ни соринки, ни камешка, ни прутика; лишь трава под ногами стелется. А вокруг далекие синие горы, над горами ослепительно белые облака и солнышко на небе дивное, крутится, как мельничное колесо, и разбрызгивается на землю. «Куда же иду я? – подумала мать Мелитина. – Уж не райское ли место?» И будто детский голос сказал ей: «Иди и не думай. Скоро вся земля такая украшенная станет». Прошла она немного и видит – озеро впереди, и вода в нем вровень с берегами, так что незаметно, где земля кончается. Вода глубокая, тихая и до того светлая – каждую песчинку на дне различишь. Будто зеркало на земле лежит и весь мир – небо, солнце и синие горы – раздвоились, отразившись в нем. Остановилась она перед таким чудом, некуда дальше идти. «Все ли увидела?» – снова спросил голос мальчика. Огляделась мать Мелитина: «Все. Только тебя не вижу». – «Мне нельзя тебе являться, – услышала она в ответ. – Возьми, вот хлеб. Разломи его на тридцать три части и людям подай».
Тут увидела она, что по воде плывет к ней на белом полотенце большой пшеничный каравай. Наклонилась мать Мелитина, взяла на руки вместе с полотенцем и ощутила, будто чьи-то ладони выскользнули из-под каравая. «От кого же я хлеб приняла? – спросила она. – Кого же благодарить мне?» – «Отец твой послал, – ответил мальчик. – Хлеб на помин души подашь, а сама крошками насытишься. Тебе не хватит куска». – «Исполню, – она поклонилась низко и поцеловала хлеб. – Сделаю, как велишь. Но скажи мне, кто ты? Ангел?» С неба послышался заливистый ребячий смех, – затрепетала, заныла от сладости душа матери Мелитины. «Я сын твой! Только я не родился!» Всколыхнулась тут вода, вздрогнула земля, а в небе зазвенел жаворонок.
И, слыша его, мать Мелитина проснулась, помолилась, не открывая глаз. Вагон укачивало, скрипели деревянные нары да шипели и посвистывали сырые дрова в железной печке. Многие женщины спали, завернувшись в тряпье, в дерюги и половики, и сон их был тяжелым, мучительным, словно в болезни. Неприученные спать днем, однако очутившись в этой колыбели, они не могли совладать с дурманящим голову сном. Вялые, полуобморочные женщины плакали и просили разбудить, но и облитые ледяной водой, они вновь скоро засыпали. Мать Мелитина спустилась с верхних нар и пошла к бачку пить, но в этот момент эшелон начал резко тормозить. Ее ударило о стойку, и это спасло: за деревянным бруском, к которому крепились нары, была раскаленная печь…
Поезд остановился, и в вагоне сразу запахло дымом. Послышались страшные крики за торцевой стенкой и шорох огня, похожий на шелест осиновых листьев. Женщины повскакивали, а некоторые лишь приподняли тяжелые головы и вновь окунулись в сон. Вдоль состава забегали, кто-то открыл и откатил дверь.
– Прыгайте!!
Женщины валом ринулись в дверной проем, закувыркались под высокий откос. Чьи-то руки вытолкнули мать Мелитину, и снежный вихрь, закружив, понес куда-то вниз. Она вскочила, сметая снег с лица, и увидела, что горит соседний вагон. Проламывая охваченные пламенем стены, оттуда прыгали живые факелы и, скатываясь, оставались неподвижными, словно дымящиеся головни разметанного костра. Мать Мелитина бросилась к ним и стала тушить на человеке шающую одежду. Но огонь, спрятавшись в ватнике, вырывался и вспыхивал вновь. Тогда она сорвала ватник, вытряхнула человека из огненной одежины. Человек закричал и пополз, вбуравливаясь в снег. Мать Мелитина подскочила к следующему, катающемуся как шар, но, обезумевший, он отбивался от нее руками и ногами, и пришлось навалиться на него телом, чтобы вдавить в снег. Выворачивая фуфайку, она стащила ее через голову, и человек затих, оказавшись голым.
В горящем вагоне оставались те, кто уже не мог прыгнуть. Женщины и охрана метали снег в огненное чрево, а от деревеньки за насыпью бежали люди с баграми и лопатами. Состав расцепили, паровоз откатил передние вагоны вместе с горящим, затем отцепили и его. Охваченный пламенем, он остался стоять на пути, словно огненный столп. Люди тушили снегом, но горячий ветер отметал легкий снег, и лишь комья его долетали, испуская клубы пара. Стенки вагона осыпались внутрь, и на глазах у обезумевших людей вагон превращался в костер на колесах, очерченный черной решеткой стального остова. Снег полетел гуще, пожар угас, задымился, и через несколько минут в морозное небо уперся радужный столб, свитый из черных, белых и сизых косм.
А мать Мелитина, сбивая огонь с очередного человека, вдруг глянула в его лицо и оглохла на миг. Разом оборвался ор и треск пламени, и в ушах зазвенел жаворонок. Перед ней был Андрей! Упав на колени, она подняла его голову, вглядываясь в обожженное лицо, однако охранники оттолкнули ее, схватили пострадавшего и понесли к вагонам.
– Куда?! – закричала она, устремляясь следом.
И наткнулась на мертвого, с обугленными ногами. Нет, вот Андрей! Вот он! Сгребая обгорелые лохмотья, она очистила лицо… Да это же Саша! Сашенька!!
– В вагон! Всем в вагон!! – кричал разгоряченный пожаром охранник, сталкивая женщин к вагону. Эшелон вновь сцепили, но черная прореха с дымным столбом зияла в его середине как пустая глазница.
Стрелки выхватили из рук матери Мелитины мертвого, потащили его волоком к сгоревшему вагону. А она, оглушенная, осталась стоять на снегу, усеянному черными обрывками тряпья, и жаворонок заливался над ее головой, будто серебряный колокольчик.
Потом налетел ветер и понес людей к составу. Белая поземка, смешанная с обгорелым тряпьем, потянулась, поползла над сугробами, и сломавшийся дымный колосс, прижатый небом, развеялся по земле.
– Доченька, возьми… Возьми, доченька…
Древняя старушка в нагольном полушубке подавала ей хлеб, завернутый в полотенце.
– По вагонам! – доносился суровый крик. Призывно свистел паровоз.
– Бери же, бери, страдалица, – старушка толкала хлеб в руки.
Мать Мелитина взяла его, прижала к груди и побрела к сгоревшему вагону, оставляя за собой дымный след: незаметно шаяла пола ватника. Но стрелки, загружающие мертвых в черное нутро вагона, оттолкнули ее, погнали на место. Через минуту эшелон вздрогнул, железный лязг и судорога пробежали от головы до хвоста, заскрипели, закричали промороженные рельсы. И лишь когда состав набрал скорость, укачивая возбужденных пассажиров, мать Мелитина пришла в себя, будто очнувшись от тяжкого сна. Она скинула ватник, затоптала тлеющую полу, и если бы не эта частичка огня, принесенная с пожара, и не черные, обожженные руки, ей бы так все и чудилось грезами. Однако темный ржаной каравай, испеченный на поду и обернутый холщовым полотенцем, как бы связывал явь и сон. И теперь наяву оставалось лишь исполнить то, что было обещано во сне…
* * *
Благословенна земля – Карелия!
И стоило жизнь свою беречь ради пути страдника, в края эти приведшего! Если есть на земле уголок, место милостью божьей – вот оно, ибо красоту такую не способно творить руками человеческими. Разве не сон, не видения чудные – храмы без крыльев, а парящие, без позолоты, а сверкающие? Вот где царство дерева, вечного, нетленного и всегда обновленного!
А сама земля? Худому глазу привидится, и пройти-то здесь нельзя, все камень, мхи да болота; тяжелым ногам и ступить некуда – больше воды, нежели суши. Омраченной душе покажется, будто Всемирный Потоп лишь вчера только схлынул и нельзя здесь еще жить человеку. Да, верно, земля эта от сотворения мира оставлена, какая есть, и не ходить по ней завещано – летать, ровно птице.
Но, свергнутые с небес, шли люди пешими. Гнали этап по буранной дороге от Медвежьей Горы на речку Повенчанка. Стадами шли «женихи» и «невесты», и венчали их не короной и молитвою – злобным матом да лаем собак. А то вздумается пастырям забаву устроить, погонят они мужскую колонну сквозь женскую – дорога узкая, не разминуться, – и начнется толкотня да бесстыдство, словно у скота. Одни женщины отбиваются из последних сил, другие же, напротив, кидаются мужикам на шеи. И мужики тоже всякие. А как сойдутся охотники с той и другой стороны – так бы сквозь землю провалиться, чтоб не смотреть, как скотинятся люди.
Мать Мелитина не одна шла – соединились втроем, взялись под руки, прижались плечами, словно товарки на гулянье, да так и прошли всю дорогу. В Медвежьей Горе, где сортировали этапы, увидела она инокиню среди мирских, протолкалась к ней, и обнялись они, как родные сестры. Тем временем третья их сама нашла, прибилась из другого эшелона, и не было более радостной встречи! Сестер звали мать Анастасия и ту, что помоложе всех, – мать Агнея. Она и впрямь агнцом была, умывалась слезами, жалась к матери Мелитине, словно защиты искала под крылом. Сестру же Анастасию мучила болезнь в суставах, и, ослабшая на этапе, она двигалась трудно, со скрипом в руках и ногах. Постояли они так, обнявшись, благословили друг друга – и будто силы прибавилось. Пока сортировали народ, пока гоняли его по загонам охрипшие от мата начальники, сестры молились лишь об одном – чтоб не разлучили их, не развели по разным местам. Однако женщин стабунили, собрав со всех этапов, и, на ночь глядя, повели метельной дорогой. Шли они сумерками, потом темной ночью брели невесть куда: дороги не видно, снег да лес кругом. Утомились сестры, а роздыха нет, и конца пути не видно.
– Не могу больше, – призналась сестра Анастасия. – Положите меня да руки сложите, умереть хочу.
– За веру, сестра, мучают, идти надо, – сказала мать Мелитина. – Коль мы не пойдем, как же народ-то за нами?..
Уж и солнце восстало над землей, и метель улеглась на заре, а они все брели, взявшись под руки. Сестра Агнея белее снега шла, последнюю кровинку высосала дорога, и голова падала временами на грудь, моталась по сторонам. Взяли ее сестры в середину, подперли плечами и повели.
– Помните, помните, – шептала мать Мелитина одеревеневшими губами. – За веру… Нас не ведут, мы сами, сами идем!
К полудню они вышли к реке Повенчанке, на которой стоял лагпункт. Но не увидели ни реки, ни людей, ни самого лагпункта. Растворилось перед женщинами черное жерло барака и поглотило их, насмерть измученных.