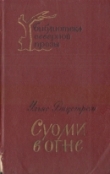Текст книги "Крамола. Книга 2"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Деревнин взвел еще раз, и выстрел настиг Голева уже в проеме двери. Истошно завизжала Зинаида… Голев рухнул на порог и умер мгновенно: пуля попала в затылок.
– Убийца! – кричала Зинаида, стараясь поднять Голева. – Убийца!!
Деревнин, не глядя, трижды выстрелил, и крик оборвался. Спрятав револьвер, он вышел на кухню, выпил водки из голевской баклаги и, не скрываясь, покинул дом. Кобель на цепи проводил его лаем, но замолк, стоило лишь перескочить заплот.
Все опять было тихо, по-утреннему сонно. Торопиться уже было некуда, и Деревнин шел не спеша, даже лениво, только рука в кармане все еще судорожно сжимала револьвер и палец дергал спусковой крючок. Он наконец начал ощущать опьянение. Может, водка у Голева была крепче. И мысль, застрявшая в голове, стала какой-то спокойной и вызывала удивление. «Гляди-ка, отсырел патрончик, – думал он. – Все целые, а один отсырел. А на вид ничего, светлый, и даже зелени не проступило…»
Почему-то он очутился возле кладбищенской ограды, во многих местах проломленной и разобранной на кирпич и железо. Деревнин обрадовался – вот самое подходящее место! Только зарыть будет некому. А было бы кому, так сроду никто бы не узнал, где он лежит… Он проник сквозь брешь за ограду и по пояс утонул в сохнущей, но еще зеленой траве. Обветшалые кресты и замшелые камни стояли плотно и тоже чем-то напоминали сохнущие, погибающие растения. «Подходящее место, – еще раз подумал он, озираясь. – Все равно жить нельзя. И не стану, не хочу… Обманул, гад, холостые – сказал».
Он побродил между могил, читая надписи на камнях и стараясь понять смысл эпитафий, но все пролетало мимо, и даже слова не запоминались. Хмель освободил голову для самого главного – отыскать укромное местечко среди покойных и уйти в «мир вечный», как писалось на надгробиях. Деревнин остановился возле маленькой железной часовенки в кованых узорах, заглянул внутрь сквозь разбитое окно: могилка ухоженная, скамейка – уютно… Он обошел часовню вокруг, отыскивая вход, и неожиданно спиной ощутил, что неподалеку стоит человек. Замерев на миг, он обернулся…
Есаульская плакальщица старуха Немирова стояла над своей собственной могилой, высеченная из белого мрамора. Скульптура была выполнена хорошим художником: и каменная, старуха, казалось, оплакивает мертвых. Памятник этот поставил ей дальний родственник еще во времена НЭПа. После смерти у Немировой обнаружилось много денег, и счастливый наследник расстарался на мрамор.
Деревнин подошел к литой оградке, рассматривая плакальщицу, затем проник к могиле через калитку и присел на мраморную скамью.
«Вот тебе самое место, – решил он. – Не закопают, так хоть будет кому плакать…»
– Я сегодня людей расстреливал, – сказал он с удивительной легкостью то, что даже мысленно боялся произнести. – Меня заставили… Нет, не заставили, а все подстроили так, что расстреливал. И еще обманули. – Деревнин хотел заглянуть старухе в глаза, но опущенные веки мешали. – Отказаться‑то нельзя!.. Если стрелок, значит, стрелять должен… А перед этим напоили. По два стакана поднесли. Мы с Летягиным еще радовались, что даром подали…
Он достал револьвер, вытолкнул стреляные гильзы и патрон с осечкой, долго разглядывал его, близоруко поднося к глазам, потом с силой забросил их в могильные заросли.
– Никому бы не сказал, а тебе говорю… В спецкоманду нарядили, а я слышал о ней, да не верил, – продолжал он. – Стреляют на скотном дворе, так, говорили, молодых обучают… А людей к яме с завязанными глазами приводят. Приведут, поставят, и тогда нас выводят, винтовки уже заряженные стоят. И мы ничего, выходим, только друг на друга боязно смотреть. Стоим, будто все чужие… Потом даже никто не вспоминает, что на скотном делали. Будто и не было ничего.
– А Голева я убил, – признался он. – И вдову эту, что с ним жила… Ее-то не за что было, да кричала мне… А его за дело! Это он меня довел… Он!
Деревнин заплакал, съежился, сползая со скамьи на мраморные плиты. Он нащупал рукой сердце под шинелью, расстегнул крючки и приставил ствол револьвера. Сердце было крепким, билось мощно, отталкивая от тела оружие. «Хоть бы осечка получилась, – вдруг пожелал он. – Может, и другие патроны отсырели…»
Он вдавил ствол в тело и держал так его, пока не занемела неудобно вывернутая рука с револьвером. Деревнин отнял ее и, заплакав сильнее, в голос, пополз по плитам вокруг могилы. Притулился у подножия памятника, скорчился и поискал рукой сердце. Он щупал левую сторону груди – выше, ниже соска, щупал середину и правую сторону. Сердце не билось. В пустой груди было непривычно тихо, как у покойного.
Деревнин подтянул ноги к подбородку, сжался, будто зародыш в чреве матери, и затих.
Плакальщица склонилась над ним, и над кладбищем поплыл ее тоскливый, высокий голос…
* * *
Деревнин проснулся от того, что кто-то легонько тянул его за полу шинели и приговаривал:
– Вставай, сынок. Не дело на камнях спать-то. Не лето, эвон зазимок порошит.
Он сел и увидел перед собой старуху в нагольном полушубке и валенках. Были сумерки, и шел мелкий, хлесткий снег. Деревнин привычно ощупал себя, отыскивая очки, но тут же забыл о них, наткнувшись на стылый револьвер.
– Почему я здесь? – хрипло, простуженно спросил он.
– Бог знает, почему, – в тон ему ответила старуха. – Вставай, ведь насмерть зазяб, поди…
Деревнин подобрал буденовку, насадил ее по брови и встал, дрожа от холода.
– Ты что здесь делаешь? – спросил он старуху.
– За могилками смотрю, – охотно сказала она. – Перед зимой убрать надо… Нынче ведь совсем за кладбищем не глядят. А если за мертвыми присмотра нет, за живыми подавно. Сор да трава, трава да сор.
Старуха взяла голик и стала выметать палые листья от подножия памятника. Ветер со снегом рассыпал, рассеивал намет, а она терпеливо и старательно мела вновь и не жаловалась, хотя ей было холодно, да и вечер синел все гуще, склоняясь к ночи. Деревнин перескочил оградку, поднял воротник шинели и потрусил по булыжной дорожке к кладбищенским воротам.
Он бежал и мечтал сейчас лишь об одном: забраться в теплую постель, выпить горячего молока, поданного матерью, и, расслабившись, уснуть. Однако когда он разогрелся, вдруг ощутил приступ голода, тошнота подкатила к горлу.
– Стой! – окликнул кто-то, и Деревнин разглядел перед собой двух милиционеров с наганами в руках. – Документы?
Луч фонаря ударил в лицо. Деревнин прикрылся рукой.
– Вроде свой, – сказал милиционер.
– Все равно, показывай документ! – скомандовал другой, с фонарем.
Деревнин вынул служебную книжку. Милиционеры сверили фотографию, вернули документ.
– Что случилось? – спросил Деревнин. – Сроду не проверяли.
– Не слыхал, что ли? Контрреволюционный террор, – пояснил милиционер с фонарем. – Убит работник ГПУ. Ну, будь здоров.
Деревнин откозырял и потрусил дальше. Голод стискивал желудок, и он теперь жалел, что не спросил у милиционеров хлеба. Наверняка есть с собой, дежурство у них на всю ночь, а в такой холод не шуба греет, а хлеб…
Он прибежал к своему дому и в калитке чуть не столкнулся с матерью.
– Живой?! – заплакала она. – Господи, что я только не передумала…
– Маменька, с голоду умираю, – взмолился Деревнин. – Дай поесть!
Она ввела его в дом, усадила за стол, а сама от радости так растерялась, что не сразу могла достать из печи борщ, и все хваталась то за веник, то за тряпку, чтобы вытереть столешницу.
– Есть! Есть хочу! – взывал Деревнин. – Маменька, есть!
Мать опамятовалась и собрала на стол. Деревнин схватил тарелку и, обжигаясь, стал есть борщ, хлебая через край. Он с храпом откусывал хлеб, почти не жевал и давился с каждым глотком. Мать глядела с ужасом и все подавала, пихала в его руки ложку. Деревнин ничего не замечал и не слышал, пока не опустела тарелка. Вторую он ел уже не торопясь, ложкой, а мать вздыхала, приговаривала:
– Страх-то какой, господи! Говорят, обоих сразу и убили. Так друг на дружке и лежат, горемычные. А он-то – твой начальник! Ну, думаю, и тебя где-нибудь тоже… Вышла в дровяник – все перевернуто. Аж обмерла: видно, и у нас что-то искали. А может, тебя дожидались. Водку там оставили и колбасу. Сразу видно – продукты чужие.
Деревнин дохлебал вторую тарелку и отвалился к стене, осоловело прикрыл глаза.
– Спать, маменька…
В это время пришел отец. Верхнюю одежду он оставлял в сенцах, однако запах выгребных ям, пропитавший отца с ног до головы, въевшийся в кровь и плоть, источался теперь из его тела и заполнял весь дом. Поэтому отец, чтобы не портить воздух, по своей воле переселился в холодную кладовую и жил там среди пустых сундуков, побитых молью тулупов и прочей ненужной рухляди. А сегодня он переступил порог жилого дома лишь для того, наверное, чтобы удостовериться, что у него есть сын и он пока жив. Правда, он заходил и раньше, но лишь для того, чтобы сообщить, что интересного найдено в выгребных ямах – колчаковские деньги, мертворожденные или придушенные младенцы, иконы, ржавые револьверы, золотые монеты царской чеканки и прочие отходы современной жизни.
Мать отвела Деревнина в постель, раздела его, уложила и принесла стакан теплого молока. Но сын уже спал с умиротворением на измученном лице. Тогда она поставила молоко на тумбочку рядом с кроватью и, погасив свет, задернула шторы на окнах.
Молоко было жирное, и к утру в стакане поднялись сливки в палец толщиной. Проснувшись, Деревнин в три глотка осушил стакан и, вскочив, начал одеваться. Он вспомнил наказ начкара Голева прийти пораньше, чтобы повести каэров копать новую яму у забора на скотном дворе монастыря. Он даже не стал завтракать и, натянув отчищенную шинель, выбежал на улицу.
По дороге к монастырю он встретил стрелка Летягина. Когда они попадали в одну смену, то ходили на службу вместе.
– Слыхал? – первым делом спросил Летягин.
– Слышал, – ответил Деревнин.
– Да я не про то, – шепотом заговорил стрелок, дыша горячо и парно. – Кто его кончил и за что? Во, брат! Монархисты!
– Да?
– Ага!.. Достали тут и кончили. Говорят, давно за ним гонялись, а его переводили с места на место. – Летягин захлебывался от волнения и мороза. – Нашли и порешили. Рука длинная… Он ведь, Сидор-то Филиппыч, участвовал в расстреле царской фамилии.
– Неужели? – изумился Деревнин.
– Законно! Вчера чекисты весь город перевернули, сорок девять человек арестовали, – сообщил Летягин. – Кто раньше в монархической партии состоял – всех. Ихних рук дело!
– Нет, это я его, – признался Деревнин.
Летягин засмеялся, потом доверительно сказал:
– Знаешь, у меня тоже были моменты… Истинный бог, шлепнул бы – глазом не моргнул. А вот во вчерашнюю ночь я в нем совсем другого человека увидал, – он перешел на шепот. – И мнение изменил. Слышь, когда мы на скотный пошли… Это самое… Он мне шепнул, не бойся, говорит, я тебе холостые зарядил. Понял? Во какой человек был!
Деревнин засмеялся, запрокидывая голову назад. Буденовка слетела и, подхваченная ветром, понеслась купаться в первом зазимке. А Деревнин все хохотал и вытирал слезы. Летягин тоже, увлеченный чужим весельем, засмеялся, и когда они наконец успокоились, то оба заспешили и прибавили шагу. Попутный ветер подталкивал в спины и заносил следы…
8. В год 1920…
В пяти верстах от Березина возница остановил коня и, тяжело выбравшись из брички, взял под уздцы и развернул экипаж назад.
– Все, гражданин, приехали.
Дремавший на сиденье человек вздрогнул и огляделся. Кругом был лес, охваченный смутной еще дымкой молодой листвы, пели птицы, и туманное, бельмастое солнце, едва просвечиваясь, согревало лицо, будто остывающая печь.
– Где же село? – растерянно спросил он, наугад отыскивая ручку саквояжа.
– А ступай по дороге, – охотно и несколько суетливо объяснил возница. – Отсюда недалече. Во‑он гора виднеется! Там баре жили. А под горой сама деревня.
– Я заплачу! – взволнованно пообещал человек и стал шарить во внутреннем кармане. – Сколько попросите, заплачу!
– Э-э, нет! – возница забрался на козелки. – Далее мы не ездим. Тут у них караулы стоят. Пальнут из лесу, и деньгам не рад будешь. Ноне жизнь человеческая – копейка. За коня, за тяжелое колесо убивают… Да и хода нету далее. Погляди вон, экий завал-от на дороге! Ни пешему, ни конному.
За дорожным изгибом виднелась темная стена нагроможденного леса, чем-то напоминающая речной залом. Человек окончательно растерялся, неуклюже сошел на землю. Возница того и ждал: понужнул коня, и, отъехав на десяток сажен, остановился, сбил кнутовищем картуз на затылок.
– Если жутко одному идти – садись, назад увезу.
Человек промолчал, тоскливо поглядывая то в одну сторону, то в другую. Было ему лет тридцать, но воспаленные от бессонницы глаза, обветренная кожа на лице и неухоженная, разросшаяся по щекам бородка старили его, придавая вид усталого, измученного болезнью человека. Одет он был по-барски, в тройку и легкое пальто из дорогого сукна, но и тут все портила несвежая, с серым воротом, сорочка.
– Что же вы сразу не сказали? – укоризненно спросил он. – Мы же договаривались до села!
– Ты уж уволь меня, гражданин, – виновато сказал возница. – Ты-то один, а у меня ребятишек полна изба, и все на моей шее. Подумать, дак ноне одному сподручнее жить. Убьют, и сиротства не прирастет.
– Нет-нет, вы не поняли! – заторопился человек. – Я родственников ищу. И могилу отца. Мне сказали, будто он в Березине схоронен. Мы бы с вами сходили, и если нет никого – сразу назад.
– А куда ж я коня с бричкой дену? – обескуражился возница.
– Оставим… привяжем здесь…
– Ну и сказанул! – засмеялся тот. – Пока мы ходим туда-сюда, от коня моего след простынет. Вы, часом, не больной ли?
– Нет, я здоров… Я сам доктор… В таком случае, подождите меня здесь! – нашелся доктор. – Если я найду кого-нибудь – обязательно дам вам знать. И заплачу!
Возница слез на землю и стал распрягать коня. Доктор подскочил к вознице, приобнял за широкие, покатые плечи:
– Благодарю вас, дорогой вы мой… голубчик! Я скоро! Бегом побегу!
Похоже, засеку на дороге делали зимой: хвоя еще не успела пожелтеть, хотя пни и сколы уже посерели, вымокнув в талом снегу. Нагромождение елей и сосен поднималось вверх на высоту сажени, а влево и вправо от дороги просматривалась широкая просека и неровный, изломанный завал леса, уходящий в глубь тайги.
Что-то пугающее и безумное было в этом зрелище. Веяло древностью, глубокой стариной времен татаро-монгольского нашествия, когда на пути конниц ставили лесные засеки. Теперь же неестественный этот рубеж, казалось, сотворен здесь не для защиты, а для разделения времен, и стоит перейти его, как окажешься в другом веке или даже тысячелетии.
Приехавший на бричке доктор несколько минут стоял у засеки в неловком оцепенении, затем вспомнил, что следует спешить, и стал карабкаться через завал. Он взобрался на его вершину, сел верхом на толстую сосну и хотел уже перебросить ногу, но заметил в хвое туго натянутую веревку. Отчего-то озноб побежал по спине. Доктор осмотрелся и отпрянул назад, за сосну. Огромный кедр, накрененный к дороге, удерживался этой веревкой с помощью деревянных распорок, замаскированных в ветвях. Перебарывая холодящий страх, доктор спустился вниз и пошел вдоль засеки. Лезть в завал теперь было опасно, чудилось, будто подпиленные столетние сосны вот-вот рухнут, стоит лишь тронуть сучок или шевельнуть ногой хвою. Больше пугало то, что засека была свежей, и представлялось, как люди совсем еще недавно подваливали здесь деревья, настораживали ловушки – и не для зверя, нет! – на людей! Что же заставляло их, что двигало? Почему они решили отгородиться рубежом и от кого?
– Зачем это? Зачем?.. – шептал доктор, глядя на хаотичное сооружение слезящимися глазами. Он ушел уже достаточно далеко от дороги, но засека не кончалась, и приходило ощущение, будто она тянется бесконечно, как китайская стена. Он загадал: если сейчас поднимется на взгорок и не увидит конца завалу, то повернет назад, ибо бессмысленно идти дальше, как бессмысленно обходить реку. Повернет или попробует рискнуть перейти рубеж. Не может быть, чтобы по всей необъятной длине засеки наставлены западни.
Доктор взобрался на невысокий холм и заметил вдалеке лесной прогал, как если бы там текла река. Просека достигала его и там обрывалась. Он прибавил шагу и скоро очутился на берегу узкого овражного истока, по которому журчал ручей. Придерживая полы пальто, он спустился вниз и напился, черпая воду ладонью. Выбившаяся из недр вода хранила земной холод и чистоту, напоминая этим освященную крещенскую воду. Доктор вынул платок, промокнул усы, бородку и глянул вверх…
Возле оставленного на берегу саквояжа стоял мужик с винтовкой наперевес и, жуя калач, купленный доктором в Есаульске, манил рукой. Доктор недоуменно замер с платком у рта.
– Иди сюда, – позвал мужик с набитым ртом. – Кто такой?
Доктор выбрался на берег, отряхнул руки, неопределенно пожал плечами.
– Человек…
– Вижу, что не птица, – мужик поставил винтовку, сунул калач в карман драного полушубка. – Куда шел?
– В Березино…
– Ремень есть? – деловито спросил мужик. – На чем штаны носишь?
Доктор прижал руки к пояснице, отрицательно мотнул головой.
– У меня подтяжки…
– Сымай, сгодятся.
Нетвердыми руками доктор отстегнул пуговицы, вытащил подтяжки из-под жилета. Мужик отставил винтовку, взял их и, приказав стоять смирно, начал вязать руки. Завязал крепко, со знанием дела, вложил в ладонь ручку саквояжа и крикнул в небо:
– Ленька-а!
Откуда-то сверху, наверное, с наклоненной сосны слетел парень, в длиннополой шинели без хлястика и с винтовкой со штыком, попросил:
– Дай калачика?
Мужик молча добыл из кармана кусок калача, подал Леньке.
– Проводи вот гражданина… Да, смотри, живого, не играйся.
Доктор вдруг опомнился, потянулся к мужику.
– Мне нужно спешить! Понимаете?.. Я обещал вознице, он ждет на дороге. Пожалуйста, не задерживайте меня.
– Как же тебя не задерживать, когда ты границу нарушил? – удивился мужик и откусил калача. – Топай давай, подождет твой возница.
– Какую границу? О чем вы?
– Чего прикинулся-то?.. – недобро заметил мужик. – Границу Партизанской Республики красных воинов нарушил. Какую…
– Ну, иди, грешный, – велел Ленька и поднял винтовку. – Ступай по бережку, да смотри не оглядывайся. Иди, будто на Суд Божий.
Доктор послушно двинулся вдоль оврага по едва заметной под прошлогодней листвой тропинке. Солнце высвободилось из тумана, светило в лицо, играла в его лучах свежая зелень, щебетали над головой птицы, и все – засека, люди с винтовками и связанные руки – казалось неприятным болезненным сном. Краем глаза доктор видел, как конвоир Ленька срывает медуницу и, не содрав кожицы, пихает в рот, чавкает, хрупает стебли вместе с цветами и покряхтывает от удовольствия. Так они прошли с полверсты, и доктор наконец решился заговорить.
– Куда же вы ведете меня, любезный? – спросил он, не оборачиваясь.
– Ишь ты! – удивился Ленька и перестал жевать. – Я его под ружьем веду, а он – любезный!.. Может, на небо веду, дак все равно любезный?
– Если на небо, так вы не просто любезный, – попытался пошутить доктор. – Вы – ангел.
– Ангел! – отчего-то возмутился Ленька. – Я давно уже не ангел, а архангел!
– Простите, архангел… – поправился доктор. – Куда же вы меня?..
Ленька забежал вперед и вдруг сунул в рот доктора мясистый стебель медуницы.
– Жуй! Жуй, говорю!
Пришлось съесть медуницу. Во рту стало терпко и сладко. Ленька удовлетворенно хмыкнул, взял винтовку на ремень.
– А ты не шпион? Не лазутчик?
– Нет, я доктор, лекарь, – пояснил доктор. – Шел в Березине Там жили мои родственники. Может быть, знаете, Березины?
– Березины? Как не знаю? Знаю! – засмеялся Ленька. – Токо я их всех уж прибрал да на небо отправил.
– То есть как? – насторожился доктор.
– Да так, сопроводил на тот свет да и все. Один токо и остался, ходит еще где-то, живет, – в голосе Леньки послышалось недовольство. – Как Бог кликнет, так и его доставлю.
Доктор поднял глаза и впервые столкнулся взглядом со своим конвоиром. Захотелось защититься рукой, но руки связаны…
Ленька же беззаботно сорвал длинный стебель черемши, понюхал его и стал есть. Тропка вдруг резко отвернула от оврага и потянула в глубь леса. Доктор на мгновение замешкался и все-таки ступил на тропу, хотя ожидал услышать от конвоира команды идти берегом.
– Вишь, и тебя Бог пока не зовет, – заметил Ленька. – Знамо дело, нужон еще, срок не вышел. Которых зовет, дак тех оврагом тянет идти.
«Что это? – вдруг подумал доктор. – А он и вправду архангел! В облике человеческом… Какие глаза… Спас – ярое око…»
Он откашлялся, чувствуя, как пересыхает в горле, и неуверенно начал:
– Послушайте, а вы уверены, что Березиных не осталось?..
– Чего это ты мне выкаешь-то? – неожиданно рассердился Ленька. – Невзлюбил, что ли? Не по нутру я тебе?
– Нет-нет, я люблю… люблю тебя, – переборов язык свой, выдавил доктор.
Ленька расхохотался и присел среди тропы.
– Ой!.. До чего ж трусливый народ! Слова поперек не скажет!.. Люблю!.. Да любить-то бабу токо можно! И Боженьку!
Он ползал на четвереньках по земле и надрывался от смеха. Винтовка спала с плеча и валялась в прошлогодней траве; можно было бежать, но доктор стоял, прислонившись плечом к березе и со знобящим чувством вслушивался в нездоровый хохот.
Наконец конвоир со стоном и вздохами поднялся на ноги, подобрал винтовку и, волоча ее за штык, продолжал всхохатывать, пугал птиц и сотрясал вечереющее небо. Доктор шагал впереди и уже боялся что-либо спрашивать. Тем более, лес постепенно разредился, потянулись старые вырубки и сквозь полуголые кроны берез отчетливо проступил холм с остатками жилища. Тропа под ногами незаметно превратилась в дорогу со старыми тележными колеями и скоро, вывернувшись из молодняка, круто пошла в гору. На холме возле полуразрушенной печи стояла сторожевая вышка, сколоченная из жердей, а на ее площадке, под берестяным грибком, стоял человек и смотрел в бинокль. Заметив пришедших, он склонился над перилами.
– Кого поймали?
– Да родня, говорит, березинская! – откликнулся Ленька.
– Да ну?! – изумился сторож. – Быть такого не может!
– Я тоже думаю, – согласился Ленька. – Врет. Не похожий он на березинских, хоть и говорит, что любит. Любят-то не та-ак!
– Ну, волоки его в штаб, – посоветовал сторож. – Похоже, лазутчик переодетый.
– Батька-то тама?
– Да вроде не проскакивал никуды!
– Айда, грешный, – Ленька вскинул винтовку. – Батя мой все по душе решает да по совету моему. Ежели ты не шпион и не колчаковец переодетый – помилует. Он уже двух недавно помиловал, отпустил.
От вершины холма вниз и вдоль старой поскотины тянулись недавно отрытые окопы и траншеи, а по улице, поднимая пыль, маршировала колонна вооруженных людей. Качались примкнутые штыки, и веснушчатый командир на рыжем коне отсчитывал звучно и весело:
– Ать-два! Ать-два!
«Война, – вдыхая пыль, подумал доктор и передернулся. – Война… Все-таки не кончилась. Не кончилась…»
Над большим домом возле церкви трепетал на ветру красный флаг со звездой, а у ворот, возле пулемета, установленного на перевернутой кадке, слонялся часовой. Ленька ввел доктора во двор и толкнул штыком двери.
– Заходи, да шибко не ерепенься перед батей. Не любит он.
Доктор вошел в избу и встал у порога. За столом под кумачовой скатертью сидел человек неопределенных лет в военном кителе и буденовке с голубой звездой.
– Вот,бать, привел, – доложил Ленька. – На заставе поймали.
– Ну-ка, Лень, почеши спину? – попросил военный. – Зудится – спасу нет!
Ленька подтянул длинноватые рукава шинели, обнажив грязные с синими ободками ногтей руки и стал свирепо чесать спину сквозь китель. Военный блаженно закряхтел, прикрыв глаза, и, наконец, попросил пощады. Прислушался, не зудится ли где еще, и успокоенно расслабился.
– Давай, лети назад! – приказал он. – Не болтайся по деревне.
Ленька вынул из шкапчика ломоть хлеба, посолил его из хрустальной солонки и вышел. И через мгновение доктор услышал шумное всхлопывание на крыльце, словно поднималась в воздух большая и тяжелая птица. Он не удержался и сунулся к окну: на какой-то миг почудилось, будто над крышей кто‑то пролетел – огромная, черная тень пронеслась по земле.
– Не понимаю, – обреченно проронил он и замолк.
– Посол, что ли? – спросил военный, разглядывая доктора. – Отвечай быстро!
– Нет… я доктор, врач…
– Продотрядовец?
– Я же сказал – врач, лекарь…
– Колчаковец? Белый?!
Доктор растерялся, разжал ладони и выронил саквояж. Военный схватил его, раскрыл и вытряхнул содержимое на пол. Загремели инструменты, с шорохом рассыпались порошки из пакетов, а флакон с лекарствами выкатился на середину избы. Сбив буденовку на затылок, военный подбоченился и хмыкнул.
– Я доктор, поверьте мне…
– А за каким хреном поперся через границу? Не видал, что ли?! – вдруг разгневался военный. – Собери свои шмотки!
– У меня руки связаны, – сказал доктор.
Военный стал развязывать руки, а доктор, пользуясь возможностью, пояснил:
– Родственников ищу… Моя фамилия – Березин…
– Березин?! – военный отшатнулся, заглянул в лицо и, так и не развязав рук, уселся на высокий мягкий стул с засаленной бархатной обшивкой. – Который Березин? Я всех знаю…
– Михаил, – признался доктор и осекся.
Военного подбросило, лицо вытянулось. Затем широкий лоб его взбугрился и наполз на глаза.
– Да я!.. Сам! – он потыкал пальцами себе в глаза. – Видал! Как его Анисим Рыжов! Самолично!.. – он потряс головой. – Нет, ты самозванец! Да и тот старше был! Полковник!
– Я вас понимаю, – доктор опустил голову. – Все-таки не зря шел. Скажите, где он похоронен?
– Кто? – опешил военный.
– Полковник Березин. Это мой отец…
– Во-он что-о! – пропел военный и, содрав буденовку, ударил ею об пол. – Значит, пришел на могилку глянуть? На могилку злейшего врага трудового народа и мировой революции?! А ведь похожий на батю своего! Похо-ожий… И нутром вы все одинаковые! То-то я гляжу и думаю – уж не спятил ли? Уж не блазнится ли… Дневальный!!
– Прошу вас не кричать на меня, – попросил доктор. – Я ни в чем не виноват. Я не участвовал в этой войне и не могу отвечать за отца.
– Не можешь, а ответишь! – военный сорвал с себя ремни, завернул китель на спине и повернулся к доктору. – Видал? Видал, спрашиваю?! За это и ответишь!
Вбежал дневальный – огненно-рыжий и нещадно веснушчатый паренек, пристукнул прикладом об пол.
– В амбар его, суку! – приказал военный, оправляя полы и сверкая гневными глазами.
– Слушаюсь, товарищ командующий республики! – отчеканил рыжий и показал штыком на дверь. – Арестованный, на выход!
Доктор пошевелил затекшими руками и, опустив голову, шагнул через порог…
* * *
Михаила Березина ввели в подклет большого общественного амбара, строенного еще дедом Иваном Алексеевичем, после чего тяжелая, без единой щели дверь затворилась и наступил полный мрак. Он не успел рассмотреть, что есть в подклете и велико ли пространство, и теперь, отрезанный от мира, стоял на окаменевших ногах и боялся сделать шаг. Чудилось, будто пола нет и впереди – бездна или, наоборот, глухая стена.
В пятнадцатом году, окончив медицинский факультет, Михаил Березин поступил в госпиталь и на целых пять лет канул в его стенах, будто в этот темный подклет. Там, на поверхности, бушевала война, потом революции и снова война, а он видел лишь бесконечную вереницу больных и раненых людей. И ничего больше. Люди страдали от ран и болезней совершенно одинаково, независимо от того, в каком катаклизме получали они те раны и болезни. Он не вникал в политику, происходящую там, наверху, равно как и политика не вникала в занятие врачей. Во всех войнах и революциях человек, умеющий спасать жизни и облегчать боль, напоминал нечто среднее между богом и человеком. «Спаси!» – кричали и умоляли его, будто высшего судию. «Помоги умереть! – взывали к нему, когда боль была невыносимой. Ему исповедовались, когда дело шло на поправку, у него спрашивали совета, и он принимал все и советовал; он желал всем жизни и только жизни, даже безнадежным, стоящим на краю гибели он сулил свет и добро. Ему было все равно, за какую власть этот человек, какой партии, каких убеждений. Все люди были равны перед ним, как перед богом. Он видел больное тело и страдающую душу: остальное на госпитальной койке не имело значения. Конечно, из разговоров среди больных, из исповедей и несвязного бреда он мог знать и понимать, что происходит „наверху“, однако умышленно не желал ни знать, ни понимать, и был чист и безгрешен в своем умысле. Врач, опустившийся до политики, переставал быть врачом.
Но вот закончилась очередная война. Он почувствовал это лишь по тому, как начал иссякать поток изувеченных людей. И сразу же в госпитале на разные лады, со всевозможными оттенками тона, словно бред у тяжелобольного, зазвучал вопрос: ты за кого? Он не хотел изменить своему принципу и опуститься до политики; он был за жизнь во всех ее видах и поэтому в один миг оказался за воротами госпиталя. И остался совершенно один. Без дела, без больных и без возможности утолить боль страждущих. Он хотел взять патент на частную практику, но снова спросили: ты за кого? – и, услышав ответ, отказали.
И тогда он впервые сказал про себя это слово – безумие…
Михаил ощупал ногой пространство впереди себя и опустился на колени.
– Прошу вас, развяжите мне руки. Кто может.
В углу завозились. Чьи-то ладони дотянулись до него, тронули плечи, лицо, опахнуло чужим дыханием.
– Доктор со связанными руками… Чудны твои дела, господи!
– Вы правы, – согласился Михаил. – Происходит что-то невероятное.
Невидимый человек развязывал ему руки, возился с узлами, и было слышно, когда он прикасался, как стучит сердце.
– Дураки, – буркнул кто-то из угла. – Ничего вы в жизни не смыслите.
– А вы считаете, что все в порядке? – спросил его человек, развязывающий руки. – И наше место в этом амбаре?
– Твое место в гробу! – прорычали из угла. – Интеллигенция собралась, мать вашу… Это вы народ довели! Вы ему мозги заквасили! Теперь – охо-хо-хо! аха-ха! Что происходит! Руки вяжут!.. Да вам надо было глотки всем перевязать! Еще в пятом году!
– Ты заткнись там, белогвардейская шкура! – ответил ему юношеский шепелявый голос. – Народ восстал сам, чтобы стряхнуть цепи рабства! И избавиться от вас, эксплуататоров и угнетателей!
Человек-невидимка распутал узлы и горячо зашептал:
– Давайте отползем в тот угол.
И повлек куда-то вправо. А скандал между тем нарастал.
Михаил нащупал ворох мякины у стены и сел.
– Они же сейчас станут драться, – сказал он с тревогой. – Их следует остановить!
– Нет, не подерутся, – шепотом ответил человек-невидимка. – Они каждый в своем углу на привязи сидят. А раньше дрались… У продкомиссара зубов нет. А он юный совсем… Чем всю жизнь жевать будет?