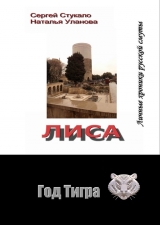
Текст книги "Лиса. Личные хроники русской смуты"
Автор книги: Сергей Стукало
Соавторы: Наталья Уланова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
То, что кого-то можно заставить «дружить» помимо его воли, стало для Валерки открытием. Неожиданным и неприятным.
* * *
Вскоре отец устроился на какую-то важную и нужную работу, и их жизнь стала понемногу налаживаться. Не сразу, шаг за шагом, они учились жить вместе: весёлые и темпераментные мать с сыном и немногословный, меланхолично уткнувшийся в книгу или газету отец.
Детям свойственно жить настоящим. Валерка сам не заметил как, стал с нетерпением ждать своего сурового родителя из его частых командировок, заготавливая для него целый ворох рисунков, чтобы изредка уловить скупой одобрительный кивок. Мальчик наощупь, по крупицам, собирал мозаику своего нового счастья.
В такие моменты Мария чутко замирала, надеясь, что их необъявленная домашняя война однажды выдохнется и, потеряв смысл, сойдёт на нет. Ростки тяжело рождавшегося взаимопонимания её радовали. Она облегчённо вздыхала и шла ставить тесто для вкусного пирога с бараниной, рисом, варёными яйцами и зелёным луком.
Пирог назывался «татарским». Кто его так назвал и почему – было совершенно непонятно.
* * *
Валеркиному счастью не было предела. В их дворе появились новые жильцы, и он, наконец, подружился по-настоящему. Его подружкой стала дочка новых соседей – красивая девочка с зелёными глазами и медно-рыжими локонами по пояс. В совершенно одинаковых, подвязанных веревочкой сатиновых трусах они, чумазые, как маленькие чертенята, целыми днями носились по двору. Они играли в прятки и пятнашки, делали куличики из песка, обливались водой из-под крана. Набегавшись и устав, осторожно поили друг дружку из сложенных пиалой ладошек. Так было и удобнее, и слаще. Напиться из руки друга – всегда вкуснее.
Были в их жизни и свои маленькие тайны, и специальные, совершенно особые слова. Странное и опасное слово «задидома» означало, что выбегать за пределы двора категорически запрещено. Впрочем, выбегать не особо и хотелось, ведь именно здесь, под росшим в центре двора раскидистым деревом был сосредоточен весь их мир и смысл их жизни.
Раскидистое дерево называлось «инжир» – второе странное и, похоже, очень обидное слово. Но, когда Валерка спросил мать, за что это дерево так обозвали, та только рассмеялась.
Впрочем, чему тут удивляться – взрослые часто смеются невпопад и без особой на то причины.
* * *
Красивую Валеркину подружку звали Галочкой.
Валерик и Галочка часами, сидя на корточках, наблюдали, как работают муравьи – без устали, без перерыва на обед и до самого захода солнца. Они приносили к муравейнику хлебные крошки и пытались помочь переносить этим непоседам их неподъёмные тяжести. Странные муравьи от помощи отказывались, тут же бросая «опороченную» посторонним вмешательством ношу и хватаясь за новую неподъемную крошку. Они прогибались под её неимоверной тяжестью, но упорно тащили свою ношу сами.
Как-то раз, когда ремонтировали крышу соседнего дома, взрослые ребята наделали смоляных факелов. Они воспользовались оставленным кровельщиками битумом и какими-то старыми, найденными в подвале тряпками. Один из факелов, уже зажжённый, вручили Валерке. Тот был горд неимоверно. Высоко подняв горящий факел в руке, он носился по двору, представляя себя каким-то мифическим героем, но вдруг остановился с разинутым ртом. Одетая в необыкновенно красивое платье к нему направлялась Галочка. Или его подружка сама по себе была такая умопомрачительно красивая, а платье тут было совершенно ни при чём? Как бы там ни было, оторопевший Валерка застыл и опустил руки, совершенно забыв, что в одной из них у него зажат горящий факел, а тот уткнулся в землю у его ног, оставив на ней несколько чадящих чёрным дымом липких смоляных капель. Когда девочка подбежала к Валерке, он убрал почти погасший факел за спину. Мало ли… Но его подружка вдруг резко отпрянула и закричала. Истошно и отчаянно. Никто не понял как, но её платье, а затем и волосы вспыхнули, словно были сделаны из пороха. Валерка тут же отбросил факел в сторону и начал сбивать с неё пламя. Прямо голыми руками.
То ли его усилия дали результат, то ли больше нечему было гореть, но вскоре пламя погасло.
Сбежались взволнованные взрослые, верещала, обсуждая произошедшее, малышня. Тут и там слышалось:
– Это Валерка, этот оболтус, её поджег! Валерка!
Папа Саша, вслед за остальными жильцами дома выскочивший на крыльцо, расстегнул ремень и в исступлении принялся хлестать сына по спине, по ногам, всюду, куда попадал. Пара ударов пришлась по голове.
Валерка вырывался и орал, безуспешно пытаясь оправдаться:
– Не виноват я! Не виноват! Пусти меня, сука фашистская, пусти! – после его слов ремень замелькал ещё быстрее, ещё безжалостнее.
Попытавшейся вступиться за сына Марии тоже досталось ремнём, и неслабо.
Двор наблюдал за происходящим молча. Не вмешиваясь.
– Ты мне не папа! Я всегда знал, ты – не папа! – заявил Валерка, вытерев невольные слёзы и отдышавшись. – Ненавижу! Когда вырасту – зарублю! Топором! – и рванулся прочь, увидав, как отец угрожающе шагнул, снова вытягивая из штанов заправленный было в них ремень.
Валерка бежал, не разбирая дороги, туда – в неизвестность за дворовыми воротами. Туда, где пряталось таинственное «задидома». Бежал, задыхаясь от подступающих слёз и обиды, но не плакал. Сдерживался.
Мимо медленно прогромыхал трамвай. Валерка ухватился за его железный приступок, запрыгнул на подножку и уселся на задней площадке. Прямо на металлической ступеньке.
Он ехал и думал, как ему теперь жить дальше.
К фашисту, называющему себя «отцом», возвращаться не хотелось, и он решил, что теперь будет жить один.
Было жалко маму и… обгоревшую соседскую девочку. Галочку…
Вспомнив о них, Валерка впервые всхлипнул и заплакал, нечаянно нарушив данную маме клятву никогда и никому не показывать своё горе. Правда, плакать он старался тихо, отвернувшись от нескольких случайных пассажиров. Чтобы не видели…
Трамвай ехал долго и, в конце концов, остановился на берегу моря. При виде открывшегося перед ним бескрайнего волнующегося пространства Валерка запаниковал и, не выдержав, всё же разрыдался, вместе со слезами выталкивая из себя боль и накопившуюся обиду. Но, не смотря на слёзы, боль и обида не уходили, плотно вцепившись, казалось бы, в самое его нутро. Только теперь Валерка почувствовал, как невыносимо болят обожженные руки, и саднит исхлёстанное ремнём тело.
На остановке какая-то толстая тётка с огромной кошёлкой с любопытством уставилась на чумазого заплаканного Валерку. Из тёткиной кошёлки торчала голова самого настоящего гуся. Гусь противно зашипел, и уставшему мальчику показалось, что толстая тётка шипит тоже – злобно и настырно. В унисон с гусем.
Обидевшийся Валерка мысленно обозвал и тётку, и гуся «дураками», отошёл в сторонку и уселся на обнажённые корни полузасохшей акации. Стоило ему устроиться на них поудобнее, как его тут же стало клонить в сон. Противиться этому состоянию не было никакой возможности. Валерка сполз с жёстких корней на холодный, но мягкий песок, и свернулся на нём клубочком. Ему снилось, что его осторожно берут на руки и настойчиво, раз за разом, задают какой-то очень серьёзный вопрос.
Интересовались Валеркиным именем и спрашивали, где он живёт, но что от него хотят – он понял не сразу.
Отвечать не хотелось, но беспокоящий его голос был очень настойчив.
– Я Валерик с улицы Полухина… Валерик с Полухина… Отдайте меня, пожалуйста, маме. Только маме! Маме из Полухина…
Болел он долго и тяжело. Ему постоянно снился один и тот же сон, в котором кто-то сильный сначала держал его на руках, а потом по ошибке отдавал не маме, а злому хромому фашисту в стальной каске и с гусём на кожаном поводке, похожем на ремень. Гусь, натягивая поводок, упрямо рвался к Валерке и лаял, и вскоре Валерка догадался, что это вовсе не гусь, а замаскированная немецкая овчарка. Не знавшая что ещё можно предпринять, отчаявшаяся Мария постоянно спрашивала бредившего Валерика, чего он хочет. Тот отвечал одно и то же – просил принести ему погоны со звёздочками и топор.
* * *
Во второй класс Валерка пошёл уже без мамы.
Последнее, что он запомнил о ней, были проводы на морвокзале.
Мама с огромным чемоданом подарков срочно уезжала в Ашхабад. К родственникам. Там кто-то женился или выходил замуж. А может, родился. Впрочем, не важно. Все знали, что её поездка была только предлогом.
Мария устала метаться между мужем и сыном, уговаривать, упрашивать, внушать, объяснять. Устав, она решила дать им возможность пожить какое-то время вместе. Без неё.
Валерка канючил, просил взять его с собой, но мама уже всё решила.
– Я тебе дыню привезу, Валерик.
– Здесь есть дыни. Не уезжай, мама…
– Они не такие, сынок. Здешние дыни – маленькие, круглые и совсем не ароматные. Наверное поэтому ты их и не ешь… А там они – длинные-предлинные и сладкие-пресладкие, словно медовые. Один ломтик съел и наелся. А через какое-то время опять хочется. Руки сами тянутся ещё взять…
Мама так вкусно всё это рассказывала, что Валерка, на дух не переваривавший местные дыни, заинтересовался.
– Тогда привези… Две. Или лучше три.
Он даже знал, кому подарит третью. Но две, две – съест сам!
После того как объявили посадку, Мария, по очереди отведя мужа, а затем сына в сторону, ещё раз проговорила им заготовленные бессонной ночью слова:
– Меня не будет, а вы берегите друг друга. Не ссорьтесь и не ругайтесь… Пожалейте меня ради бога… Вы же родные люди… Сделайте так, чтобы я уехала с легким сердцем. Пожалуйста.
И один, и второй, совершенно смущённые, пообещали ей жить в мире.
Паром медленно отходил от берега.
Валерка, поколебавшись, шагнул к отцу и просунул ладошку в его руку. Тот вздрогнул, словно его ударило током, но тут же легко подхватил сына и посадил его на плечи.
Мария это видела. В числе других отъезжающих она, красивая и улыбающаяся, долго махала им с палубы. Прощалась.
Палуба была высоко и никто не видел, что на самом деле Валеркина мама плачет, в который раз нарушая обещание-клятву, когда-то данную сыну. Плачет, и не может остановиться, ощущая, как вместе со слезами из её души навсегда уходят боль, страхи и то неимоверное напряжение, с которыми она жила несколько последних лет.
Мария чувствовала, что теперь у них, у отца и сына, всё будет хорошо.
Знать бы им тогда, что назад она уже никогда не вернётся…
На календаре значилось третье октября тысяча девятьсот сорок восьмого года.
Через три дня одно из самых страшных в истории человечества землетрясений унесло жизни ста шестидесяти тысяч человек. За несколько секунд старый город был разрушен, и стены его глиняных и саманных домов взметнулось в воздух страшным пылевым облаком. Сотни тысяч жителей Ашхабада в один миг потеряли своих близких.
Папа Саша в одночасье стал вдовцом, а маленький Валерка – сиротой.
От мамы в их памяти осталась её отчаянная просьба: «Меня не будет, а вы берегите друг друга…»
Похоже, что кто-то там, наверху, услышал эту просьбу и исполнил. Исполнил буквально.
Азербайджанская ССР, г. Баку. Начало шестидесятых
Прошли годы.
Мужчины научились жить вместе, исполнив данное любимой женщине обещание.
Её портрет висел на стене на самом видном месте.
С окаймлённой аккуратной стальной рамкой фотографии, спрятанной под бликовавшим на солнце стеклом, куда-то поверх их голов смотрела улыбающаяся Мария. По утрам просыпающееся солнышко играло на её устах легкомысленными зайчиками.
Каждое их утро начиналось с её улыбки.
Папа Саша так никогда больше и не женился. Он работал на износ, поставив целью своей жизни – дать сыну хорошее образование и выпустить в жизнь достойным человеком.
По воскресеньям, с самого утра, отец оставлял Валерку и уходил навестить престарелую мать. Иногда он задерживался там до утра.
Подросший Валерка учился в институте и считал себя совершенно взрослым и уже состоявшимся мужчиной. Через полчаса после ухода отца он закрывал ставни и занавешивал окна. После этого в комнату, «незаметно» для остальных жильцов, юркала замужняя соседка – знойная легкомысленная женщина.
В тот день отец почему-то вернулся с полдороги и застал воркующих голубков. То ли ему кто-то нажаловался, то ли он и в самом деле что-то забыл, – Валерка так никогда и не узнал.
Отец рванул дверь с такой силой, что удерживавший её створки хлипкий крючок разогнулся. Валеркин родитель стоял в дверном проёме злой, оскорблённый, с подрагивающим подбородком. Пауза перед предстоящей расправой явно затягивалась. Наверное затем, чтобы женщина смогла одеться и уйти.
Та, похватав одежду, незаметно удалилась.
Отец хлопнул ей вслед дверью и схватился за пояс, судорожно расстёгивая его некстати заевшую пряжку.
– Что за блядство? – с досадой отметил он то ли в адрес пряжки, то ли по поводу увиденного и, оглянувшись на портрет, осёкся. – Хотя бы в память о матери постеснялся здесь притон устраивать…
– Я её люблю! – не нашёлся с ответом Валерка.
– Чужую жену любишь? Сопляк! Сколько у тебя ещё таких жён будет?.. – отец рванул наконец поддавшийся ремень и, сложив его вдвое, шагнул к сыну.
Старая, уже забытая сценка из детства повторилась.
В Валерке что-то щёлкнуло и его повело…
Сильно оттолкнув отца, он метнулся к простенку и схватил топор. Детская обида всплыла откуда-то из глубин подсознания, словно чёрное облако, и накрыла его волной дремавшей все эти годы ненависти.
– Только попробуй!.. – но отец иронично сощурился и шагнул вперёд. Навстречу.
Штрафбат отступать не умеет.
– Только попробуй! – снова предупредил Валерка. – Зарублю!!!
Они стояли друг против друга, с остановившимися невидящими взглядами и были очень похожи в этот момент – ненависть делает людей похожими. Она даже умеет их сближать. Правда, для этого её, эту ненависть, надо пережить и преодолеть.
Постепенно разум начал возвращаться в их разгоряченные головы. Отец швырнул ремень Валерке под ноги, бесслюнно сплюнул, развернулся и ушёл. Валерка же, отдышавшись и придя в себя, с изумлением обнаружил зажатый в руке топор, не понимая, как тот в ней оказался. Накатили усталость и безразличие. Рука безвольно опустилась, топор из неё выскользнул. Падая, он больно ударил Валеркину стопу тяжёлым железным обухом. Валерка зашипел, но тут же забыл о боли.
Внутри болело сильнее.
…Людям свойственно придумывать вину там, гдё её нет, и раскаиваться в так и не реализованных мыслях.
Валерке не хотелось верить, что именно эта неприятная история положила начало как-то вдруг сразу развившейся болезни отца, но тот стал сдавать на глазах. Сильный и гордый человек за неполный год превратился в жалкого и склочного старика. Он часами сидел, сгорбившись и уставившись в одну точку, а если и разговаривал с Валеркой, то совершенно равнодушно, односложно отвечая только на заданный ему вопрос. Впрочем, чаще всего он эти вопросы просто игнорировал.
Валерка старался сдерживаться, не заводиться, но молодость – пора горячая и надолго его не хватало. Это уже потом нам становится стыдно за свои продиктованные эмоциями слова и поступки. Стыдно за всё. Даже за мысли и желания. Спустя годы многое захочется вернуть и изменить, сделать иначе. А пока…
Пока Валерка разрывался между учёбой и ночными дежурствами. Между проявлявшими к нему повышенный интерес красивыми однокурсницами и… больницей, куда накануне увезли отца. Он с утра ненадолго забегал в его палату, нетерпеливо высиживал на краешке стула положенные минуты вежливости и рвался из мрачных больничных стен на волю.
В то утро всегда сдержанный отец был не похож на себя самого. Он вдруг схватил Валерку за руку, потом долго шевелил губами, явно репетируя заранее заготовленную фразу, и вдруг выдал совершенно на себя не похожее:
– Валерик, я всегда тебя любил… Если что, ты прости дурака старого, за ради Бога… Не держи на меня зла, хорошо?
– Ну чего ты, пап… – смутился Валерка. – Не надо…
– Да нет, я так, просто… Ты бы принёс мне бутылочку минералки, а? Минералки хочется так, что хоть кричи…
– Сейчас, пап, я сейчас сбегаю… – засуетился перепуганный Валерка.
По пути ему попалась старая французская булочная.
Вдохнув аромат свежеиспечённой сдобы, Валерка поражённо застыл. Сводящий с ума запах, проникнув в глубоко в душу, всколыхнул давно забытое.
«Мама, купи булочку…»
Зайдя в булочную, Валерка купил обильно усыпанное сахарной пудрой сердечко и большую французскую булку. Эта покупка сразу же подняла ему настроение, и вызванная странным поведением отца тревога отпустила.
Отсутствовал он чуть более часа.
Минералки поблизости от больницы не продавалось, и отец это хорошо знал.
Когда Валерка вернулся, пить её было уже некому. На койке, где только что лежал больной отец, лежал свёрнутый полосатый матрац.
Азербайджанская ССР, г. Баку. Полтора года спустя
Жизнь продолжается. Есть у неё такое свойство – продолжаться вопреки всему.
Через полтора года Валерка женился. Он встретил ту – единственную. Полюбил, сделал предложение и женился.
Его молодую жену звали Галочкой.
Их первое совместное утро началось с её счастливой улыбки. После брачной ночи, переполненной тихим шепотом, шорохами и нежными ласками, осмелевшая Валеркина рука вслед за солнечным зайчиком бродила по коже млевшей от его прикосновений Галочки… В том месте, где талия плавно переходит в бёдра, она остановилась, ощутив мелкую россыпь невидимых глазу уплотнений.
– Что это у тебя, Галчонок? – машинально спросил Валерка.
– Это?.. Так… Чепуха… – рассмеялась Галочка. – Когда была маленькой, на мне загорелось платье. Нечаянно. Пока тушили, оно успело сгореть. А здесь, – и Галочка положила свою ладонь на Валеркину, – и тут, – и она перенесла её на выглядывавшее из-под одеяла плечико, – остались шрамики. Их совсем не видно… – и, приподнявшись на локте, она строго взглянула в глаза молодого супруга. – Ты не разлюбишь меня из-за этого?
– Не разлюблю! – улыбнулся Валерка. – А где вы тогда жили?
После этого вопроса уже стрелявшее в первом акте ружьё выстрелило снова и попало в Валеркино сердце ещё раз.
– В сталинке, на Полухина, – улыбнулась в ответ Галочка.
Через год после этого разговора у Валерки и Галочки родился сын.
А ещё через десять лет – дочка.
Маленькая Лиса.
Впрочем, все эти события случились не скоро, и до того дня, как в роддоме на Шаумяна в молодой бакинской семье раздался первый крик сначала мальчика, а потом – девочки, ставших продолжателями их рода, – много воды утекло.
Рассказывать об этом долго. Но мы не торопимся.
Глава 2
Мама-Галя, юность
Май 1957 года. Азербайджанская ССР, г. Баку
Галине было двадцать пять, и она твёрдо знала – замуж надо выйти девственницей!
Иначе – позор!
Вздохнув, она в который раз вспомнила, как безрассудная соседская Инка бегала к какому-то командированному белорусу. Белорус отчего-то на ней не женился. Вот ужас!!!
Потом говорили разное. Даже то, что тот был женат и что у него есть годовалый сынишка.
Уму непостижимо!!!
Впрочем, чего это мы вдруг об Инке?
Вообще-то Галина сразу поняла, что обе дочки соседа-завмага, и Инка и Рита – оторвы!
От строжайшего папаши, державшего сумасбродных дочерей словно в тюрьме, они друг за дружкой – с разницей в год – убежали с мусорными вёдрами. Сначала так неудачно опозорившаяся Инка, а затем – так и не успевшая опозориться Ритка. Со стороны это должно было выглядеть так, будто их «украли».
Отец Галины по этому поводу сказал, что у завмаговских дочек плохо с фантазией, а у их родителя – с сообразительностью. Трезво взвесив слова отца и свои шансы, Галина решила, что ей нужна очень хорошая фантазия.
Уж очень сообразительным был её отец. Не чета дураку-завмагу.
А ещё Галина решила, что такого как с Инкой и Риткой с ней никогда не приключится!
«Ни за что на свете! Тем более что у неё есть её Павел. Он у неё всегда такой деликатный, обходительный, надёжный и…»
Что там скрывалось за этим «и» она старалась не думать, но твёрдо знала – там, в будущем, её ждёт счастье. Галина очень хотела быть счастливой.
Для счастья нужно было платье. Шёлковое, с вышивкой и пышными, колокольчиком, рукавами.
Устроить платье взялась самая близкая из подруг – Надька.
«Надеждой» Надьку никто никогда не называл – не того полёта птица. Да и птица ли? Птицы, какие ни есть, приносят пользу, а у Надьки была репутация неудачливой аферистки.
* * *
– Тебя по одному и тому же платью уже на всех танцплощадках узнают! Ты же бедная… Думаешь, никто не понимает, почему ты обычно сидишь дома и всё на занятия списываешь? И понимают, и знают прекрасно, что платье твоё единственное – никак не высохнет, а отпарить его до сухости не получилось из-за того, что керогаз занят, и поэтому не на чем греть утюг.
В принципе Надька была права, но Галя всё же обиженно потупилась – нельзя быть такой безжалостной, такой неделикатной. Надька же, словно не замечая опущенной головы подруги, вкрадчиво продолжила:
– А тут тебе и пальто пошьют, и платьев шёлковых… Всяко-разных. Оденет он тебя, как царицу! – говорила она хорошо и складно, но глазки при этом поблескивали зло и завистливо.
У самой Надьки личная жизнь не клеилась. При всех богатых внешних данных: росте, фигуре, ногах, которым не нужны были удлиняющие фигуру лодочки на шпильке, при натуральных вьющихся локонах и голубоглазости – в этом деле ей не везло. Парни знакомились с ней охотно и часто, но потом происходило что-то необъяснимое: повторной встречи не случалось никогда.
Надька нервничала, переживала, анализировала каждое своё слово, жест, взгляд, но ошибки не находила. Одевалась она лучше всех. Отец в свое время навёз столько «трофея», что даже сейчас ломились шкафы. И комнатка, ну и подумаешь, что в полуподвале, у неё была своя собственная, уютная… Широкую пружинную кровать с никелированными шишечками Надька застилала жёлтым шёлковым покрывалом с роскошными кистями на углах. По атласной глади покрывала, беззаботно взмахивая маленькими изящными крылышками, порхали синие райские птички. В щедро накрахмаленных белоснежных наволочках под тюлевой накидкой прятались – одна на другой – три туго набитых гусиным пухом подушки. Мало того, у Надьки была перина, и, главная ценность по тому времени: настоящие льняные простыни. Рядом с кроватью стоял высокий столик на гнутых ножках, на котором красовался патефон. Пластинок было всего две, и те заезженные донельзя, а потому, Надька патефон не заводила, берегла их. Она мечтала о том времени, когда лёжа на перине рядом с мужем – после всего – лениво протянется за иглой, опустит её на пластинку, покрутит заводящую патефон ручку, и зазвучит мелодия, услышав которую, её суженый окончательно поймёт, что выбор сделал удачный и правильный. И именно Надька – и есть та женщина, которую он искал всю жизнь. За этим просветлённым пониманием непременно последует страстный поцелуй, а за поцелуем – долгая и счастливая семейная жизнь.
Жаль, что после войны хороших женихов было совсем мало. Они были наперечёт и, как правило, уже пристроены за более проворными конкурентками. Потому и ходили к Надьке тайком и были это чаще всего чужие мужья… Но она знала, что своего счастья ни за что не упустит!
Надька уходила в грёзы как утопленница в омут. Даже на людях. Размечталась она и теперь, совершенно не реагируя на теребившую её за руку Галинку…
– Надь! Надя?! Ты что? – заглядывала та ей в лицо.
– Ничего! – вздохнув, улыбалась Надька. – Ты всё равно не поймёшь.
Подруга у неё была тихоня и бесприданница. Одно слово – из простых.
И что только мужики в ней находят?
* * *
– Ах, так! Одевать меня?! Этого ещё не хватало! Не нужны мне его подачки! А потом всю жизнь буду жить в упрёках? Подобрали, мол, голую да босую и облагодетельствовали?.. А я в институт поступлю! В этом году! Обязательно! Буду при высшем образовании, и никто меня куском не упрекнёт! – бушевала Галя.
– А что, он тебе и предложение уже сделал? – очнулась Надька.
– Сделал… – выпустив пар, Галинка рухнула на стул, эмоционально хлопнув ладонями по коленям. – Сделал, Наденька, сделал. А теперь вон как оно оборачивается…
– Слушай, а вы целовались уже? – хитро сощурилась Надька.
Галя испуганно обернулась, но убедившись, что мать продолжает спать, сделав таинственное лицо, отогнула горловину платья. На шее, в ямочке у ключицы красовался сине-багровый след от поцелуя. Надька ойкнула и, закрыв рот ладошкой, осуждающе покачала головой.
– Как ты себя ведешь, Галина! Что ты ему позволяешь! Приличные девушки себя так не ведут, понимаешь? Знаешь, что он теперь о тебе будет думать?
– Что? – покраснела Галя и невольно прикрыла ладошкой шею, пряча свой стыд.
– Он решит, что ты – «прости господи», с которой всё можно! Ты ж теперь, наверное, и беременная? Если беременная, что делать будешь?
– Да ты что такое говоришь, Надька? – окончательно перепугавшись, Галя зажала рот ладонью. Зажала крепко. Словно этот жест позволял не выпустить наружу охвативший её ужас.
– Опозорилась ты, девочка моя…
– Но Павел – мой жених!
– Тем более! Мужиков и близко подпускать нельзя, иначе всё получит заранее и не женится никогда!!! Двадцать пять лет, а ума нет! Жизни ты не знаешь! Горестно мне за тебя, подруга…
В комнате воцарилась тишина. Выждав достаточно долгую паузу, Надька предложила: – А познакомь меня с ним?
– Познакомить? Ну уж нет, Надька… Уж сколько лет прошло, а я до сих пор помню, как ты меня из-за какого-то своего дружка в кино увела. Чуть ли не на всю ночь… От жениха увела, между прочим!
– Нашла что вспомнить!!! Это ж когда было! Пять лет назад!!!
* * *
Пять лет назад Галя по глупости сломала себе судьбу.
С отличием окончив ремесленное училище, она распределилась на завод имени Джапаридзе. В Главную лабораторию. Коллектив в лаборатории был хоть и женский, но сплочённый. Молоденькую лаборантку приняли как свою, многому научили и вскоре доверяли ей самые сложные анализы. Работалось в лаборатории весело, интересно, об их успехах частенько писали в местных газетах. Приятно было открыть передовицу «Вышки», известной в то время малотиражки местных нефтяников, или не менее популярного «Бакинского рабочего» с собственной фотографией. На газетных фото работницы получались важные и солидные. Сразу видно, что люди они для Родины нужные и полезные.
Нефтепромыслы, их лаборатории и заводы нефтепереработки были предприятиями военизированными, и охранялись молодыми солдатиками, с которыми молодые работницы вовсю флиртовали. Весной солдатики охапками рвали сирень и бросали умопомрачительно пахшие букеты в открытые окна лаборатории. В жарком климате сорванная сирень быстро вяла и ею были забиты все мусорные корзины и урны у главного входа в Лабораторию. Служебные телефоны раскалялись от энергетики наполненных намёками и признаниями неслужебных разговоров. Так зарождались симпатии. Ночные дежурства по соседству с бравыми молодыми солдатами волновали девичье воображение и будоражили кровь. Впрочем, наиболее впечатлительных это соседство ещё и успокаивало. Дело в том, что в лабораторию зачастили с визитами крысы. Наглые, настырные, раскормившиеся до размеров приличной кошки. Вытравить их никак не получалось, и приходилось терпеть настырных визитёров с чёрными нагло поблёскивающими бусинками глаз.
В ту ночь дежурили всего две лаборантки. Работы было невпроворот, и девушки азартно бегали из комнаты в комнату, от аппарата к аппарату. Часам к пяти глаза у них начали слипаться. Галя присела на минутку и, не выпуская из рук пробирку с пробой, уснула. Проснулась она как-то вдруг, чутко ощутив постороннее присутствие. Открыла глаза и обомлела: вокруг неё на задних лапках во множестве сидели серые бестии. Девушка взлетела на стол, уверенная, что кричит во всю мочь. Но она, как выброшенная на берег рыба, лишь широко раскрывала рот. Привлечённая грохотом упавшего стула, в комнату заглянула её напарница и застыла на пороге. Кричать она не стала, а, ухватив совершенно неподъемный пожарный железный ящик с песком, подняла его и грохнула на одну из заметавшихся по мраморному полу крыс. Затем схватила швабру и, прижав очередную жертву к ножке лабораторного стола, щедро плеснула на неё из подвернувшейся под руку бутыли с серной кислотой. Если первая крыса испустила дух сразу, то вторая, прежде чем отдать концы, долго и страшно верещала. Только после этого к Галине вернулся голос. На визг и грохот примчались солдатики и оторопели от невиданного зрелища. Им пришлось отойти в сторону, чтобы пропустить выстроившихся в серую, хвост в хвост, шеренгу серых бестий. После столь зверской расправы над своей товаркой, крысы уходили из лаборатории. Как оказалось, они ушли из неё навсегда.
Со стола Галю снял незнакомый военный. У военного была белозубая улыбка и красивая металлическая коробочка с леденцами. Он долго отпаивал впавшую в прострацию Галю чаем и угощал конфетами из коробочки, ловко раскалывая слипшиеся леденцы перочинным ножичком с красными перламутровыми накладками на ручках. Несмотря на совершенно нетоварный вид, конфеты показались Гале очень вкусными.
Потрясённая, она пришла в себя не сразу.
Ей казалось, что если бы не напарница, то крысы набросились бы на неё спящую… и не пить ей сейчас чай в такой приятной компании.
Наутро, отойдя от стресса, Галя обнаружила, что помнит лишь тёплую улыбку доброго солдатика, но не может вспомнить его лица. Обнаружить столь странный провал в памяти было и неловко, и досадно. Ситуация усугублялась тем, что одна из подруг разболтала этот секрет всему заводу.
Болтушка!
Галочке, где бы она с той поры ни появлялась, весёлые солдатики передавали приветы от «её знакомого Володи». Галочка, конечно, радовалась такому вниманию, но и смущалась. Глупо было ждать, когда очередной солдат улыбнётся и предъявит те самые белоснежные зубы, а она поймёт, что это он. Её Володя.
Неразрешимая задача!
Но своего Володю она всё же «вычислила». Он сидел на скамейке и строгал из молодой веточки вербы свистульку. У него был тот самый ножичек, которым солдат Володя откалывал слипшиеся леденцы из запавшей в память пёстрой металлической коробочки. Галочка остановилась напротив него и, уперев кулачки в бедра, возмутилась:
– Володя, а для чего Вы передаете мне приветы от самого себя, если Вы и есть тот самый Володя?
– И действительно, глупо получается, – обезоруживающе улыбнулся Володя.
Галя обмерла. У него была завораживающая улыбка.
Шикарная была улыбка.
Потом они частенько гуляли на бульваре, мечтая о будущем и, в конце концов, решили, что оно у них будет общее. Володя стал приходить к ним в дом. Родители ничего не имели против такой дружбы. Отец усаживал потенциального зятя рядом, и подолгу рассказывал о своей нелёгкой жизни. Галя изредка пыталась его остановить, стыдясь каких-то касающихся её детства подробностей, но мужчины на неё дружно шикали и возвращались к прерванному разговору.






