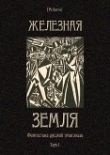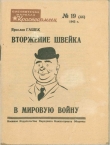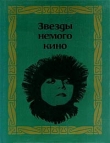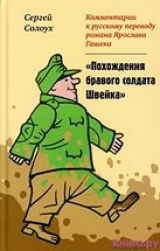
Текст книги "Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»"
Автор книги: Сергей Солоух
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
ГЛАВА 5. ШВЕЙК В ПОЛИЦЕЙСКОМ КОМИССАРИАТЕ НА САЛЬМОВОЙ УЛИЦЕ
С. 61
Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских палачей времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как они в свое время произносили: «Киньте этого негодяя христианина львам!».
Нерон, христиане – многолетний фельетонист продолжает сыпать историческими параллелями, которые будут казаться искусственными до внезапного и полного своего художественного оправдания смыслом и композицией будейовицкого анабзиса Швейка. См. также вставной фельетон, ч. 1, гл. 14, с. 194. И комм., ч. 2, гл. 2, с. 321.
– За решетку его!
В оригинале: za katr (Dejte ho za katr!). Это дериват от немецкого Gatter – решетка, штакетник. Да и все выражение – калька с немецкого: Wirf ihm hintern' Gatter. В чешском мрачноватым образом перекликается со словом палач – kat.
В ПГБ 1929 инспектор говорит «Под замок его».
Швейк, освоивший в тюремных скитаниях жаргон, сам позднее употребит выражение posadili za katr. См. комм., ч. 2, гл. 3, с. 375.
C. 62
«Ну вас к черту, петухи!»
Петухи – полицейские. Как совершенно верно указывает в своем комментарии ПГБ 1963, прозвание возникло по очень простой причине: на форменных шляпах пражские полицейские носили что-то вроде султана из черных петушиных перьев.
Петушиные перья полицейских вновь упоминаются в ч. 2, гл. 1. с. 257 – попробовал прочистить себе трубку петушиным пером из султана на каске полицейского.
Лавочник Йозеф Маречек из Вршовиц.
Возможный источник имени гашковедами пока не найден, а вот Вршовице (Vršovice) – в те времена дальний район Праги, практически пригород, на юго-восток от Виноград. Живал там и Гашек после того, как в очередной раз сошелся с женой Ярмилой, сразу после рождения единственного сына Рихарда (Richard).
Весьма любопытно, хотя к роману совершенно и не относится, то, что этим не слишком чешским именем сын, а позднее и внук Гашека обязаны любимой книге Ярмилы Гашковой «Ричард Львиное сердце» («Richard Lví srdce»). Да и сам Ярослав Гашек в пору долгого ухаживания казался Ярмиле таким благородным рыцарем, что и его она звала Рихардом. Точнее, русским именем Гриша (Grýša), – такое неожиданное сокращение от Рихарда в будущей семье породило сочетание любви ко всему русскому и не очеш> хорошее знание языка. Еще одним домашним именем Гашека было Митя (Míťa) и тоже следствие ошибки в русском. Неверное сокращение от имени одного из кумиров юности Гашека – анархиста Михаила Бакунина.
Ярослав Шерак предполагает, что именно во Вршовицах, недалеко от казарм На Мичанках (Na Míčánkách) жил будущий отец и командир Швейка – романный поручик Лукаш. См. комм., ч. 1, гл. 14, с. 232. И комм., ч. 1, гл. 10, с. 147.
у ручья печальный я сижу.
Солнышко за горы уж садится,
На пригорок солнечный гляжу.
Там моя любезная томится…
В оригинале в последней строчке еще одно слово, которое формально русизмом не является, но кажется выбранным по созвучности именно русскому подходящего значения – milка (tam, kde drahá milka přebývá).
Правильно, по-чешски, и более ожидаемым было бы milenka. Вопрос безусловно требует дополнительного изучения, но при чтении романа постоянно создается ощущение, что из всего ряда возможных чешских синонимов Гашек регулярно выбирает не самое частотное, а самое близкое к русскому эквиваленту. Данный случай – типичный пример.
Смотри также комм., ч. 1, гл. 8, с. 93.
С. 63
Разве что на нарах, опустившись на колени, как это сделал монах из Эмаузского монастыря, повесившись на распятии из-за молодой еврейки.
В оригинале: klášteř v Emauzích. Назван по имени города в Палестине. Согласно Евангелия от Луки, после своего воскрешения Христос явился двум своим ученикам, когда они шли из Иерусалима в Эммаус. Славен тем, что, только придя в Эммаус, ученики поверили в чудо. Соответственно, формально так, как его именует все постоянно путающий главный герой (монастырь в Эммаусах), называться не может. Либо Emauzy, либо Emauzský klášter, либо klášter Na Slovanech (Эммаусы, Эммаусский монастырь или монастырь на Слованех). Официальный адрес: Vyšehradská 320/49, Nové Město, Praha.
Это, как и все прочие, упоминаемые до сих пор в романе места и учреждения, в радиусе пешей прогулки от полицейского комиссариата На Сальмовой улице.
Уместно напомнить, что самоубийство монаха из-за несчастной любви было темой стишка, буквально только что спетого Швейком врачам в сумасшедшем доме. См. комм., ч. 1, гл. 4, с. 59.
В этом же много раз перестроенном Эммауском монастыре был превращен из иудея в католика Отто Кац, ч. 1, гл. 9, с. 110.
С. 64
когда мы обошли с дюжину различных кабачков
В оригинале: když jsme přešli asi tucet těch různých pajzlíčků. Словом pajzl – обозначают не что-либо, а совершенно конкретный тип питейных заведений с доп. услугами от сотрудниц женского пола, то есть здесь буквально «дюжину притончиков» или просто «бардачков».
Я очутился в одном из ночных кабачков на Виноградах.
Во времена Швейка – Краловске Виногради (Královské Vinohrady), один из самых респектабельных районов тогдашней Праги. Здесь жила семья будущей жены Гашека, Ярмилы Маеровой, и мать самого Гашека Катержина Гашкова. С этим районом связаны многие события и происшествия в жизни автора «Швейка». На западе Виногради граничат с древним и демократичным Нове Место – районом, где прошло детство и юность Гашека и до сей поры развивается действие романа, здесь находятся улицы На Бойишти, Катержинская, Сальмова, Спалена и Карлова площадь.
В Краловских Виноградах поселил Гашек Швейка в повести, там же расположил и сапожную мастерскую своего любимого героя. О чем сообщается в первых же абзацах повести:
C. k. zemský jakožto trestní soud v Praze, oddělení IV, narídil zabaviti jmění Josefa Švejka, obuvníka, posledně bytem na Král. Vinohradech, pro zločin zběhnutí к nepříteli, velezrády a zločin proti válečné moci státu podle § 183–194, ě. 1334, lit. c, a § 327 vojenského trestního zákona.
Императорский, королевский областной уголовный суд в Праге, четверое отделение, постановил конфисковать имущество Йозефа Швейка, сапожника, последнее местожительства Крал. Винограды, за преступление, состоящее в переходе на сторону неприятеля, государственную измену и т. д.
Vidíme tedy, že dobrý voják Švejk odložil již před časem uniformu a obsadil malý obuvnický krám na Vinohradech, kde žil v bázni boží a kde mu pravidelně jednou za rok otékaly nohy.
Знаем теперь, что бравый солдат Швейк отложил на время военную форму, приобрел маленькую сапожную лавочку в Виноградах, где жил в страхе божьем и где регулярно раз в год у него отекали ноги.
В романе точного указания на место жительство Швейка уже нет, более того, целый ряд обстоятельств делает несколько сомнительной его прописку в Виногради, как это было в повести. Прежде всего, мешает в это поверить любимая господа Швейка «У чаши», находящаяся в соседнем районе Нове Место, не слишком удобная для посещения жителю Виноград (см. комм., ч. 1, гл. 6, с. 71), а также слова доктора, явившегося к Швейку домой, о том, что сам он, доктор, из Виноград. (См. комм., ч. 1. гл. 7, с. 82.)
С. 65
Или, например, в «Бендловке»,
По мнению Радко Пытлика, заведение с официальным названием «Bendova kavárna» – популярное у пражской богемы ночное заведение на улице Сокольска (Sokolská ulice. Nové Město), практически на границе Нове Место и Виногради. Ныне уже не существует.
Это мнение вполне резонно оспаривается Йомаром Хонси (JH 2010). Он обращает внимание на то, что все названия кафе и ресторанов у Гашека в романе непременно в кавычках, а в данном случае в оригинале эти значки имени собственного не наблюдаются: Nebo v Bendlovce jsem dal jednou jednomu funebrákovi facku. Соответственно, Йомар предположил, что речь о народном прозвище улицы Bendlova в пражском Старе Место (Staré Město), ныне ставшей улицей Průchodní. Узкий проходик, соединяющий солидные Бартоломейскую (Bartolomějská) и Конвиктскую (Konviktská). Отличное место для ночной махаловки, и если так, то здесь ошибка перевода.
съездил я раз одному факельщику из похоронного бюро по роже,
В оригинале: jsem dal jednou jednomu funebrákovi facku. Funebrák – отнюдь не факельщик, а некий обобщенный, вообще – сотрудник похоронной конторы. От латинского funus – похороны, погребение (JŠ 2010).
и это сейчас же появилось в «Вечерке»…
В оригинале: а hned to bylo v odpoledníčku. To есть просто в вечернем выпуске газеты. Какой-то. Обычно по будням газеты тех времен в отсутствие интернета и телевидения выходили и раскупались двумя выпусками – утренним и вечерним. В утренний, шестичасовой, успеть с ночными новостями было трудно, а вот послеобеденный, он же вечерний (odpoledník), в 17.00 – пожалуйста. В общем, кавычки не нужны. В ПГБ 1929 было «на другой же день – пожалуйста – попал в газеты», что правильнее, но не точнее.
Или еще случай: в кафе «У мертвеца» один советник разбил два блюда.
В оригинале: «U mrtvoly» – ночное кафе на углу Карловой площади (Karlovo náměstí) и Рессловой улицы (Resslova) напротив исторического корпуса Высшей технической школы (Vysoká škola technická). Здание, в котором находилось кафе, давно уже снесено. См. комм., ч. 1, гл. 2, с. 38.
С. 66
Однажды в Мыловарах под Зливой, в районе Глубокой, округ Чешских Будейовиц, как раз когда наш Девяносто первый полк был там на учении… Да, кстати, они признались еще и в том, что у Рожиц перед самой жатвой сгорела совершенно случайно полоса ржи.
См. комм, о южно-чешских топонимах, ч. 1, гл. 1, с. 33.
С. 68
Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз, в караульное помещение, и через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении полицейского
Ječná ulice а Karlovo náměstí – три сотни шагов от полицейского комиссариата на Сальмовой.
На углу Спаленой улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей, теснившихся перед объявлением.
Очевидно угол Spálená ulice а Karlovo náměstí – это угол уже упоминавшегося ранее здания областного суда (см. комм., ч. 1, гл. 3, с. 47). Еще двести шагов.
– Это манифест государя императора об объявлении войны, – сказал Швейку конвоир.
Публикация императорского манифеста – одно из немногих событий в книге, дающих возможность бесспорной хронологической привязки действия. Манифест «Моим народам» («Mým národům») был подписан Францем Иосифом Первым 29 июля 1914 года и в тот же день опубликован. Таким образом, если Швейк вышел из дома, направляясь в пивную, на следующий день после убийства в Сараево наследника престола Франца Фердинанда, 28 июня 1914, он скитается по тюрьмам и больницам ровно месяц!
ГЛАВА 6. ПРОРВАВ ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ, ШВЕЙК ОПЯТЬ ОЧУТИЛСЯ ДОМА
С. 69
полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов.
В оригинале нет никакой кунсткамеры, сказано просто «компанию бюрократических хищников» (skupiny byrokratických dravců).
Стоит обратить внимание, что теперь и полиция, как до того суд (см. ч. 1, гл. 3, с. 48), ассоциируется у Гашека только и исключительно с параграфами законов. Единственное отличие в том, что вне перечисления параграфы теряют свою естественную форму тюремной загородки и вновь превращаются в слово (aby uhájili existenci zakroucených paragrafů).
C. 70
– Мне очень, очень жаль, – сказал один из этих черно-желтых хищников, когда к нему привели Швейка.
Черный и желтый – цвета австро-венгерского флага. Кстати, в оригинале хищник не просто черно-желтый, а еще и прожженный (jeden z těch dravců černožlutě žíhaných).
– Идите к черту, – пробормотало наконец чиновничье рыло.
Замечательно то, что хищник, говоривший все это время строго на формальном, правильном чешском, побежденный и сокрушенный Швейком, вдруг переходит на демократичный разговорный. Становится человеком.
«Vem vás čert, Švejku», řekla nakonec úřední brada (Vem вместо vezmi).
См. комм., Ч. 1, ГЛ. 1, c. 26.
я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а прямо отправлю в военный суд на Градчаны.
Градчани (Hradčany) – один из четырех исторических районов Праги (Старе Место, Малая Страна и Нове Место); в отличие от Нове Место и Виногради, где пока крутится действие романа, находится на другой (левой) стороне Влтавы. Расположен на высоком, доминирующем над городом холме. Ядром и центром Градчан является самый большой замок в мире – Пражский Град. Ныне резиденция чешского президента.
Во времена Швейка военный суд и гарнизонная тюрьма находились на дальней от замка, западной стороне Градчан – Капуцинская улица, д. 2 (Kapucínská ulici, č. 2). Что же касается Швейка, то в точности, как это ему и накаркал черно-желтый хищник, именно туда и очень скоро заведет его незлмеренный патриотизм (см. комм., ч. 1, гл. 7, с. 86).
По дороге домой он размышлял о том, а не зайти ли ему сперва в пивную «У чаши», и в конце концов отворил ту самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента Бретшнейдера.
С учетом оставленного самим Гашеком непроясненным вопроса о местожительстве Йозефа Швейка, стоит, наверное, обратить внимание на то, что всякий раз, когда заходит речь о его доме (это там, где служанкой пани Мюллерова), всплывает пивная «У чаши», и, соответственно, улица На Бойишти. Еще раз Швейк посетит свой бывший дом и, как неизбежность, «Чашу» во время своей службы денщиком у фельдкурата Каца, что уж совсем не по пути, с учетом того, что фельдкурат жил в Карлине. Просто в другую сторону.
Ну а затем и вовсе (см. комм., ч. 2, гл. 1, с. 276) в ответ на вопрос подпоручика на станции Табор «знаете, что такое дегенерат?» объявит:
У нас на углу Боиште и Катержинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат.
См. также комм., ч. 1, гл. 5, с. 64. и ч. 1, гл. 7, с. 82.
Кстати, семья юного Гашека три года проживала на углу Сокольской и На Бойишти (RP 1998). Так что вполне возможно, Гашек в романе просто оговорился, а вместе с ним и Швейк. Должно быть:
У нас на углу Бойишти и Сокольской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат.
См. также встречу «соседей» Швейка и Водички: Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге, на Боиште. Комм., ч. 2, гл. 3, с. 405.
В пивной царило гробовое молчание.
На самом деле речь идет о барной стойке, výčep (Ve výčepu panovalo hrobové ticho), это становится совершенно уже несомненным, когда через несколько минут придет Бретшнейдер и «бросит мимолетный взгляд на стойку (výčep) и пустой зал (locál)» (Vrhnuv zběžný pohled do výčepu i prázdného lokálu). Швейк, получается, раз зал пустой, стоит перед стойкой.
По всей видимости, переводчику следовало каким-то образом ввести и объяснить всю терминологию, связанную с чешской господой (пивной). В частности, сказать, что барная стойка в европейском смысле в чешской господе отсутствует, как и в классическом английском пабе. То есть výčep – просто конторка с горизонтальной верхней доской, пивными кранами и парой-тройкой бутылок чего-нибудь покрепче, возле нее нет высоких стульев, а есть длинные столы напротив, а иногда и этого нет, как, например, в колыбели второй, третьей и четвертой книг «Швейка» – «Чешской короне» в Липницах. Всего лишь навсего маленький предбанник, где наливают. Посетитель пьет пиво либо стоя у стойки, либо сидя за общим столом, при этом, как правило, громко беседуя с хозяином (господским). Для тех, кто хотел бы не поболтать, а перекусить, имеется либо отдельный смежный зал, либо дальняя от стойки часть общего зала (lokál). Если это сделать, ввести и закрепить понятия, тогда ничего и переводить не надо, как слово «паб» в английских романах. Просто писать «господа», «господский», «локал», ну а рассматриваемый фрагмент тогда примет вид:
В вычепе царило гробовое молчанье.
См. по этому поводу о технике работы американского переводчика «Швейка» комм, к слову pucflek: ч. 1, гл. 10, с. 136.
Сравни также удивительное у ПГБ исключение, когда именно таким образом через поясняющий комментарий вводится в текст специфическое австрийское понятие «трафика». См. комм., ч. 2, гл. 3, с. 393. А также специфически чешское «тлаченка»: см. комм., ч. 2, гл. 5, с. 476.
Там сидело несколько посетителей и среди них – церковный сторож из церкви Св. Аполлинария.
Католический костел в готическом стиле XIV века на улице Аполинаржска (Apolinářská 443/10, Nové Město, Praha), в полукилометре от пивной. Неожиданная связь с будущими событиями возникает из-за того, что все колокола звонницы кроме главного 180 килограммового были реквизированы во время Первой мировой войны.
С. 72
А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там, на лестнице, словно совсем с ума спятил: «Да здравствует свободная мысль!».
В оригинале последние два слова – имя собственное: «Ať žije Volná myšlénka!». «Свободной мыслью» называлось периодическое издание чешского подразделения антиклерикального, атеистического движения с тем же названием, основанного в Праге в начале двадцатого века.
Что, конечно, много смешнее того, что получилось у ПГБ. Очевидно, только окончательно рехнувшийся кабатчик мог выкрикнуть на суде, если взять русскую аналогию: «Да здравствует Религиозно-философское общество», ну или «Самопознание».
В 1911 году Гашек написал и опубликовал затем в журнале «Карикатуры» злой фельетон как о практике самого чешского антирелигиозного движения, так и о его печатном органе, журнале, который так и назвался – «Свободная мысль» («Volná myšlénka»). Так что здесь давняя любовь.
За все это время к нему на удочку попался только один обойщик с Поперечной улицы.
Поперечная, на самом деле Пршична (Příčná) – короткая улочка недалеко от угла Житной (Žitná) и Карловой площади. Параллельна Школьской (Školská), на которой жила семья Гашеков как раз в тот год, когда родился Ярослав. Любопытно, что в четвертой части, безо всякого предупреждения, она уже «Пршична», см. комм., ч. 4, гл. 1, с. 266.
С. 73
А обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире, прострелил там корону.
Примечания (ZA 1953) вслед за Бржетиславом Тулой (BH 2012) обращают внимание на то, что приводит обойщика в тюрьму двусмысленность высказывания (оригинал: že byl jednou na střelnici a prostřílel tam korunu). Prostřflet – это и «прострелить корону», то есть символ императорской власти, то, на чем ловит обойщика провокатор Бретшнейдер, и «прострелять корону (крону)», бестолково пытаясь попасть в цель и что-то выиграть в тире, спустить на бессмысленное упражнение целую крону (korunu), большие деньги, дневной заработок – это то, что на самом деле, по всей видимости, имел в виду несчастный работяга. Слово «крона» в тексте оригинала выделена курсивом автором.
– Смотрите-ка, некий Чимпера, село Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Рачиневес, продает усадьбу с семью десятинами пашни.
Фрагмент, поражающий тем, что в селе Страшково (Straškov, 60 километров на север от Праги) в доме номер пять действительно до войны жил Вацлав Чимпера (Václav Čimpera). Факт, установленный Миланом Годиком (HL 1998) по документу, сохранившемуся в архиве местного старосты. 20 февраля 1910 года пан Чимпера подал просьбу в сельский совет с приложением чертежа о возведении на своем участке сарая. 22 февраля ему милостиво разрешили сарай возвести. К сожалению, других документов, проливающих свет на последующую судьбу хозяина и его усадьбы, не сохранилось. Когда и почему Вацлав Чимпера свой дом с новым сараем продал и через какую газету искал покупателей – не известно, и тем не менее перед нами безусловное подтверждение того, что пишут о Гашеке его биографы, любимым и ежедневным чтением автора «Швейка» были газетные объявления, что вкупе с необычайной памятью может изумлять и сто лет спустя.
Почтовый округ и церковный приход, которому относилось Страшково, в самом деле, Рачиневес (Račiněves), примерно в пяти километрах на северо-запад от Страшково.
Кроме того, из совершенно уже анекдотической педантичности можно отметить и то, что в оригинале предлагаемая к продаже пашня имеет размер в тринадцать корец (třinácti korci), один корец – 2 877,32 кв. м, что дает 37 405,16 кв. метров. Одна русская десятина чуть больше гектара и составляет 10 925,4 кв. м; таким образом, на продажу выставлена усадьба с пашней в 3,45 десятины. В общем, не такой уж и кулак этот Чимпера, как его нам пытаются представить.
Мне нужен хороший пинчер, или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде…
В оригинале никакого упоминания о шпице в этот момент нет – Potřeboval bych pěkného ratlíčka, nebo něco podobného. Hy и понятно, что пинчер – это пражский крысолов. Ратлик. См. комм., ч. 1, гл. 1, с. 27.
С. 74
Есть такой на примете: в Дейвицох, у одного трактирщика.
Дейвице (Dejvice) – очень чистый район Праги на северо-запад от Градчани. Место, где ныне проживают потомки Ярослава Гашека.
– Отлично! – подхватил Швейк. – Крупного могу продать по пятидесяти крон, самого крупного – по сорока пяти.
Швейк запросил за собачку, скажем прямо, хорошо. Больше месячной стоимости аренды маленькой рабочей квартиры с кухонькой без прочих удобств. Подобная перед войной обходилась примерно в 30 крон. Вообще здесь уместно было бы дать некое представление о деньгах эпохи, а также доходах и расходах героев, чтобы в будущем к вопросу уже не возвращаться.
Первое, это сама расчетная единица – кроны и галержи. 1 крона (koruna) = 100 галержей (haléř) была введена в 1892 году. До этого почти шестьдесят лет, с 1811-го в ходу были золотые и крейцеры. 1 золотой (zlatý или zlatka) равен 100 крейцерам (krejcar).
Монеты во времена Швейка были серебряные – достоинством в 2 кроны (эти очень часто назывались по старой памяти «золотой») и в 1 крону. Галержи чеканились никелевыми – достоинством в 20 и 10 галержей. По удивительным образом сохранившейся со средних веков традиции, когда один флорин (он же золотой) был равен 60 крейцерам, звали такую двадцатку галержей (10 крейцеров) шестой частью (šesták), а монету в 10 галержей – из-за равенства в покупательной способности 5 крейцерам – пятачком (pětník). Мелкие монетки были бронзовыми в 1 и 2 галержа, последние часто называли по той же старой памяти крейцер, а вот грошик имел обидное прозвище fínda. Банковские билеты печатались достоинством в 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 крон. Во время войны 1914–1918 гг. появились также купюры в 1 и 5 крон.
Детектив в штатском, вроде Бретшнейдера, мог зарабатывать что-нибудь около 800-1000 крон в год, получать ежеквартальную премию в 100–120 крон и 200 в год на обмундирование. Итого выходило каких-нибудь 1600–1800 или 140–150 в месяц. То есть собачка за полтинник должна была бы его определенно впечатлить.
Точнее можно говорить о годовом бюджете офицеров, которые вот-вот появятся в романе.
Поручик Лукаш получал 2040 крон в год, плюс от 220 до 800 крон в год на жилье, была еще выплата на обстановку съемного жилья, 110 крон в год, и мобилизационные 160 крон. Иными словами, в мирное время выходило что-то вроде 250 крон в месяц. Как доцент при советской власти.
Капитан Сагнер имел на стольник в месяц больше. Существенно. Доходы фельдмаршала зашкаливали за 2 тысячи в месяц, и пару собачек он запросто мог себе позволить. Одну себе, одну жене.
Сам Ярослав Гашек, по сведениям Сесила Перротта (CP 1983), в счастливую пору недолгого постоянного трудоустройства главным редактором журнала «Мир животных» («Svět zvířat») в 1910 году зарабатывал 180 крон в месяц. А первое вообще в жизни Ярослава Гашека жалование, после принятия 23 июля 1902 года младшим клерком (výpomocný úředník) в Банк Славия (Vzájemná, kapitály а důchody pojišťující banka Slavia, см. комм., ч. 1, гл. 14, с. 227) составляло 60 крон в месяц.
Сколько способен был заработать Швейк своими собачьими аферами, трудно сказать. Но вот в удачный сентябрь 1914-го, это мы знаем точно, больше 300 нарубил только с полиции.
Квалифицированный рабочий получал 5-15 крон в неделю, 45 в месяц, рабочие других разрядов 2–4 кроны в неделю, 16 в месяц. Собачка однозначно отпадает, даже на обед.
Килограмм свинины стоил 1,3 кроны, пол-литра молока – 10 галержей, булка хлеба – 12 галержей, полтора литра пива – 26 галержей, чашка чая – 6, полцентнера угля для топки – 1 крону.
Швейк на это ответил, что с государством у него никаких дел не было, но однажды был у него на попечении хилый щенок сенбернар….
Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за сто крон леонберга.
Было бы несправедливо упустить момент и не отметить, что названия этих родственных собачьих пород (bernardýn, leonberger) переведены совершенно правильно.
С. 76
Швейк между тем собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув швейцара, сказал:
В оригинале используется забавное словцо, широко употреблявшееся в русских романах конца XIX века – энергически, в смысле, решительно.
Вот как у Гашека:
Švejk sebral mezitím části jeho garderoby, přinesl mu je к posteli, a zatřepav jím energicky, řekl:
A вот лишь малая толика примеров из одной «Анны Карениной» Льва Николаевича Толстого.
– Должно быть, очень энергический господин, – сказал Гриневич, когда Левин вышел.
Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку.
Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение.
Попадается такое определение и в других произведениях Гашека, например, «История о славном шведском солдате» («Povídka о hodném švédském vojákovi» – «Nová Omladina», 1907).
Víčka se mu zavírala, údy dřevěněly a byl zoufalý, když napadla ho náhle skvostná myšlenka: způsobí si nějakou hroznou bolest, takovou, aby mu nedala usnout. Byl energický.
Веки у него смыкались, члены деревенели и отчаяние охватывало его, когда пришла ему в голову замечательная мыль, так себя поранить, чтобы от боли уже не засыпать. Был решителен.
Очевидно, и в романном фрагменте следовало либо воспользоваться несколько неестественным, но красивым толстовским словечком «и, энергически встряхнув швейцара, сказал», либо написать совсем уже просто: «и, решительно встряхнув швейцара, сказал» и это был бы буквальный перевод чешского слова energicky.
стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза» безусловно одно из самых приличных заведений.
Ночное кафе «Мимоза» («Mimosa») весьма известное в то время заведение. Правда, находится не сказать чтобы совсем уже рядом с предполагаемым домом Швейка На Бойишти (чуть больше двух километров). Адрес: Melantrichova 10, Staré Město (угол с улицей Havelská). Йомар Хонси, ссылаясь на Радко Пытлика, пишет, что действие романа «Das Mädchenhirt» известного чешского писателя и журналиста Эгона Эрвина Киша (Egon Е. Ķisch) развивается в этом самом заведении. Ныне здесь итальянский ресторан «Papá Giovanni».
С. 78
– Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подохли, а сенбернар сбежал во время обыска.
Особенности проведения обысков у подозреваемых (domovní prohlídka) Гашеку, как анархисту и участнику антимилитаристического движения, были хорошо известны. Однажды, 12 декабря 1911 года, полиция с обыском нагрянула прямо к нему домой, что будущего автора «Швейка» необыкновенно развлекло и позабавило. Его жена Ярмила оставила об этом происшествии весьма ироничные воспоминания (RP 1998). Сам Гашек свои эмоции выплеснул позднее в фельетоне, опубликованном уже в России «У кого какая окружность шеи» («Kolik kdo má kolem krku»). См. комм., ч. 1, гл. 2, с. 42.
стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка, последний раз от господина управляющего из Брно
Намеки объяснимы. Брно (Brno) – большой и красивый город в Моравии, в восточной, такой же неотъемлемой части Чехии, как и западная – Богемия. Впрочем, и Австро-Венгрии, конечно. Кстати, если вспоминать Толстого, то Брно, вместе с другим моравским городом Оломоуцем (Olomouc), – регулярно повторяемый топоним в первой части «Войны и Мира», правда, в немецком варианте – Брюн. Поле аустерлицкого сражения находится совсем рядом с Брно, только само местечко чехи называют не по-тевтонски – Аустерлиц (Austerlitz), а по-своему – Славков (Slavkov и Brna).
вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика»
«Národní politika», она же «сучка». См. комм., ч. 1, гл. 2, с. 43.
статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось: СБ – 40 к.; ФТ – 50 к.; Л – 80 к.
В оригинале буква одна – rozšifrovali položky tajného fondu státní policie, kde stálo: B…40 K, F…50 K, L…80 К atd. Понятно, что ничего меняющего или искажающего смысл тут нет, просто загадка без объяснения.
С. 79
Сенбернар был помесь нечистокровного пуделя с дворняжкой; фокстерьер, сушами таксы, был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом;
Волкодав – вовсе не безликий охранник стад. В оригинале сказано řeznický pes (měl uši jezevčíka a velikost řeznického psa se zakroucenýma nohama), a это народное название ротвейлера.
леонберг своей мохнатой мордой напоминал овчарку, у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана.
В оригинале все не так:
Leonberger připomínal hlavou chlupatou tlamu stájového pinče, měl useknutý ohon, výšku jezevčíka a zadek holý jako proslulí psíci, naháčkové američtí.
Овчарка тут – миттельшнауцер (stájový pinč), a вот zadek holý jako proslulí psíci, naháčkové američtí – это вовсе не голый зад павиана, а «голый зад знаменитой собачки – американского безволосого терьера». Гашек, неудавшийся заводчик псов, блистает здесь уникальными познаниями, а переводчик превращает его зачем-то в заурядного посетителя городского зоопарка.
См. также комм, по поводу переклички с рассказом Гашека «Об одном ужасном псе», ч. 1, гл. 14, с. 206.
Сам сыщик Калоус заходил к Швейку купить собаку…
Любопытное примечание содержится в ПГБ 1929: «Калоус – знаменитый австрийский сыщик».
А в ПГБ 1963 уточняется: «Калоус – известный австрийский сыщик в годы первой мировой войны».
К сожалению, подтверждения этому я не смог найти ни в одной другой книге о романе. Никто, кроме ПГБ, ничего не хочет рассказать о том, был ли на белом свете и чем себя прославил реальный detektiv Kalous.
А вот выдуманного находим у самого Гашека в его рассказе «Как пан Калоус был сыщиком» («Рап Kalous detektivem» – «Karikatury», 1913). О пенсионере, решившем стать чешским Шерлоком Холмсом:
že nejsou u nás vůbec možni detektivové velkých světových jmen, jako Nick Cartres, Holmes, Kuřátko Newyorské a podobně.
Jak by se krásně dala takovým vynikajícím mužem doplnit kulturní historie našeho národa.
Máme, pravda, básníky, máme malíře, spisovatele, sochaře, hudební skladatele jmen slavných a vynikajících. Jen detektivy nemáme. A kteří jsou, nestojí za nic. Z deseti vrahů najdou u nás 0,05 procent pachatelů, a to jistě jen náhodou.
потому что нет у нас пока на весь свет прославившихся великих сыщиков, таких как Ник Картер, Холмс, Нат Пинкертон и им подобные.
Как было бы хорошо подобной выдающейся фигурой обогатить культурный фонд нашего народа.
Есть у нас поэты, есть художники, писатели, скульпторы и композиторы известные и вьщающиеся. А вот детективов нет. А те, что есть, недостойны своего званрш. На десять убийств раскроют 0,05 процента и то случайно.
Кроме этого, закончившего сумасшедшим домом старичка, встречается и еще один носитель этой же славной фамилии в рассказах Гашека. Прямо в названии. «Похождения государственного советника и школьного инспектора Калоуса» («Dobrodružství vládního rady а školního inspektora Kalouse» – «Karikatury», 1909).