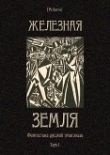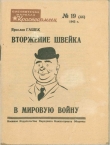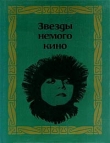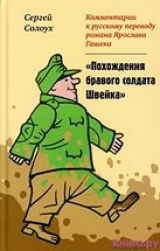
Текст книги "Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»"
Автор книги: Сергей Солоух
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
ГЛАВА 2. БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК В ПОЛИЦЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ
С. 37
Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами.
Как утверждают адресные справочники тех лет, полицейское управление находилось в Праге, там же, где и ныне, только название другое. До Первой мировой это был Фердинандов проспект (Ferdinandova třída), а теперь Народный (Národní), вход со стороны улицы Каролины Светлой (Karoliny Světlé). Десять минут ходьбы от пивной «У чаши». Еще один вход в большое здание, выходившее окнами сразу на три улицы, имелся со стороны Варфоломеевской улицы (Bartolomějské, 4). Этот адрес также частенько фигурирует в разных произведениях Гашека, в том числе и в повести о Швейке.
А вообще любопытным и, как кажется, важным для восприятия этой главы да и всей первой части, возможно будет одно маленькое, но немаловажное обстоятельство. Самого Гашека в описываемое время в Праге не было. Его как раз незадолго до дня покушения увез куда-то под Кладно на природу приятель и будущий автор иллюстраций Йозеф Лада (Josef Lada). См. комм., ч. 1, гл. 3, с. 51.
Да и возвращение было кратким: по совету друзей, едва оглядевшись, Гашек снова уехал, теперь уже на северо-восток в район Находа (Náchod) и не появлялся в Праге до ноября 1914-го (RP 1998).
С. 38
Шестой, – он всех сторонился, – заявил, что не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрение, – он сидит тут всего лишь за попытку убийства голицкого мужика с целью грабежа.
В варианте ПГБ 1929 и вовсе безо всякого уважения – «Галицкого мужичонки». Галицкого, с «а», именно так. На самом деле в оригинале используется весьма почтительное деревенское слово pantátovi (pro pokus loupežné vraždy na pantátovi z Holic). Панпапа, буквально означающее русское «батюшка» – собственный отец или тесть. Вот полное пояснение Ярды Шерака:
«Pantáto» je lidové oslovení vlastního otce, nebo otce manželky (ale již málokdy a málokde používané). Je to proto, že dříve děti svým rodičům vykaly (oslovení ve 2. osobě množného čísla) «Vy pane tatínku» z toho lidově «Pantatinku» nebo «Pantáto». Obdobně pro matky «Vy paní maminko» z toho «Paňmaminko», «Paňmámo».
Это произошло от того, что дети своим родителям говорили «Вы» (второе лицо мн. числа) «Вы, пан папа», отсюда простонародное «Панпапочка» или «Панпапа». Совершенно аналогично «Вы, пани мамочка» – «Панмамочка», «Панмама».
Однако, далее поясняет Ярда, часто «почитаемое старшинство», выражаемое словом «панпапа», применяется не только к членам собственной семьи, но и к любому иному почтенному и уважаемому человеку, как родственнику, так и просто соседу. Что и видим в данном случае, то есть правильно было бы «одного папаши из Голиц с целью грабежа» или «старого дядьки из Голиц».
Аналогичное употребление слова находим в ч. 2, гл. 2, с. 147:
V Radomyšli Švejk našel к večeru na Dolejší ulici za Floriánkem pantátu Melichárka. Když vyřídil mu pozdrav od jeho sestry ze Vráže, nijak to na pantátu.
В этом случае перевод ПГБ куда как адекватнее.
Вечером Швейк пришел в Радомышль. На Нижней улице за Флорианом он нашел хозяина Мелихарка. Швейк передал ему поклон от сестры, но это не произвело на хозяина Мелихарка ни малейшего впечатления.
Встречается у Гашека и употребление в первом значении «матушка» – panimáma. См. комм., ч. 2, гл. 2, с. 285 и ч. 2, гл. 5, с. 476.
Голице (Holice) – небольшое местечко на юго-восток от Градца Кралове (Hradec Králové) и на северо-восток от Пардубице (Pardubice). При этом довольно далеко от Праги, больше ста километров на восток. Так что, вполне возможно, «папаша» и не мужик вовсе, а деловой человек, на которого грабитель напал где-нибудь в Праге, где заключал папаша какой-нибудь контракт или присматривался к новой английской сноповязалке.
за два дня до сараевского покушения заплатил по счету за двух сербских студентов-техников «У Брейшки», а кроме того, агент Брикси видел его, пьяного, в обществе этих студентов в «Монмартре» на Ржетезовой улице.
Два любимых и часто навещаемых Гашеком до войны заведения.
«У Брейшки» (U Brejšky) – кафе недалеко от Карловой площади, да и от полицейского управления, на Спаленой (Spálená, 47) улице. Место встречи журналистов. Существует на той же улице и поныне, но теперь уже в подвале и с новым падежным окончанием «У Брейшков» (U Brejšků), Spálená, 49. В ходу легенда о том, что в свою недолгую бытность уличным репортером газеты «Чешское слово» (České slovo), в 1911-м, Гашек толкал здесь собратьям-газетчикам за пару пива им же выдуманные происшествия дня (JH 2010).
«Монмартр» – «Café Montmartre» (Řetězová, 7) заведение, как и следует из самого названия во французском стиле, по вечерам превращавшееся в кабаре. И не удивительно, сам хозяин Йозеф Вальтнер (Josef Waltner), был известным чешским шансонье. Бархатно-темный винный салон с названием «Chat Noir» был оформлен знаменитыми чешскими кубистами Франтишеком Киселой и Вратиславом Брюннером. Есть свидетели того, что сюда захаживали и Брод, и Кафка. Здесь же перед войной выступал со своими скетчами и Гашек, пока не ославился, совсем уже в нетрезвом виде прямо на сцене сняв ботинки и продемонстрировав шокированной публике не слишком свежие обмотки вместо носков. Как и «У Брейшки», находилось недалеко от полицейского управления, но по другую сторону Фердинандова проспекта в Старом городе. Не так давно вновь, после почти семидесятилетнего перерыва открыло двери для гостей (CP 1983, JH 2010).
Студенты-техники – студенты Высшей технической школы (Vysoká škola technická). См. комм., ч. 1, гл. 5, с. 65. Как утверждают гашковеды, в юности будущий автор «Швейка», а в ту пору студент коммерческой академии, и сам водил дружбу со студентами-техниками и даже позаимствовал впоследствии для пары персонажей второго плана фамилии своих давних знакомых – Юрайда и Ходоунский. См. комм., Ч..2, гл. 5, с. 468.
Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка в Годковичках «Добролюб». В день, когда было произведено покушение, «Добролюб» устроил в саду гулянье с музыкой.
Годковичи (Hodkovičky) – до войны южный пригород Праги на правом берегу Влтавы. Ныне район города Прага-4.
Благотворительный кружок «Добролюб», в оригинале «Dobromil». Неутомимые Годик и Ланда (HL 1998) во втором томе своей энциклопедии сообщают, что, по сведениям «Адресной книги королевской столицы Праги и окружающих ее населенных пунктов» (Adresář královského města Prahy а obcí sousedících, 1907), общество с названием «Dobromil» в самом деле существовало, причем примерно в той области, куда его и определил Гашек, – в пражском пригороде Подоли (Прага-4). Председателем настоящего «Добролюба» в ту пору был Вацлав Доуду (Václav Doudu).
С. 39
– Подождите минуточку, вот только доиграют «Гей, славяне».
«Гей, славяне» (первоначально «Гей, словаки») – песня, написанная словацким патриотически настроенным ксендзом Самуэлем Томашиком (Samuel Tomášik) в порыве антинемецкого вдохновения в Праге в 1834-м на мотив любимой им польской мазурки «Mazurek Dąbrowskiego», больше известной по первым своим строчкам «Jeszcze Polska nie zginęła» – «Еще Польша не погибла». Ныне гимн Польской республики.
Окончательный вариант Томашика, прославляющий не какой-то один-единственный славянский народ и подвиги его героев, а общеобъединяющие звуки славянской речи вообще:
Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce pro náš národ bije.
Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky.
Hrom a peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky.
Гей, славяне, наше слово
Песней звонкой льется
И не смолкнет, пока сердце
За народ свой бьется
(перевод традиционный) —
после Всеславянского пражского конгресса 1848 года стал гимном панславянского движения, весьма недоброжелательно воспринимаемого официальными кругами империи – немецко– или венгро-язычными; последние отличались еще большей непреклонностью и упорством в политике ассимиляции подконтрольных им славян, в том числе словаков.
Едва ли здесь намеренно, скорее как часть естественного контекста языкового противостояния в Чехии, который Гашек лишь честно и точно воспроизводит.
Упоминается как главный элемент полицейской провокации в повести.
Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за «марьяжем», побив трефового короля козырной бубновой семеркой, сказал:
– Семь пулек, как в Сараеве!
«Марьяж» в кавычках – здесь традиционная для Чехии коммерческая карточная игра, в известной степени аналог, как в части ряда правил, так и занимаемого социокультурного места, нашего родного преферанса, но абсолютно ничем не напоминающая ту игру, которую у нас принято называть марьяжем, начиная с того, что в колоде просто нет дамы, зато два валета, старший и младший. Так что вместо ничего не объясняющих кавычек вернее всего было бы называть игру так, как ее официально называют на родине – чешский марьяж (český mariáš).
Классический вариант чешского марьяжа – игра втроем, двое ловят третьего. Этот третий называется с помощью немецкого деривата aktér (основное действующее лицо), а ловцы его – obránců (обороняющиеся). Играется марьяж тридцатью двумя картами так называемой немецкой колодой. По десять карт в одной руке, две лишние составляют прикуп, обмениваемый и оспариваемый при торгах. Семерка, восьмерка, девятка, десятка, младший валет, старший валет, король и туз (sedmička, osmička, devítka, desítka, spodek, svršek, král a eso) четырех мастей: красная, пули, зеленая и желуди (červené, kule, zelené а žaludy). Немецкие карты, в отличие от привычных нам французских, одноголовые, и только красные безусловно можно признать за черви, прочие: пули – алые шарики, крупные такие дробины, зеленые – листочки, ну и желуди – дубовые, как есть. В оригинале козырная семерка пулек (kulovou sedmou trumfu) бьет желудевого короля (žaludského krále).
Vyhýbal se celé dva dny jakékoliv rozmluvě o Ferdinandovi, až večer v kavárně při mariáši, zabíjeje žaludského krále kulovou sedmou trumfů, řekl:
«Sedum kulí jako v Sarajevu!».
Понятно, что переводчику здесь не позавидуешь. Хотя, конечно, технически семь бубен правильно и сами бубны на пульки похожи, но такая образность весьма прямолинейному Гашеку в высшей степени не свойственна. См. также комм, о бубнах (bubny) в чешском, ч. 3, гл. 1, с. 58.
Важно, наверное, и то, что «последняя взятка козырной семеркой» в терминах преферанса – специальный контракт, который в случае объявления и выполнения удваивает выигрыш.
Напоследок заметим, что пара король – старший валет (svršek, král) в одних руках, эквивалент (вот он!) марьяжа в родной игре «66» – только называется «объявление» (hláška) и, совершенно, как и в «66», дает дополнительных двадцать очков, или сорок, если объявление козырное, при условии, что объявивший сможет взять взятку и зайти с одной из карт пары.
Подробнее о правилах и некоторых особенностях игры, в комм, к той части романа, где Швейк в нее вовлечен. См. ч. 3, гл. 1, с. 17 и 18.
Марьяжные термины для описания положения и ощущения героя вновь используются в одной из последних глав романа. См. комм., ч. 4, гл. 1, с. 268.
еще до сих пор от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала морду лохматого пинчера.
Очередной случай: «в темноте – все кошки черные». В оригинале stájového pinče – миттельшнауцера. См. также комм., ч. 1, гл. 14, с. 228.
С. 40
На том разговор и окончился. С этого момента через каждые пять минут он только громко уверял:
– Я не виновен, я не виновен!
Этот пассаж – зеркальное отражение ситуации в повести, где Швейк после своего суда всем и везде кричал: «Я не виновен, я не виновен!»:
Ve Vídni se s jich transportem přihodil malý omyl. Jejich vagón přidali v Benešově к vojenskému vlaku vezoucímu vojáky na srbské bojiště.
Německé paní házely i do jejich vagónu květiny a písklavými hlasy křičely: «Nieder mit den Serben!».
А Švejk, octnuv se u stěny pootevřeného vagónu, zařval do té slávy: «Já jsem nevinnej!».
В Вене по ошибке вагон с заключенными не опознали. В Бенешове его прицепили к воинскому эшелону, который вез солдат на сербский фронт.
Немки бросали в вагон цветы и писклявыми голосами кричали: «Nieder mit den Serben!».
А Швейк из-за перегородки полуоткрытого вагона на эти жаркие призывы ответил воплем: – Я не виновен!
Однако окружающие люди и природа отвечали циничным равнодушием к его судьбе, тем же самым, которым уже он в романе одаривает несчастного сокамерника.
С. 41
Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавочку в ночь под рождество:
Если вопрос о том, у кого из всех тогда существовавших в Праге Йозефов Швейков Гашек позаимствовал довольно редкую фамилию – предмет горячих и, видимо, неразрешимых споров среди гашковедов, то совершенно точно известно имя человека, заучившего в действующей армии будущего автора романа примерами «из жизни». Это Франтишек Страшлипка (František Strašlipka), подлинный денщик всамделишного командира Гашека, поручика Рудольфа Лукаса. (Да, именно так, немецкая фамилия Lukas, а не чешская Lukáš – см. комм., ч. 1, гл. 14, с. 198).
Страшлипка – неунывающий голубоглазый пролаза, по любому поводу был готов выложить случай из жизни, всегда начинающийся одинаково: «А вот знал я одного…» («То já znal jednoho…»). А неоспоримым доказательством того, у кого в действительности была позаимствована эта неистребимая наклонность, ставшая позднее неотьемлемой от образа Швейка, будут строчки из шуточного гашековского стишка «В резерве» («V reservě»), которых он в свои армейские дни насочинял на радость товарищам и командиру добрую дюжину.
Nejstrašnější však z válečné té psoty,
jsou – Strašlipkovy staré anekdoty.
И самая ужасная из всех армейских горестей
Страшлипка с очередной какой-нибудь историей.
Кстати, именно друзья Страшлипки, который больше чем на двадцать лет пережил Гашека (1890–1949), убеждали в пятидесятых исследователей вопроса, что именно он, Франтишек, гуляка и сердцеед, рассказал на фронте не падкому до женских прелестей Гашеку и про бордель на улице На Бойишти, и про его лихую мамку – пани Марию Мюллерову, что может и дезертира спрятать (RP 1998, ZA 1953,1).
В любом случае, только благодаря неутомимому исследователю архивов и метрических записей Ярде Шераку мы ныне знаем со всей возможной точностью день, месяц, год рождения и полное имя Франты Страшлипки, подарившего образу Йозефа Швейка свою любовь к никогда не истощавшимся примерам из жизни.
František Jan Strašlipka 19.02.1891 Hostivice – 21.9.1949 Veselí nad Lužnicí
To есть реальный денщик реального поручика Рудольфа Лукаса на восемь лет младше Гашека и к началу войны в 1914-м, в 23 года, был еще солдатиком срочной службы.
Забеглице (Záběhlice) – во времена Швейка поселок юговосточнее Нусле. Ныне часть города, округ Прага-4.
«Ночь под рождество» – в оригинале Boží hod vánoční (рождественский божий пир), первый день святок, то есть в ночь после рождества, а не в сочельник, как получилось в переводе.
Лапшу из вас сделать! Перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет!
В оригинале: не котлет, а голубых карпов (kapra na modro), – старинное чешское блюдо, кусочки карпа, даже не отваренного, а вытомленного в овощном бульоне, причем так, чтобы неповрежденная шкурка каждого кусочка стала совершенно голубой.
Стоит тут заметить, чтобы уже не повторять всякий раз, когда упоминается еда, что Гашек был большим мастером стряпни. И, проваландавшись почти всю свою жизнь без угла и крова, обычно благодарил за гостеприимство своих несколько утомленных его присутствием знакомых и друзей, чем-нибудь изысканным собственного приготовления.
С. 42
Один из них был босниец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался.
В оригинале слова боснийца даны прямой речью – а každé jeho druhé slovo bylo: «Jeben ti dušu». Старейший чешский исследователь Гашека Радко Пытлик, неплохо знавший ПГБ и, кстати, с похвалой отзывавшийся о его работе, как-то говорил Йомару Хонси, что ПГБ часто жаловался на притеснения советской цензуры. Возможно, здесь мы и видим искомое подтверждение справедливости слов ПГБ.
См. также комм, к удаленной прямой речи босняков («Jeben ti boga – jeben ti dušu, jeben ti májku») в ч. 3, гл. 2, с. 92.
Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром.
В оригинале лоток бродячего торговца-босняка вполне точно атрибутирован – это kočebrácký košík. Определение kočebrácký, как и другие уже значимые слова kočébr и kočebrák происходят от названия словенского города Кочевье (Коčeyje). Бог знает почему этот городок, в ту пору населенный немецкими колонистами, ассоциировался у чехов с тем, что сейчас называется прямыми продажами: со странниками преимущественно из южных славян с ременными лотками, наполненными всякой мелочевкой – складными ножичками, зеркальцами, гребешками, которые время от времени стучатся в дверь парадного (ZA 1953).
Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества.
Третье отделение пражского полицейского управления (třetí oddělení с.к. policejního ředitelství) занималось политическими делами, находилось в крыле здания, выходившем на Варфоломеевскую улицу, и здесь служили два знаменитых следователя тех времен, комиссары Ярослав Клима (Jaroslav Klíma) и Карел Славичек (Karel Slavíček). Упоминаются в романе. См. комм., ч. 1, гл. 9, с. 106.
нес свой крест на Голгофу – в начале следующей главы (с. 42) будут упоминаться Пилаты (так, с большой буквы и во мн. числе, у ПГБ). Любопытно, что все эти фельетонные атавизмы (см. комм, к ч. 1, предисловие, с. 21), прежде чем начнут раскрываться в романе, выльются в откровенную самопародию, см. комм., ч. 1, гл. 7, с. 84. Ну а докажут свою художественную уместность и состоятельность, став композиционным обрамлением симпатичного и смешного перевоплощения старой поговорки – «все дороги ведут в Рим» через будейовицкий анабазис Швейка. См. комм., ч. 2, гл. 2, с. 321.
господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ломброзо «Типы преступников».
Чезаре Ломброзо (Cesare Lombroso, 1835–1909) – итальянский ученый, выдвинувший полностью дискредитированную позднейшими практическими исследованиями теорию о наследственном характере преступности и врожденной к ней склонности. Однако сама по себе идея о том, что все легко и просто определяется мартышечьей формой лба или собачьими ушами, была столь красива и главное понятна и приятна публике, что имя Ломброзо и его идеи получили широкое хождение в конце XIX – начале XX века, особенно в США. Главный труд – «Преступная личность» («L’Uomo Delinquente», 1876). Как справедливо отмечают все комментаторы, включая ПГБ, среди прочих не таких уж и многочисленных работ Ломброзо книги с названием «Типы преступников» нет, так что Гашек просто восполнил пробел. Хотя возможно и другое объяснение, на котором вполне законно настаивал при обсуждении этого комментария энтузиаст и блогер penzensky – само словосочетание «типы преступников» столь часто и навязчиво попадается в книге Ломброзо «Преступная личность», что не могло не запасть в душу читателей, Гашека в том числе.
С. 43
Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я – официальный идиот.
В оригинале: «já jsem byl na vojně superarbitrován pro blbost». To есть не особой комиссией, а окончательно признан или буквально – суперарбитрован (superarbitrován pro blbost). В контексте перевода ПГБ это изменение малосущественное, но с учетом взаимосвязи всего корпуса текстов о Швейке: рассказов, повести и романа – очевидно, определяемое тем, как переводится заглавие, и главное, сам текст рассказа 1911 года «Суперарбитрование бравого солдата Швейка» (Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem). Рассказ включает и такую пару абзацев:
Superarbitrace jest slovo původu latinského. Super – nad, arbiträre – zkoumati, pozorovati. Superarbitrace tedy «nad-zkoumání».
Dobře to řekl jeden štábní lékař: «Kdykoliv prohlížím maroda, činím tak z přesvědčení, že se nemá mluvit o, superarbitrare, nadzkoumání, nýbrž o,superdubitare, nadpochybovánf, že takový marod je nade vši pochybnost zdráv jako ryba. Z toho principu také vycházím».
Суперарбитрация – слово латинского происхождения. Супер – особое, арбитрар – решение, заключение. Суперарбитрация таким образом – вынесение особого решения.
Но еще лучше это объяснил один штабной врач. «Когда осматриваем пациента, исходим из посылки, что речь идет не о вынесении особого решения, а о появлении особого подозрения, пациент особо подозревается в том, что здоров, как бык. На этом принципе стоим».
В существующем русском переводе рассказа «Решение медицинской комиссии о бравом солдате Швейке» (МГ1955, перевод Д. Горбова) абзац с объяснением смысла слова «суперарбитрация» просто выпущен.
См. также комм., ч. 1, гл. 8, с. 87.
См. также шутку, построенную на совпадении звучания слов «суперарбитрация» и «субординация» – комм., ч. 2, гл. 3, с. 377.
– Как не понять, – согласился Швейк. – Осмелюсь доложить, понимаю и во всем, что вы изволите сказать, сумею разобраться.
В оригинале «сумею разобраться» – один из многочисленных в романе русизмов orientýrovat (со ráčejí říct, dovedu orientýrovat), использованный вместо законного чешского orientovat. Подробнее об этом весьма характерном для книги явлении см. комм., ч. 1, гл. 3, с. 52.
Здесь можно отметить особый комический эффект употребления подозреваемым в государственной измене русского деривата вместо немецкого, каковым является чешский глагол orientovat.
– Как же, ваша милость. Покупаю вечерний выпуск «Национальной политики», «сучку».
«Národní politika» – одна из солиднейших чешских газет, непрерывно издававшаяся с 1883 по 1945 гг. Первоначально была органом довольно консервативной Старочешской партии Staročeši (см. комм., ч. 1, гл. 1, с. 32), но в описываемое время не чуралась уже и определенных, не слишком уж отчаянных, либеральных идей. Основной аудиторией газеты была мелкая и средняя чешская буржуазия. Гашек со свойственной ему беспринципностью охотно печатался в «Национальной политике», и вообще любил ее читать, считая чистым и неистощимым источником здорового идиотизма. Не удивительно, что героиней одного из самых его язвительных уже послевоенных фельетонов – издевательского некролога «Об Ольге Фастровой» («Za Olgou Fastrovou» – «Rudé právo», 1922) стала многолетняя звездная колумнистка и редактор газеты (в ту пору уже официального печатного органа Национально-демократической партии – Národní Strana Demokratická). См. также комм., ч. 1, Послесловие, с. 251.
Народное прозвище «сучка» в оригинале «čubička» – газета получила вовсе не из-за особой гибкости, как это можно было бы подумать, своей политический линии, а из-за абсолютной всеядности своего собственного отдела объявлений, бравшегося за деньги публиковать рядом рекламу и бога, и черта, лишь бы с адресами и телефонами. Собственно по этой причине Швейк, мелкий жулик на ниве собачьей торговли и покупал вечерний выпуск «Нац. политики». Из-за объявлений (inzerátů) о купле-продаже, а может быть, имея в виду особенности коммерческого подхода Швейка, и о пропаже псов. Ну и сам давал объявления.
С. 44
или жгли пожарным факелом бока, вроде того как это сделали со святым Яном Непомуцким.
Ян Непомуцкий (Jan Nepomucký или Jan z Pomuk, между 1340 и 1350 в Помуке (Pomuk), ныне Непомук (Nepomuk) – 20 марта 1394 года в Праге) – католический святой и мученик, небесный покровитель Чехии. Канонизирован в 1729 году. Был главным викарием пражского архиепископа и духовником королевы, за что и пострадал: согласно легенде, умучили беднягу за нежелание открыть тайну исповедей жены королю Вацлаву IV. Согласно мнению зшеных, была еще одна причина – несогласие главного викария потворствовать все тому же Вацлаву в его попытках командовать церковными делами и назначениями. В любом случае, Яна из Непомука действительно пытали огнем, и сам король присутствовал при этом допросе, что, конечно, заставляет верить скорее легенде, чем в законы борьбы классов и сословий.
Многократно упоминается в романе.
Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста.
Тело Яна из Непомука в самом деле сбросили во Влтаву, но с нынешнего Карлового моста, единственного в ту пору моста через реку. Однако, согласно результатам современных исследований останков святого Яна Непомуцкого, погиб он не захлебнувшись, а скорее всего, намного раньше, непосредственно во время королевского дознания, от несовместимой с жизнью травмы головы.
Элишкин мост (Eliščin most) – замечательный случай абсурда повседневной жизни. В действительности двухопорный подвесной мост вниз по течению Влтавы от Карлова (между ними еще пара мостов), открытый в Праге в 1868 году, официально назывался мостом Франца Иосифа Первого. Прелесть ситуации в том, что к тому времени в Праге уже двадцать лет существовал мост с тем же самым именем Франца Иосифа Первого, но с другой стороны, вверх по течению Влтавы от Карлового моста. Чтобы не путать двух Францев, пражане новый мост стали самым простым образом называть Элишкиным, по названию улицы, продолжением которой мост оказался (Eliščina třida – Элишкин проспект), и тем самым фактически железяку на цепях переименовали из моста императора в мост императрицы, потому что Eliška – общепринятое, включая школьные учебники, сокращение от чешского варианта имени Елизавета – Alžběta. Так и называли книжки для детей (HL1998) – «Рассказы из жизни их величеств императора и короля Франтишека Йозефа I и императрицы Элишки» («Několik vzpomínek na Jejich Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I a císařovnu Elišku»).
Ныне на месте Элишкиного моста в Праге – Штефаников мост (Štefánikův most), на месте старого Франца Иосифа – мост Легии (Most Legií), а Элишкин проспект – проспект Революции (Revoluční).
А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле Национального музея.
Рядом с Национальным музеем (в оригинале просто někde u Muzea) на нынешней Вацлавской площади (Václavské náměstí с незапамятных времен устраивались деревенские ярмарки, а в правление короля Рудольфа II (1575–1611) там же выстроили дяя большего веселья еще и эшафот, который довольно долго использовали по назначению. Например, у Музея были насажены на колья в 1621-м головы пойманных и убитых после сражения у Белой горы некоторых противников габсбургского трона (MJ 1968).
Теперь сидеть в тюрьме – одно удовольствие! – похваливал Швейк. – Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом.
Хотя сам Гашек в описываемый им момент не только не был в каталажке, но и вообще в Праге, простая справедливость требует вспомнить то, что в участок его – анархиста, комедианта и выпивоху – приводили с завидной регулярностью, о чем свидетельствуют чешские полицейские архивы. Иногда, пожурив, тут же отпускали, иногда сажали на денек, на два или на недельку, иногда ограничивались одной ночью отрезвляющего задержания. Уже во время войны Гашек сам себе устроил небольшую отсидку, умудрившись зарегистрироваться в номерах на улице Каролины Светлой как «Ярослав Гашек, купец, родом из Киева, прямым ходом из Москвы» («Jaroslav Hašek, kupec, v Kyjevě narozený a z Moskvy přicházející»). Наитипичнейшая выходка вечного шутника стоила ему пяти дней (7-12.12.1914) тюремного пайка (RP 1998).
Так что тюремно-полицейский быт вообще, и военных времен, в частности, был знаком Гашеку не хуже, чем жизнь пивных и кабаре.
С. 46
Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла.
Только босниец сказал:
– Приветствую!
В оригинале и здесь босниец употребляет хорватский. Ничего плохого он не говорит, а в самом деле: – Здравствуйте! («Dobro došli»).
Какая цензура помешала в данном случае оставить все, как есть, неизвестно. Может быть, сомнения – оставить ли раздельно, как у Гашека, или написать слитно, как у носителей языка сербов, хорватов и босняков.
Утром его все-таки разбудили и без будильника и ровно в шесть часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд.
Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает, – сказал своим спутникам Швейк, когда «зеленый Антон» выезжал из ворот полицейского управления.
Специалисты спорят о возникновении названия кареты (согласно рисункам тех лет, скорее крытая телега, воз) «зеленый Антон» («zelený Anton»). Но основная и большинством разделяемая версия – по имени первого кучера такого вида служебного транспорта в Праге. Согласно Примечаниям (ZA 1953) – это Антон Доуша (Antonín Douša), по Милану Годику – Антонин Зелены (Antonín Zelený). Еще одна версия Милана Годика о связи этого названия с названием берлинской тюрьмы Grüner Anton, кажется притянутой уж очень издалека, чтобы быть правдоподобной.
«Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает» – наверное, вместо этой пословицы, явившейся словно из сборника находок фольклористов олонецкого края, вполне бы к месту была общегражданская: «Кто рано встает, тому Бог дает» – да, ближе это к смыслу чешской, использованной Швеком. Ranní ptáče dál doskáče – «утренняя птица дальше всех умчится». (Буквально: «Утренняя птичка дальше ускачет».)
По всей видимости, и самому ПГБ выбранный эквивалент не очень нравился, иначе бы он, наверное, в ПГБ 1963 оставил тот же вариант, который использовал в ПГБ 1929: «Поздняя птичка глазки протрет, а ранняя уже песню поет».