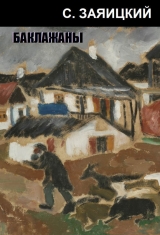
Текст книги "Баклажаны"
Автор книги: Сергей Заяицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Часть 6
Львович
Степан Андреевич заснул только тогда, когда обрисовались розовыми полосками щели ставней. Поэтому и проснулся он довольно поздно.
День был снова чудесный, настоящий летний, ненастье не зарядило по-северному на две недели.
При свете этого дня ужасно смешны и постыдно глупы были ночные страхи.
Оставалось, правда, непонятным все. Но в конце концов некоторая таинственность даже приятна на нашем реалистическом, так сказать, фоне. Степан Андреевич посмотрел на пионера, который был наполовину готов, и швырнул его в чемодан за ненадобностью. Потом он пошел пить кофе.
На террасе стояла Екатерина Сергеевна и сомнительно поглядывала то в сад, то на свои веревочные туфли.
– Мокро, – говорила она, – мокро и грязно. Господи, помилуй.
– Да, мокро, – согласился Степан Андреевич, жуя словно из ваты испеченный хлеб. Хлеб этот мялся и не разгрызался и назывался тут калачом. Какая насмешка над Великороссией!.
– Да ведь дождь-то какой вчера был. Заступница! Ну как я пройду?
– А вы куда собрались?
– Жидовке одной платье отнести. Вера сама не ходит к заказчицам, ей самолюбие, конечно, не позволяет… Но она это платье просрочила… Меня посылает…
– Так давайте я отнесу. У меня галоши.
– Степа, да ты не найдешь.
– Ну, вот еще… Вы объясните, как пройти…
– Спаси тебя Христос… Ты Ларек знаешь?..
– Знаю.
– Ну, вот – от Ларька направо и будет Полтавская улица. Пятый дом направо, с голубым крыльцом, спроси Зою Борисовну Львович. Она жидовка. Скажи, что от Веры, мол, Александровны Кошелевой. Сегодня суббота, она будет дома.
– Есть.
Ведь вот и маленький город (город – полюбуйся, урбанист!), – а делится на три части резко и несомненно.
Первая, главная, торговая, единственная мощеная улица, освещаемая даже электричеством, мощеная огромным с добрый кавун булыжником – Степная по названию, вечером даже с уклоном в падение нравов – ибо – это факт – существует кокотка Баклажанская – хохлушка могучая, одетая по-московски – и еще еврейка волоокая с пристальным исподлобья взглядом – обе очень и очень. На этой улице Санитария и Гигиена, Державная Аптека и всякая москательщина и бакалейщина – плакаты: «жінки, тікайте до спілки».
Вторая часть – как бы переходная часть – реально, даже материально осуществленная смычка города с деревней. Появись в Баклажанах двуликий Янус – был бы он в этой части одним лицом к городу, другим – к деревне. Домики грязно-белые, но все же улицы ни на что другое, кроме улиц, не похожи. Тротуар горбом из бурого кирпича, кое-где от старости выпали кирпичи – тротуар обеззубел, – но пройти и в грязь физически возможно. Белые акации придают этим улицам нарядную живописность. В этой части жил Львович и, должно быть, все его родные – детишками кишели улицы.
Третья часть, самая аристократическая и самая демократическая – усадьбы и хутора – Кошелевы жили там все сорок лет – фруктовые сады, пустыри с навозом и огороды. Грядки с залихватскими усиками – грядущими тыквами. Подсолнухи желтеют ослепительно, – а кое-где кровью разбрызгались маки. Овцы, вылепленные из грязи, пасутся у заборов. В этой части после дождя хлюп-хлюпанье и чертыханье – галоши и обувь лучше прямо оставить дома.
Но кое-как все-таки перебрался Степан Андреевич из третьей части во вторую – солнце уж больно сушило – грязь твердела, как воск на потушенной свече, – и благополучно дошел до Ларька. Ларек этот был единственною лавкою на огромной, совершенно пустой площади, до того грязной, что Степан Андреевич даже содрогнулся, подумав: «А что же бывает тут поздней осенью!» Вообще площадь наводила уныние. Однако был у нее булыжный хребет, и по нему, перейдя ее, Степан Андреевич вышел на Полтавскую улицу и увидал невдалеке голубое крыльцо. Из всех окон на него смотрели с любопытством женские и детские головы. На голубом крыльце стоял примечательного вида человек, – был бы он раньше Ной или Авраам, – в широкополой шляпе и допотопном сюртуке, с грязной, белой, пророческого вида бородой, которую он ловко накручивал на палец и опять раскручивал. На ногах у него были надеты огромные сапоги, а вот брюк как будто вовсе не было, по крайней мере, когда распахивался сюртук, то видно было грязное dessous,[5]5
Белье (фр.)
[Закрыть] весьма даже во многих местах продырявленное.
– Не здесь ли живет гражданка Зоя Борисовна Львович? – спросил Кошелев.
– Здравствуйте, молодой человек. Она живет здесь… вот в этом доме живет она…
– Вера Александровна Кошелева прислала ей платье.
– Мерси, молодой человек, ну, так что же мы стоим тут в грязи, идемте в дом.
Они вошли в совсем темные сени, где пахло многим, и прошли в довольно просторную комнату, уставленную старою кожаною мебелью. Кожа на креслах и на диване стала совсем шершавой и словно заржавела от времени. На стенах висели картины библейского содержания, тоже очень старые, и множество пожелтелых фотографий каких-то огромных семейств.
Никого в комнате не было.
– Садитесь, молодой человек, на этом кресле… Ну, как же вы дошли по такой грязи?.. Ай, какая грязь, и это после одного дождя… Зоя, ну, иди же сюда. Тебе принесли платье.
В ответ из-за перегородки послышалось какое-то утвердительное междометие, но никто не вышел.
– Она дичится, – сказал Львович. – Ну, Зоя, скажи мерси молодому человеку, он не побоялся идти в такую грязь… Вы с Москвы приехали, молодой человек?
– Да, из Москвы. Далеко, не правда ли?
– Что значит – далеко, молодой человек? Наш сосед Келлербах – ну, так он ездит в Москву каждую среду.
– Каждую среду? Ведь это с ума можно сойти…
– Келлербах не сошел с ума… У него двенадцать деток… они просят кушать… Келлербах кормит своих детей. Он – мануфактурист.
– Надо заплатить три рубля, – сказали из-за перегородки.
– Если надо заплатить три рубля, то мы заплатим три рубля. Молодой человек, когда шел сюда, уже знал, что Львович не мошенник. А хорошо жить в Москве, молодой человек?
– Как кому.
– В Москве всякому лучше жить, молодой человек, потому что в Москве вся публика и все для Москвы.
– Зато в эти тяжелые годы мы едва не умерли от голоду. О вашей Украине мы мечтали, как о царствии небесном.
– Плохое же это было, молодой человек, небесное царствие… правда, была у нас мучица, и крупица, и курятина… а сколько у нас было красных, и белых, и бандитов… И как те бандиты резали публику… Старых евреев прибивали к полу большими гвоздями через глаза и оставляли так гнить… Молодых девушек обижали на глазах у отцов, так что они умирали… А нехай лучше были бы мы голодные!
– Ну, зато теперь все это кончилось…
– Да, слава богу, молодой человек, теперь жить стало хорошо.
– Стало быть, вы довольны Советской властью?
– А как я могу быть доволен или недоволен… Я маленькая сошка, и я не политик… Нехай будет всякая власть, только чтобы не мучили людей и торговали всяким товаром.
– А у вас только одна дочь?
– Нет, слава богу, у меня много детей и внуков. Но один сын мой живет в Минске, другой в Житомире, а старшие дочери замужем и живут в Кременчуге. Их мужья честные торговцы и крепко любят жен. У меня на той неделе родился шестнадцатый внук.
– Теперь очередь за Зоей Борисовной?
– Она молода и еще подождет… Она опора моей старости.
– Папа, отдайте три рубля.
– Да не убегут твои три рубля… А вы, молодой человек, племянник мадам Кошелевой?
– Да.
– Им не так теперь легко жить. Ох, ох, ох… А прежде, ой, как они жили! У них был домик – игрушечка… Ой, какой был пан дотошный… Настоящий был пан и никогда не обижал бедных людей. Такому пану нужно поставить каменный памятник на площади и на золотой дощечке написать его имя. Три рубля… ты сказала, три рубля?
– Да…
– Ну, так, стало быть, три, а не два… Львович когда-то учился арифметике и еще не разучился считать.
Он медленно пошел в соседнюю комнату.
Степан Андреевич случайно взглянул на стол.
Там лежал список белья – простой список белья, должно быть, предназначенного в стирку. Тот самый почерк.
Степан Андреевич вздрогнул, и на один миг как-то снова по-ночному туманно стало у него в мозгу.
– Вот три рубля, молодой человек, – сказал старый еврей, – мерси и кланяйтесь многоуважаемой Екатерине Сергеевне и многоуважаемой Вере Александровне. Ай, какая она красавица! Я ведь помню ее еще вовсе деточкой. Она была совсем как ангел… Такая симпатичная барышня. Опора матери… Ой, чтоб делала мадам Кошелева, если б не дочь. Она была бы вовсе нищей… А вы, молодой человек, адвокат или доктор?
– Нет, я художник.
– Художник… Вы рисуете картины?
– Да.
– И за них плотят деньги?
– Платят…
– Дай же вам бог, молодой человек, нарисовать очень много картин. А вы женаты?
– Нет.
– Хорошей жены и много, много маленьких деток…
– Подождите… еще надо найти невесту.
– А в Москве разве нет хороших невест?.. Там много девушек, и они все охотно пойдут за такого красавца… И надарят ему детей, сколько он захочет…
– Скажите, это вы писали?
– Нет, это писала Зоя. А почему вам это хочется знать?
– Красивый почерк…
– Для прачки надо писать красиво, молодой человек, а то она не поймет и потеряет белье. Необразованному человеку трудно читать.
– До свидания.
– До свидания, молодой человек, дай бог вам благополучно перейти площадь… Зоя, скажи – до свидания. Выше подверните брюки и ступайте краем…
Львович стоял на крыльце и, когда оборачивался Кошелев, ласково кивал ему патриархальною своею головой. Но Степан Андреевич совсем не для этого оборачивался.
«Да, – думал с самодовольством Степан Андреевич, – я могу еще кое-кому вскружить голову. Но уж очень у них там чем-то пахнет. Нет. Надо на попадью направить главный удар и не разбрасываться».
Часть 7
Хвостатые буржуи
– Степа, – сказала тетушка, – у меня к тебе большая просьба: живет у нас тут через три дома одна дама, бывшая здешняя помещица, урожденная графиня Шилова. Муж имел подлость ее бросить в трудные годы… Мерзавец уехал в Аргентину и теперь отлично там устроился. А она, бедная, положительно бедствует… Знаешь, ты бы прошелся к ней со мной… Сейчас уж просохло! Она очень хочет про Москву тебя расспросить. Сама она не может выйти из дома.
– Что ж. Я с удовольствием.
– Ну, так пойдем… Марья! О, дурная баба… Я ж вам велела остатки печенки собрать.
– Це они, ваши остатки. Пудавитесь!
– Дура! Не смейте так говорить.
Марья хотела что-то ответить, но вместо того вдруг плюнула черным плевком и повернула в кухню.
Екатерина Сергеевна взяла сверток с печенкой и. вздохнув, засеменила к воротам.
В ворота в этот миг вошел Бороновский. Он был по обыкновению, зелен, но глаза его изображали удовольствие.
– Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, – сказал он, – здравствуйте, Степан Андреевич! Поглядите, как после вчерашнею дождя расцвела природа… Деревья совсем от сухости истомились… А вот попили – и смотрите, какими козырями стоят… Уже я за них вчера радовался. Вера Александровна дома?
– Дома-то она, дома.
– А что?
– Нервы у нее… Ох, уж эти мне нервы!.. И кто это их открыл! В мое время не было нервов.
– То есть быть-то они были… Да на них внимания не обращали.
– Уж не знаю… Всю ночь молилась… ну, конечно, не выспалась.
– А вы бы ей сказали, что, мол, вредно себя утруждать.
– К ней во время молитвы разве подойдешь?.. Она, когда молится, часы останавливает, чтобы не били… говорит, отвлекают.
– Ну, я пока по саду поброжу. Может быть, Вера Александровна на террасу выйдет.
Анна Петровна Кобылина, урожденная графиня Шилова, обитала в доме бывшего баклажанского мещанина Зверчука.
В темной прихожей на вошедших навалилась острая вонь, похожая на ту, которая бывает в зоологическом саду зимою в обезьяньем доме.
Екатерина Сергеевна постучала в дверь.
– Кто там? – сказал за дверью настоящий дамский голос.
– Здравствуйте, Анна Петровна. Помилуй бог, или не признали?
– Екатерина Сергеевна? Дорогая моя, входите осторожнее. Мурс спит и видит удрать… Постойте… Мурс! Я тебе задам, усатый! Пошел! Ну, входите, моя радость, но быстро.
Светлая полоска ударила по глазам. Екатерина Сергеевна вошла, а за нею двинулся и Степан Андреевич. Анна Петровна, в близоруком полумраке не видя его, хотела захлопнуть дверь, но та ударилась о его плечо, а в это время под ногами с быстротой молнии прокатился темный шар.
– Мурс, Мурс! – закричала Анна Петровна отчаянно и кинулась опрометью в сени, отпихнув неловкого гостя. – Дверь затворите! – крикнула она через плечо.
Степан Андреевич смущенно прошел в комнату, взяв дверь на тяжелую щеколду.
– Как же это ты, Степа, замешкался? – проговорила Екатерина Сергеевна, покачав головою: – Ведь если Мурс не вернется, Анна Петровна может прямо с ума сойти.
– Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, – послышался знакомый голос из-за шкафа.
Пелагея Ивановна появилась, красотою своею насыщая тесные пределы комнаты, и даже вонь стала как-то приятна и не рвала ноздри.
– А, и вы тут, – сказала тетушка.
– Я с рынка зашла… Принесла кой-что Анне Петровне.
Комната Анны Петровны перемешала в себе в странной смеси все степени житейского благополучия. Возле стены стояла прогнувшаяся ржавая железная кровать с тюфяком без матраца. Тюфяк был полосатый, красный, без простыни и без подушки. Рядом с кроватью этой возвышалось огромное кресло: белые ручки с золотыми грифонами, спинка и сиденье, обитые голубым штофом – огромное кресло, присутствовавшее в комнате, как генерал на свадьбе у бедных родственников. Еще был простой, из немореного дерева стол и стулья, развинченные и расклеенные, готовые ежесекундно развалиться от первой же горячей жестикуляции сидящего на них. В углу стояла старая горка с посудой, но не с пестрым фарфором и не с сазиковским серебром, как бывает, а с примусом и двумя алюминиевыми кастрюльками. Окно было затянуто ржавою железною сеткою. В сетке этой застревала терпкая вонь.
Была одна в комнате деталь, которая не в первый миг выявилась, но когда выявилась, то решительно завладела вниманием – живая деталь: котищи, коты, кошки, кошечки, котята, котеночки, – всюду – на постели, под постелью, на столе, под столом, на горке, под горкой, на кресле, под креслом, рыжие, черные, пестрые, серые, белые, клубком, сфинксиком, умываючись, всячески, в безмерном довольстве, в роскошной праздности, презрительные к миру.
– Как вы думаете, Мурс вернется? – спросила с озабоченностью Екатерина Сергеевна.
– Вернется, Анна Петровна напрасно волнуется… Беда, что они вовсе не приучены гулять.
Из-под стула, на котором сидел Степан Андреевич, в это время вылез большой серый кот и, страшно выгнув спину, начал с хрустом потягиваться.
Затем он прыгнул на кровать, где спали кошки, и – с видом султана в гареме – принялся их лениво осматривать. Апельсиновый кот на горке, еще не проявляя особого оживления, тем не менее уставил на него тяжелый взгляд. Серый кот поглядел наверх и выпучил зеленые глаза с восклицательным знаком зрачка.
– Что вы поделываете, Пелагея Ивановна? – спросил развязно и по-светскому Степан Андреевич. – Как поживает отец Владимир?
– Он занят очень. Столько у него хлопот с церковными делами: на днях поедет с владыкою в Харьков.
– В самом деле? И надолго?
Взгляд у рыжего кота становился все пристальнее, а позиция все сосредоточеннее. Серый кот насторожился.
– Да дня на три.
– Поскучать вам придется.
– Сейчас скоро варенье варить.
Коты теперь так и кололи друг друга глазами.
– Вот, вероятно, вкусное будет варенье.
– Почему же?.. Обыкновенное будет варенье.
– Ау-уа! – раздался дикий кошачий вопль.
Рыжий кот лавиной рухнул на серого, и они с воем покатились на пол. Кошки шипя выгнули спины, котята, котеночки, котешоночки посыпались, как горох, и исчезли под горкой. Черный кот с белыми усами взвыл и метнулся на воюющих.
– Разнимите их, они съедят друг друга! – кричала Екатерина Сергеевна.
Пелагея Ивановна схватила рыжего кота и тотчас, вскрикнув, выпустила. На ее белой руке от локтя сразу протянулись три кровавых полоски.
– Ах, негодяи! – воскликнул Степан Андреевич и с рыцарским бесстрашием ногой хватил по сражающимся.
Коты перекувыркнулись, и разлетелись по углам. Степан Андреевич вынул из кармана чистый платок и разорвал его.
– Степа! Что ты! – с жалостью вскричала Екатерина Сергеевна: – Батистовый-то.
– Бог с ним. Пелагея Ивановна, позвольте вашу ручку: я опытный хирург и прекрасно перевязываю раны… Ах, подлые коты… Не туго?
– Ничего. Платок только жалко.
Без эффекта прошла перевязка.
В дверь постучали.
– Пелагея Ивановна, – послышался голос Анны Петровны, – у меня к вам, душечка, просьба. Отворите дверь и сразу захлопните, боюсь, как бы не удрал Макдональд.
Анна Петровна просочилась в комнату сквозь почти незримую щелку. На руках у нее уже спал толстый полосатый кот.
– Вот он, злодей, – говорила Анна Петровна, улыбаясь счастливо, – вот он, разбойник. Кот! Кот! Мы гулятиньки захотели… нам надоело дома сидюшеньки. Кот! Кот!
Это была не старая еще женщина, очень худая и бледная, слегка похожая на Данте, в черном шелковом платье с бархатными заплатами и в широких мокасинах из рогожи.
– Вот это мой племянник, – сказала Екатерина Сергеевна, – Напрасно вы волновались… Мурс никогда не пропадет.
– Ах, не говорите, Екатерина Сергеевна, – очень приятно познакомиться, милости прошу садиться, – он иной раз на соседний двор бегает к одичавшим кошкам… Ну, помилуй бог, – обидят его мальчишки или собаки задерут… А мы ведь драчуны… Ох, мы какие драчуны!
Полосатый кот вдруг подпрыгнул и, вырвав из рук Екатерины Сергеевны сверток, разбросал печенку.
Тучей бросились из всех углов котики, коты, кошки, кошечки, котята, котеночки.
– Ах, обжоры, ну, посмотрите! Ведь только что их накормила. Гур, не мешай же кушать Гризетке… А этот-то… этот гуляка за обе щеки так-таки и уплетает… Ах, вы, мои глупышоночки!
Коты, чавкая и журча, жрали печенку, узорами растаскивая по полу сало.
У Степана Андреевича сквозь череп слегка стал просачиваться острый смрад. Мозгу тесно стало.
– А без вас тут драка была… Макдональд с Васькой… Пелагее Ивановне вон как руку починили.
– О, они починят… Мне раз до кости палец прокусили. Мы, скажите, зубастые… у нас когти острые, зубы крепкие… Мы, скажите, драчуны, шалуны… Кот! Кот! Да не мешай же кушать Гризетке!.. и за едой ловеласничает.
Но тут уже все гости сконфузились и сделали вид, что кошек и нет вовсе в комнате.
Только Анна Петровна легонько шлепнула Мурса по жирному полосатому заду:
– Брысь, ловелас!.. Стыдно!.. И ты, Гризетка, не срамись. Под стол ступайте, под стол… Подумаешь, какие! Ромео и Джульетта.
– Степа прямо из Москвы приехал, – вздохнув, заговорила Екатерина Сергеевна, в то время как Пелагея Ивановна усиленно скребла ноготочком на столе какие-то пятна.
– Каково мне это слышать, моя золотая! Ведь я-то сама коренная москвичка. Всегда с рождения жила в Москве, в Сивцевом Вражке, у теток там был дом… И вот теперь… гнию в Баклажанах… Без копейки денег. А прежде тратила на платья по четыреста рублей за фасон… Я в Париж ездила специально шить платья у Пуарэ… Ламанова ко мне за советом обращалась. Макдональд… не увлекайтесь печенкой… помните, мой друг, что у вас некрепкий желудок… Я проклинаю тот день, когда я покинула Москву и по увещанию мужа поселилась в нашей здешней экономии. Я так скучала… Правда, зимой я ездила в Париж… Но летом… вместо Биаррица или Остенде – вообразите – Баклажаны… Я привыкла к пляжу, к казино… приличная публика. А тут самые дикие нравы… И отсутствие природы. Степь. Муж меня прямо носил на руках, но мне от этого было не легче… А потом еще эта революция… Мы переехали в город, потому что в деревне прямо было страшно жить… Васька… ведь ты же знаешь, что песочек за шкафом… Нечего мурлыкать… Очень стыдно. А при Скоропадском муж мне предложил бежать за границу. А я – я подошла к своим гардеробам и думаю: как же я оставлю платья… Багажа нельзя было брать… И потом еще мебель. Я отказалась ехать. А он – странный, обиделся, что я предпочла ему платья, и уехал один. Теперь я давно все продала… и так трудно жить… Я писала мужу, что теперь я согласна… но он не отвечает… Ах, это такой эгоистичный человек… Помните Наталку Переперченко? Она ведь теперь также где-то в Бразилии, и я еще кое-что подозреваю… Но скажите… когда же все это кончится?
– То есть что?
– Большевики. Ведь это же ужасно… Нами правят хамы… Я – графиня – хожу в этом тряпье, а моя бывшая судомойка шьет себе каждый месяц новое платье.
– Ее муж хорошо зарабатывает, – заметила Екатерина Сергеевна.
– Да, но кто она такая?.. Ведь это же надо, мое счастье, принимать в расчет… Я вовсе не крепостничка, и я никогда на прислугу не кричала, но за стол я с собою кухарку не посажу… Il у a quelque chose…[6]6
Есть нечто… (фр.)
[Закрыть] что воздвигает между нами стену… И они это понимают…
– Советская власть, к сожалению, очень прочна, – почему-то обиженно сказал Степан Андреевич, – у нас в Москве о контрреволюции все и думать-то забыли.
– Но заграница не будет же терпеть большевиков… Гинденбург, например, очень порядочный человек… Он не допустит, чтобы людей грабили безнаказанно у него на глазах. Ведь нас же всех ограбили… Ну, а чем живут у вас в Москве люди нашего круга?
– Служат, работают…
– Но где же служат?
– На советской службе…
– Ну, я не думаю, чтоб порядочный человек служил большевикам.
– Отлично служат и очень довольны.
– Мой племянник, я знаю, торгует папиросами, но служить он не идет… Он чтит память своего отца. Впрочем, были ведь и среди аристократов подлецы. Лучшие люди сейчас, разумеется, за границей.
Степана Андреевича засосал червячок. Но засосал как-то не по-московски. Должно быть, не к тому месту присосался.
– Не знаю, что делают за границей эти лучшие люди… Иностранцы, кажется, их не очень поощряют. Говорят, в Париже если скандал – обязательно замешаны русские эмигранты…
– Не думаю, чтоб мои, например, родные вели себя в Париже недостойно. Они не захотят пятнать фамилию Шиловых. Но в Москве, говорят, такой ужас. В квартирах теснота… Все загромождено…
– Мы привыкли…
– А женщины, говорят, совершенно потеряли мораль… Они пьют вино хуже мужчин… Да позвольте, ведь это вы же мне рассказывали, Екатерина Сергеевна…
– Мне Степа говорил…
Степан Андреевич подавился неродившимся словом.
– Ну, конечно, – сказал он, – катастрофическое время не могло пройти без последствий… Но все-таки нельзя отрицать, что революция принесла и много пользы.
Наступило нескладное молчание. Комната урчала мурлыканьем дремлющих котов. Мурлыканье это текло из всех углов, из-под стола, из-под кровати, с горки, отовсюду. Оно было разнообразно и напоминало хаотическое тиканье часов в часовом магазине.
Анна Петровна недоуменно молчала, моргая глазами, а Екатерина Сергеевна с некоторым испугом поглядывала на Степана Андреевича. Пелагея Ивановна встала.
– Пойду домой, – сказала она и подняла с полу громадный баул с провизией.
Степан Андреевич вскочил.
– Я вам донесу его до дому. Разве можно вам, да еще раненой, носить такие тяжести!
– Вы, право, напрасно беспокоитесь.
– Нет, нет. Мои рыцарские чувства вопиют,
И он отнял у нее баул.
– Но вы «все-таки» еще навестите меня… Я в эти часы всегда дома…
Екатерина Сергеевна тоже поднялась.
– И я пойду. Надо за Марьей последить. Сегодня у нас молочный кисель. Как бы она молока не отхлебнула… Она на это способна. А потом на кошку солжет… А зверя не спросишь.








