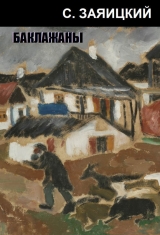
Текст книги "Баклажаны"
Автор книги: Сергей Заяицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Сергей Заяицкий
Баклажаны
Часть 1
Судьба на веревочке
Разве не говорили все и разве не утверждали, что украинские ночи сотворены для любовных восторгов?
Разве Гоголь не восклицал патетически: «Знаете ли вы украинскую ночь?» – и разве не отвечал он сам, видя, что язык отнялся у заробевшего читателя: «О, вы не знаете украинской ночи».
И разве Куинджи кусок этой ночи, втиснутый в золотую раму, не передвигал по всем губернским городам Российской империи, пока не пригвоздил его гвоздем вечности к стене Третьяковского прибежища?
Да. Пленительна и сластолюбива украинская ночь. Но в сто, в тысячу, в миллион раз пленительнее и сластолюбивее знойный украинский полдень.
Беззвучно и тихо скользит хрустальная река. Где-то вдали, словно чье-то бестревожное сердце, постукивает мельница, огромный, как майн-ридовский кондор, аист-лелека мерно пролетает над водою.
О, счастливые любовники, обитающие в Советской Украинской Социалистической Республике! Усталые, раскинулись вы среди лоз, разросшихся на песке, и перебираете пальцами золотую солнечную сетку и грезите о тех временах, когда у человека отец был уже человек, но дедушка еще шимпанзе.
Да. Прекрасен украинский полдень, и не угнаться за ним, никогда не угнаться куинджевской ночи.
* * *
Двадцатого июля тысяча девятьсот, кажется, двадцать пятого года на белом пляже у реки Ворсклы грелись и отдыхали после, купанья три голые – вполне можно сказать – красавицы, с телами не светлее той медной посуды, которую продают у нас цыгане, и волосами такими же черными, как цыганские бороды. Три красавицы эти были на три различных вкуса, и появись сейчас среди них древний Парис, он, пожалуй, опять затруднился бы, которой вручить свое историческое яблоко, вернее, предложил бы каждой по очереди отведать понемножечку.
Одна была очень пышна и очень тяжела и лежала между своими подругами, как массивная библия с рисунками Дорэ лежит между непереплетенными брошюрами.
Другая была стройна, как кедр ливанский, обращенный к востоку. Похожая на Суламифь, она посыпала горячим песком свое смуглое бедро и презрительно жевала стебель.
Третья была вертлява и костлява, она совсем не лежала спокойно, но то падала ничком, словно плавала но песку, то, раскинувшись, распластывалась на спине, отдаваясь солнцу, то садилась на корточки, опираясь руками о землю, как кенгуру, готовый прыгнуть.
Вокруг красавиц валялись белые рубашки и пестрые платья, туфли и еще ханки – пустые высохшие тыквы, заменяющие украинским Веверлеям пузыри.
Красавицы уныло пели на мотив известного танца баядерки:
Омоложенье – это радость, мечта.
Вернется юность и красота.
Исчезнет рад морщин,
Исчезнет ряд седин,
И буду к опять пленять мужчин.
– Соломон вчера опять приходил и искал моей руки, – сказала Суламифь, – он до того в меня влюблен, что мне даже стыдно, тем более, что замуж я за него никогда не выйду.
– Почему же ты никогда за него не выйдешь, Рая? – спросила самая полная, переворачиваясь осторожно, чтобы не перекувырнуть вселенную.
– Потому что у него характера не больше, чем у половой тряпки. А я люблю жестких мужчин. И потом у него смешная фамилия: Поднос.
– Но если ты не выйдешь за Соломона, то за кого же ты выйдешь?
– А зачем мне вообще выходить?
– Не говори так. Когда я вышла замуж, я в первый же год прибавила на восемнадцать кило. А ты видела Мышкику. Когда она вчера купалась, на нее было симпатично смотреть. У нее все тело словно перевязано ниточками.
– Мышкина не от замужества потолстела. Я же знаю: она пьет пиво с медом, с маслицем и с желтками.
Красавицы умолкли и потом опять запели:
Омоложенье – это радость, мечта…
– Я сегодня была на базаре, – заговорила порывисто и страстно та, которой не лежалось спокойно, – и видела, как в фаэтоне проехал такой интересный человек. Он ехал со станции, потому что у него в ногах лежал чемодан.
– Это приехал к Кошелевым их родственник из Москвы. Кошелева вчера приходила к нам в магазин и спрашивала, когда приходит поезд. Мы ей сказали.
– Он приехал жениться на Вере Кошелевой? – спросила Рая.
– Пш… Разве он дурак или душевнобольной? Такой мужчина может жениться на богатой и совсем молоденькой девушке. Он как принц.
– Ты, Зоя, готова влюбиться в простой пень. Разве ты не сказала, что новый провизор самый красивый человек в мире?
– При чем тут я? Это говорят все.
Полная в это время села и стала натягивать на могучие ноги длинные палевые чулки.
– Я ухожу, – сказала она. – Лева скоро придет домой. Ай, какой он смешной в своей любви ко мне. Он каждый день мерит меня сантиметром. Ему все хочется, чтоб я была совсем толстушкой.
– Молодой Кошелев гладко выбрит и похож на артиста, – сказала Зоя, расправляя и надевая на шею рубашку. – Таких мужчин приятно целовать в губы.
Они стали одеваться и скоро ярко запестрели на фоне зеленых холмов.
А на зеленых холмах в полуденной дымке застыли Баклажаны – город белых одноэтажных домиков и голубых деревянных церквей, родной брат Хороля и Кобеляк, племянник Миргорода, город акаций, фруктовых садов и пирамидальных тополей, маленький город с единственной мощеной улицей и кирпичными тротуарами. Из его кудрявого зеленого букета торчала, словно палка из цветочного горшка, худая мачта-антенна на крыше единственного сознательного товарища.
По тропинке, спускающейся к берегу, в это самое время шли два человека, один высокий, весь в белом, без шляпы, другой низкий, сутулый, какой-то серый, едва поспевавший за белым.
– Вот он, – прошептала Рая, – это с ним идет Бороновский – я его боюсь. Папаша сказал, что от него можно заразиться чахоткой. Посмотри, какое желтое у него лицо, как лимон.
Полная одернула сзади платье, чтоб кверху подтянуть декольте.
Они, потупившись, прошли мимо Кошелева и Бороновского и не оглянулись, только полная теперь одернула декольте вниз, чтобы побольше закрыть спину.
Они обернулись к Зое, которая шла сзади, но ее не было.
– Где же она? – удивленно спросили обе друг друга и воспользовались случаем внимательно оглядеть белую спину, исчезавшую в зелени.
– Она верно пошла другою дорогою, она всегда боится тех, в кого влюблена: она глупа.
– А он, правда, красив, – прошептала пышнейшая из пышных.
– Мужская красота – фикция, – презрительно отвечала Рая, – у всех русских плоские лица.
Ну, конечно, Кошелев не был красавцем в том смысле, как рисуют на картинках, да и в самом деле не фикция ли мужская красота? Но уж он вовсе не был похож на баклажанских мужчин и выделялся среди них, как в столице нашей выделяется заезжий англичанин. Все на англичанине не такое, и портфель у него с машинкой, и башмаки невообразимо острые, и пальто зеленое нескладностью своею складное, и шляпа аппетитная, как шоколадный торт, и очки черепаховые огромные, не для человеческих глаз, и ни разу локтем в толпе даму наотмашь не саданет. Клином врезалась в революционную столицу буржуазная штука. И таким же клином в Баклажаны вонзился Кошелев. Баклажанские мужчины бреются редко, а то и вовсе не бреются, а он через день, у баклажанских мужчин брюки гармошкой болтаются, а у него складка впереди сверху донизу, и рубашка прозрачная особой спортивной выработки – от блаженной памяти – Альшванга. Да как же это возможно, воскликнут иные скептики, чтоб на восьмой год рабочей власти подобная рубашка, как же не смел ее вихрь революции! А вот не смел, и дело тут, очевидно, не в слабости вихря, а в прочности материи; да что ж вы рубашке удивляетесь, если и сам Кошелев – носитель ее – уцелел. Уцелел и в Баклажаны приехал поездом прямого сообщения.
Кошелев и Бороновский вышли между тем на берег.
Река ослепительно сверкала на солнце.
Таким миром и такою тишиною полно было все кругом, что Кошелев замер, исполненный восторженного благоговения. А Боронований, страшно запыхавшийся, схватился руками за грудь и стоял, бессмысленно выпучив глаза и глотая воздух, словно выброшенная на песок рыба.
– Какая благодать, – воскликнул Кошелев, – какая красота! Я понимаю, что Карамзин иногда падал ниц и восторженно целовал землю. Стоит поцеловать. Вы знаете, когда я сейчас шел по городу, у меня было впечатление, что я перенесся на машине времени в мирные гоголевские дни.
– Подобно фантастическому рассказу Уэльса, – проговорил Бороновский, несколько отдышавшись.
– Да. И как было чудно на одном домике, в котором по всем правилам следовало бы жить Ивану Ивановичу или Ивану Никифоровичу, увидать серп в молот. Я даже в первый момент не мог сообразить, что это такое.
– А… это вы очевидно имеете в виду нашу почту.
– Как, вероятно, уютно жить в этих маленьких домиках. Всюду ставни, огороды… На некоторых крышах я видал даже аистов. Стоят себе на одной ноге, как сто лет назад, и наплевать им на сдвиги, происшедшие в человеческом миросозерцании.
Бороновский тихо рассмеялся.
– Вы это очень остроумно выразились, – произнес он, – а уж если мы заговорили об аистах, так у нас тут есть один замечательный аист. Ему добровольцы приладили к ноге офицерскую кокарду. И вообразите, аист прилетает до сих нор все с кокардой. Его тут так и прозвали: Деникин.
–. Забавно. Да. Я смотрю и удивляюсь. Ведь это же прямо картина Пимоненко или Кондратенко под названием «Полдень в Малороссии». А что это там белеет?
– Хутор.
– Поселиться бы на этом хуторе с какою-нибудь Оксаною и есть галушки.
Легкое облачко набежало на солнце, и все сразу кругом поблекло и потускнело. Так тускнеет прима-балерина, когда тушит старый Вальц – театральный волшебник – озаряющий ее прожектор и зажигает обычную рампу.
– Удивительно, – сказал Бороновский, – до чего явления природы иногда совпадают с мыслями. Смотрите, как все потемнело. Степь словно нахмурилась под наплывом неприятных воспоминаний. А я как раз хотел вам рассказать, до чего не повезло хозяину того хутора. Его во время гражданской войны ночью раздели, облили керосином и подожгли. Мы все видели, что огонек по степи бегает, но не понимали, в чем дело, потому что крики относило ветром в другую сторону.
Кошелев сочувственно покачал головою. Но странный рассказ как-то легко прошел сквозь его уши и улетел вместе с белым облачком.
– А женщины, – опять заговорил он, – у нас в Москве они словно сработаны по ватерпасу. А здесь, я нарочно обратил внимание, – какие груди, даже у интеллигентных.
Бороновский конфузливо улыбнулся.
– А вы, Степан Андреевич, – сказал он, – должно быть, крупный Дон-Жуан.
– Да ведь правда. Ну, возьмите хоть мою двоюродную сестрицу. Разве плоха?
Бороновский вдруг оживился, он не стал менее бледным, ибо румянец, повидимому, навсегда покинул его лицо, но глаза его блеснули восторженно.
– Вера Александровна божественно красива, – сказал он, – и блистает умом. Вы попробуйте поговорить с нею о литературе; вы будете поражены ее начитанностью.
– Не понимаю, как она до сих пор не выскочила замуж.
– Она чужда мирских интересов и к тому же крайне независима. В прежнее время за ней ухаживало много молодежи, но она никому не подарила своего внимания.
– Ну, теперь-то, я думаю, она бы подарила. Ведь ей скоро тридцать стукнет. С этим не шутят.
Бороновский встал.
– Я извиняюсь, – сказал он, – мне вредно быть на солнце.
– Ну, а я посижу еще немножко. Уж очень тут здорово.
– Да, – сказал Бороновский, – находясь здесь, лишний раз убеждаешься, как прекрасна жизнь. Вы обратили внимание, как всякий человек уверен, что он не умрет, а если умрет, то очень не скоро. Я раньше удивлялся, как это, например, восьмидесятилетние старики могут думать и говорить о чем-нибудь другом, кроме смерти… И еще меня всегда поражал факт погребения… Теперь у меня и в том и в другом есть, некоторый опыт…
– То есть как? Ведь вам же не восемьдесят лет, и погребены вы, вероятно, никогда не были…
– Совершенно верно, мне не восемьдесят лет… но доктора предсказывают мне смерть очень скоро.
Степан Андреевич смутился.
– Ну, доктора постоянно ошибаются, – сказал он, – один мой родственник тоже вот так был приговорен к смерти, а между тем жив до сих пор…
Кошелев с ловкостью благовоспитанного человека соврал про родственника и потому несколько сконфузился, увидав, как радостно вздрогнул и сделал к нему шаг Бороновский.
– И давно это ему предсказали?..
– Да лет… десять тому назад.
– И он в Давос не ездил?
– Да нет… само прошло.
– Вот и я думаю, что тут леченье не поможет, тут судьба. А еще мне кажется, что если очень хотеть жить, то можно и смерть преодолеть. Не знаю, как вы, а я большой сторонник личного бессмертия.
– Правильно, – воскликнул Кошелев. – К черту смерть!
Он закрыл глаза, закинул ногу за ногу, а руки заломил под голову.
Бороновский долго смотрел на него, словно любовался этим удивительным человеком в белом костюме, который так ловко перескочил через грозное восьмилетие, даже не замарав своих пикейных брюк.
– Не сожгите с непривычки кожу, – сказал он, медленно удаляясь, – впрочем, от ожогов помогает холодная сметана.
Кошелев лежал неподвижно и чувствовал, как пришивают его к земле горячие лучи солнца. Он в это время ни о чем не думал, вернее, думал о том, что ни о чем не думал и предавался пороку праздности, бездельем наслаждался.
Поодаль бухнула вода. Кто-то купался за кудрявым мысом. Степану Андреевичу тоже захотелось влезть в серебристую воду. Он снял три предмета, из которых состояла его одежда: рубашку, брюки и сандалии. Снял, не оборачиваясь по сторонам, со спокойствием и уверенностью, ибо очень любил и уважал свое тело. Это было хорошее мужское тело, в меру мохнатое и в меру мускулистое, от природы немножко смуглое, первобытною наготою хорошо сочетавшееся с бритым лицом и гладким пробором. Солнце, между тем, с добросовестностью банщика поливало зноем голую спину. Кошелев встал во весь рост и еще раз оглядел зеленые берега. И в этот самый миг громкий зов пронесся над рекою.
– Спасите! – кричал женский голос.
– Те, те, те, – взволнованно тараторило эхо.
– Тону!
– Ну, ну, ну!
Степан Андреевич умел плавать и любил плавать, но он никак не мог сообразить, откуда несется крик. На всякий случай он побежал по берегу вправо.
Тут на траве увидал он полотняное голубое платье, две желтые туфельки и белую, как снег, рубашку. Серые деми-шелк длинные чулки висели на сухой ветке куста.
С реки явственно доносился крик. Кошелев увидал что-то золотое, что исчезало и вновь появлялось на поверхности. В стороне по течению медленно и самодовольно уплывали, очевидно, оторвавшиеся ханки.
– Держитесь! – крикнул Кошелев и бросился в воду.
С воды река казалась очень широкой и в самом деле страшной. Утопающая, очевидно, умела плавать, но, растерявшись, она бессмысленно бухала но воде, забывая об архимедовом законе, рекомендующем при плавании погружать в воду все, кроме носа.
Она, напротив, выскакивала, чтобы громче крикнуть, и после крика немедленно погружалась и опять выскакивала.
– Оэ! – крикнул Кошелев, отплевываясь от реки.
Два больших глаза с жадностью уставились на него. В календаре Степан Андреевич читал, что при спасании на водах нужно прежде всего утопающего оглушить ударом кулака по лбу, чтоб он не мешал барахтанием, а затем тащить его непременно за волосы. Но такой способ по отношению к даме Степан Андреевич справедливо почитал грубым и неприличны. Поэтому он ограничился тем, что обнял (не без удовольствия) мягкий стан и поплыл к берегу, задыхаясь немного с непривычки от этого плаванья с препятствиями. Нащупав ногами дно, Кошелев поднял на руки блондинку – которая была не то что в обмороке, а как-то обомлела с перепугу и не шевелилась, и посадил ее на песок.
Да, эта была сработана не по ватерпасу. Золотые волосы – было их по крайней мере на четыре головы – растрепалась и рассыпались. Брови были темны и гениально очерчены, должно быть, природа в припадке вдохновения создала это свое творение и не поскупилась на лучший материал. Modele dе luxe. Блондинка, между тем, спешно протирала глаза, затопленные водою. Потом она с ужасом уставилась на голого человека, загораживавшего своим мокрым телом весь зелено-голубой мир.
Голый человек наклонился и хотел довольно-таки смело поцеловать ее в губы. Но она рванулась, и поцелуй скользнул как-то по всему телу – начавшись с губ, он кончился где-то возле коленки. Блондинка с большой для нее силою ударила спасителя кулаком в грудь и кинулась за кусты, где была разбросана ее одежда, но не остановилась, а, схватив ее, побежала дальше, в гору, на бегу напяливая одежду, как невиданная сирена: наполовину женщина, наполовину платье. Впрочем, напрасно так спасалась блондинка, ибо Степан Андреевич и не думал ее преследовать. Нахохотавшись, дошел он к своему платью и тут по дороге увидал забытые на кусте серые деми-шелк чулочки. Он снял их с веточки, свернул, а когда оделся, положил в карман.
Он почувствовал в себе вдруг не больше одного золотника весу.
Откуда-то вдали из зелени вдруг, словно дразнящий язык, высунулся и пропал красный флаг на здании исполкома.
И Степан Андреевич тотчас же в ответ показал ему язык и пошел в гору, приплясывая и напевая:
И вообразите, гражданин, – шестнадцатого какого-то века парижская песня национальным гимном прозвучала в этот миг в Баклажанах.
Часть 2
Ее величество королева баклажанская
Но кто же он, этот таинственный герой в пикейных брюках и в революционной рубашке, подмигивающий небу и показывающий язык самому красному знамени? Не в состоянии ли анабиоза, замороженный по способу профессора Бахметьева, пролежал он все эти годы в погребе какой-нибудь биологической лаборатории и теперь вдруг оттаял на удивление миру, не гражданин ли это России номер два, открыто перешедший в американское подданство и теперь лишь в Баклажанах прикинувшийся русским? Нет, Степан Андреевич Кошелев настоящий русский гражданин и еще сегодня в вагоне на вопрос кременчугского пассажира:
– Чі ві член профспілки?
Ответил спокойно:
– А як же.
Мало того, с шестнадцатого года никуда не уезжал он из Москвы после того, как вернулся из Одессы, куда ездил добровольцем (в Красный Крест). Ну, так, значат, он партийный работник или сочувствующий, с самого семнадцатого года вскочивший на платформу и покативший на ней, выражаясь аллегорически, по рельсам успеха и деятельности? И не партийный и не сочувствующий. Целых два месяца после переворота носил перстень с двуглавым орлом и даже состоял в так называемой голубой гвардии, имея целью довести страну до учредительного собрания. Но потом как-то случилось (он сам не помнят, как, был как бы в затмении), что поступил он на службу в какое-то Bycoco и получил к первой годовщине два фунта масла, сливочного масла, – один фунт на себя, другой на умершую, но еще не выписанную из этого мира тетушку.
И вот случилось, что после двух фунтов масла – вкусно было оно, если помазать им на углях печурки поджаренный хлебец – из Степана Андреевича совершенно, ну, вот совершенно выветрились убеждения, и старая мораль вдруг как-то выскочила и покатилась, как колобок в известной сказке. А кто-то там – лиса, кажется, «ам» – и сожрала колобок. Вместе с тем на что-то всё время ужасно злился Степан Андреевич и, сам того не замечая, усвоил дурную манеру вздыхать, говоря при этом тихо: «Ах, сволочи, сволочи!» Будучи и в мирное время подающим надежды художником, нарисовал он как-то интервенцию с подбитым глазом и вспухшей щекой и получил гонорар. Не будучи корыстен от природы, он тем не менее полагал, что деньги необходимы для жизни, и принял гонорар, философски пожав хотя при этом плечами.
Разумеется, великое значение революции – и именно (да, да) Октябрьской революции – Степан Андреевич сознавал и часто высказывал это, особенно в беседе с коммунистами, ибо был человек вежливый и не хотел обижать высказыванием подобных мнений каких-нибудь старых или просто старого закала людей. Но почему-то после подобных бесед чувствовал Степан Андреевич какую-то злобу и даже физическую тошноту. Бог знает, не завалялось ли у него на дне души какое-нибудь крохотное убежденьице, маленький червячок, не околевший в свое время от сорного пшена. Хотелось иногда пойти на площадь и заорать: «Вы думаете, я ваш? К черту! Ничего подобного!» И даже намечено было место для крика: возле обелиска – лицом к бывшей гауптвахте. После крика кончилось бы благополучие. Крик откладывался: вот завтра закричу.
Однажды даже решился, так сказать, прорепетировать крик и заявил редактору:
– Вы знаете, рисовал я это со скрежетом зубовным.
– Мы вам, – ответил тот, – не за скрежет платим, а за рисунки, а рисунки ваши подходящие.
Степан Андреевич в конце концов даже стал проявлять признаки нервной болезни, выражавшейся в какой-то прилипчивости к креслу и в ненависти к сожителям по квартире. И вот тут-то пришло письмо от баклажанской тетушки Екатерины Сергеевны, которую он почитал давно умершей.
«Господь милостив, – писала тетушка, – и пути Его неисповедимы. Дядя твой умер в самом начале Петлюры, а мы пережили всякие ужасы, но вот живы, хотя и с трудом перебиваемся. Вера шьет платья и зарабатывает, а то бы мы вероятно умерли. Вот бы собрался к нам на лето, уж и не знаю, как были бы рады. Мясо у нас пять копеек фунт, курица сорок копеек, масло тридцать. А как у вас?»
Степану Андреевичу очень понравился тон письма, и еще было в нем нечто, придававшее ему какую-то солидность, он сначала не понял, что. Потом догадался: яти и еры, аго и яго и его (про бога) с большой буквы. У Степана Андреевича на летний отдых отложены были ресурсы. Он отряхнул прах (хотя захватил две неспешные рукописи на предмет снабжения их иллюстрациями) и поехал в Баклажаны.
* * *
От реки зелеными уступами кверху шел сад кошелевской усадьбы, обнесенный забором с дырами, вернее, дырами с забором, кудрявый фруктовый сад, где еще и теперь на деревьях висели давно заржавевшие бляхи с номерами и названиями, которых никто уже никогда не читал.
Обрубленные ветки, в разрезе закрашенные белою краскою, среди зелени круглились белыми пятнами, словно видимое отражение невидимого хозяйского глаза. Но гений и вдохновитель этой зеленой сени, Александр Петрович Кошелев, давно покоился на тихом баклажанском кладбище.
Степан Андреевич сорвал и съел сочный оранжевый абрикос. Подходя к террасе, услыхал он голоса и остановился под прикрытием величественной двухствольной груши.
Он сразу узнал голос Бороновского, хриплый щекочущий гортань голос, словно говоривший не догадывался прокашляться. Но говорил он восторженно:
– Посмотрите, Вера Александровна, как то облако, вон то беленькое, похоже на корабль. Сесть бы на этот корабль и все плыть и плыть и смотреть на голубое море. Солнце сияет, ветер такой, знаете, благоприятный, и все так нежно. А потом бы пристать к какой-нибудь тихой гавани, где на берегу много зелени. Я из деревьев больше всего люблю вербу. Сесть на траве под вербой у самого моря и смотреть, как парят над волнами чайки и альбатросы. Помните, как чудесно ответил Пушкину митрополит Филарет: «Не напрасно, не случайно…» А-а-а…
Какой-то страшный звук исторгся из горла, словно железные клещи вдруг сомкнулись на самой гортани. Степан Андреевич даже вздрогнул было, подумав, не затеяла ли Вера удушить разболтавшегося влюбленного, но тут же понял, что это просто кашель, страшный кашель, с мукой исторгаемый из самых недр существа.
– Вам вредно так много говорить, – сказала Вера спокойно и деловито. Она должно быть шила.
– Ничего… а-а-а… ничего…
Он долго молчал.
– Улететь бы, – заговорил он вдруг, только гораздо тише, – все бы страны осмотреть, со всяким человеком побеседовать. И почему нельзя этого?
– Кто же вам мешает.
– Один я никуда не улечу, Вера Александровна, а с вами хоть в подземное царство Плутона… Хоть на край света.
– А зачем мне идти на край света?
– Сели бы мы там на травку. Вы бы шили, а я бы на вас любовался.
– Я и здесь шить могу. Для этого не нужно отправляться на край света. Ну, а смотреть на меня вам бы скоро наскучило.
– Не наскучило бы, Вера Александровна, за это я могу вам поручиться. Ведь когда я о вас думаю только, у меня сердце так и замирает, словно с горы качусь. Удивительная вещь – любовь. Я где-то читал интересное объяснение. В старину были люди о двух головах, о четырех руках и о четырех ногах… И вот, представьте, что какой-то злой гигант разрубил их всех на две половинки и половинки эти расшвырял по всему миру… С тех пор одна половинка ищет свою другую и когда находит, томится любовью… Вы согласны, что в этом сказочном толковании есть кое-что справедливое?
– Что ж, по-вашему, я ваша половинка?
– Вера Александровна, разве я бы… посмел… а-а-а-а-кха.
– Вам помолчать надо.
– Да ведь нужно же мне сказать вам про любовь мою.
– Совсем не нужно.
– У мена тогда, Вера Александровна, грудь лопнет.
– Ничего у вас не лопнет. Все это глупости…
– Жестокая! Вы, вероятно, никогда не знали любви.
– Знала или не знала, а болтать об этом во всяком случае считаю лишним.
– Да ведь тяжело это, Вера Александровна, в себе таить. Поэты в таких случаях стихи пишут, и им после, говорят, легчает. Увы, муза меня не посещает, и таланта к стихотворству у меня нет, хотя в гимназии я недурно писал сочинения даже на отвлеченную тему. Ну, улыбнитесь, Вера Александровна, ну, скажите, ведь я не вовсе противен вам? Вам мена по морде бить не хочется?
– Ну, что вы говорите, Петр Павлович! Я никогда еще никого по морде не била.
– Куда же вы?
– За нитками.
На террасе стало тихо.
Степан Андреевич подошел к лесенке и остановился, удивленный. Стоя на коленях, Бороновский целовал пол, и – так казалось Степану Андреевичу – слезы падали из-под его бровей.
Степан Андреевич пошумел ветками жасмина, и Бороновский быстро, хоть с трудом, поднялся.
– А я, знаете… двугривенный потерял, – пробормотал он смущенно, – очень жалко, хоть деньги и ничтожные.
Степан Андреевич сел в плетеное кресло и замер в блаженном безделии. Давно еще Лукреций сказал, что ничего не может быть приятнее, как смотреть с тихого берега на тонущий в бурю корабль, или, сидя у спокойного очага, слушать повести о войне.
И Степан Андреевич ощущал, что для полноты блаженства ему нужно поговорить с этим человеком, нужно выслушать от него какое-нибудь жуткое признание.
– А вы, по-видимому, неважно себя чувствуете? – спросил он, и сам испугался слишком уж явной лицемерности своего тона.
– Да… по правде сказать, неважно. Болезнь уж очень разрушительная, хотя вот вы сами говорили, что один ваш знакомый поправился. Впрочем, когда-нибудь, выражаясь словами поэта, «мы все сойдем под вечны своды». А какие они, эти вечные своды, вот этого уж не откроет ни один литератор. Я, вы знаете, вообще очень интересуюсь этим вопросом. Смерть – поразительное явление. Взять, например, такого человека, как ваш дядюшка покойный, Александр Петрович. Какая это была энергичная личность… И как его все уважали у нас в Баклажанах… Вот уж, действительно, был судья нелицеприятный, и судиться у него любили самые закоренелые преступники.
– Он какую должность здесь занимал?
– Он был председатель съезда мировых судей. Большая должность – второе лицо в городе. А при этом он успевал я сад поддерживать, да как… Каждое деревцо смотрело именинником. Дорожки была все посыпаны песком, на всех склонах был посажен виноград, и он отлично вызревал и был не хуже крымского. С пяти часов летом он возился в саду, подстригал деревья, окапывал, прививки делал. А зимой работал на токарном станке. Вера Александровна тогда маленькой была, так он ей делал игрушки из дерева. Ну, просто поразительно, как в магазине. А сколько он читал, особенно про путешествия. Читает и непременно на карту смотрит, чтоб знать, где это. И он бывало говорил: «Я вполне доволен своею жизнью в Баклажанах, но мне приятно сознавать, что где-то есть, например, Нью-Йорк или Пекин». И вы знаете, он искренне расстраивался, когда какой-нибудь город, благодаря землетрясению, исчезал с лица земли. Такие города он всегда отмечал черным флажком. А как уютно было у них в доме, как он обо всем заботился! Когда Вера Александровна родилась, он в тот же день поставил в подвал ведерную бутыль вишневки и написал на ней: дочь Вера родилась тогда-то. Эту вишневку нужно было выпить в день ее бракосочетания.
– Ну, а где же теперь эта вишневка?
– Добровольцы выпили. Да. И хорошо, что он не дожил до всего этого. Ведь при Петлюре в этом саду стоял кавалерийский отряд в двести человек, и лошади деревья объедали. Один раз ворона сюда человеческий палец занесла. Поверьте, у мена сердце переворачивалось. Да… И вот такой человек вдруг умер, то есть перестал существовать, и его, словно вещь, закопали в землю. Прекрасно сказал на его похоронах наш владыко: «Вы зарыли только его плоть, но сам он остался среди вас, и если будет какая опасность, он вас предупредит». И был же какой случай: когда становилось здесь уже тревожно, Вера Александровна сидела и шила вечером в своей комнате. Окно в сад было открыто… И вот Вера Александровна услыхала, что кто-то позвал ее из соседней комнаты, и знаете, так настойчиво позвал. Она очень удивилась, потому что никого в той комнате не было, но все-таки пошла. А в это время позади нее вдребезги разлетелась хрустальная ваза. Кто-то выстрелил в окно из ружья, и пуля пролетела как раз там, где сидела Вера Александровна.
Бороковский умолк, очевидно, взволнованный рассказом.
Степан Андреевич почувствовал, что сердце у него вдруг сжалось от давно неиспытанного, настоящего дореволюционного мистического страха. Так, бывало, замирало оно, когда заглядывал он еще ребенком в детской за платяной шкаф.
Ощущение этого страха было так неожиданно и так приятно, что Степан Андреевич пожалел, что на террасе вдруг появилась его тетушка.
Это была маленькая, сухонькая, совершенно беззубая старушка с лицом, на котором застыло выражение восторженного умиления. Она была такая хрупкая, что Степан Андреевич, разговаривая с нею, всегда опасался свалить ее громким словом. Между тем, говорить проходилось громко, ибо Екатерина Сергеевна была уже туговата на ухо.
– Ну, вот, – сказала она, – сейчас будем чай пить.
Лицо ее изобразило вдруг безграничный, но восторженный ужас.
– Степа, – сказала она торжественно, беря Степана Андреевича за руку и подводя его к перилам, – я хочу тебя предупредить. Видишь, там в саду хлопец дерево трусит. Так знай, это Ромашко Дьячко, а это такой жулик, каких еще не было. Дьячки – наши соседи, мы им сад сдали за то, чтобы половину фруктов нам. Сейчас он с матерью, поэтому не бойся, но когда он один, знай, что он непременно все украдет. Ну, вот воронье крыло – дверь маслом смазывать, так он и крыло стащил. И отец его бьет, и мать, и дедушка. Будь с ним очень осторожен. Вон он ходит.








