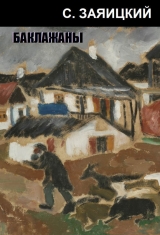
Текст книги "Баклажаны"
Автор книги: Сергей Заяицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Степан Андреевич увидал небольшого кудрявого хлопца, тащившего по саду ведро с абрикосами. За ним шла печального вида женщина в синем платке на голове, тоже с ведром.
– А еще, Степа, я должна тебе сказать: ты видел нашу Марью, которая на кухне готовит… Ну, так не верь ей… Что бы она ни сказала, знай – она лжет. Ну, вот сейчас утверждает, что я не говорила ей поставить самовар… А я ей повторила несколько раз… И так во всем… Я прямо говорю: Марья наш бич. Но мы не можем без нее. Она прожила у нас все эти годы, и к тому же в двадцатом году ее казак обидел, а ей лет уже немало… и потом мы ей ничего не платим…
Екатерина Сергеевна повернулась, споткнулась о кучку небольших булыжничков, сложенных возле перил, вроде тех булыжников, которыми мостят шоссе, и со стоном полетела на пол.
Степан Андреевич даже глаза на миг закрыл, ибо был уверен, что тетушка рассыплется на составные элементы. Но, не слыша звона осколков, он кинулся вместе с Бороновским ее поднимать.
– Вот глупые булыжники, – сказал он, – и зачем они тут валяются!
Он сделал было движение – пошвырять их в cад, но тетушка со страхом остановила его.
– Это Верины камни, – сказала она тихо, – надо их сложить.
– А вы не расшиблись, Екатерина Сергеевна? – спрашивал Бороновский.
– Нет, нет… коленку немножко, так от этого деревянное масло… Только камни надо подобрать.
– Да зачем Вере эти камни понадобились? – удивлялся Степан Андреевич, помогая складывать кучку у перил террасы.
Тетушка приложила палец к губам, ибо сама Вера Александровна появилась на террасе.
Нет не Вера, не Вера Александровна Кошелева вошла в этот миг на террасу, – то вошла шекспировская королева из самой торжественной и никем еще не читанной хроники, та самая, которая по прихоти какого-нибудь Генриха в наказанье появилась перед народом в веревочных туфлях и в платье из старой ситцевой шторы, но при этом так гордо закинула голову, что сам архиепископ кентерберийский устыдился своей шелковой рясы, а прочие разодетые дамы так и вовсе плакали навзрыд и громко каялись в постыдном своем кокетстве. Королева надменно несла свою величественную грудь, и сам Дон-Жуан при виде этой груди спрятал бы за спину цепкие свои руки.
– Самовара, конечно, еще нет? – спросила она насмешливо и прибавила, – бедный Степа… вы скоро раскаетесь, что заехали к нам… Вы будете погибать от голоду, но никто вас не накормит, вы будете умирать от жажды, но вам не дадут чаю… Вы теперь зависите от Марьи, бедненький Степа, а для Марьи не существует время.
– Вера, Верочка, – сказала Екатерина Сергеевна, – ведь ты же знаешь, что это наш крест…
– А то еще, Степа, ждите и того, что вам утром нечем будет умыться… Это, если Марьи не заблагорассудится налить с вечера воды в умывальник… Такой случай был с нами на прошлой неделе…
– Верочка, не надо… ты только себя мучишь.
– Нисколько я себя не мучу, – вдруг резко крикнула Вера, сверкнув глазами, – это ваше воображение, мама, что я могу из-за этого мучиться… Мне жалко вас и жалко Степу, который доверчиво принял наше гостеприимство. Сама я проживу на хлебе и на воде…
– Вы-то уж известная постница, – ласково сказал Вороновский.
– За известностью я не гонюсь, Петр Павлович, поэтому я не понимаю, о чем вы говорите.
Степан Андреевич быстро посмотрел на Вороновского и тотчас отвернулся, так ужасно задергалось и запрыгало его лицо. Словно дернули его за невидимую веревочку.
– Вы мене не поняли, Вера Александровна.
– Hy, что ж, если такая дура, что не понимаю простых слов, то лучше не говорите со мною… Xа, ха, ха…
Она именно просто сказала: «ха, ха, ха», – при чем в глазах ее вспыхивали и потухали зарницы.
В это время дверь с шумом распахнулась, и на террасу ввалилась с самоваром в руках старуха с лицом средневековой ведьмы, в страшно грязном платье, так что, казалось, вылезла она прямо из помойки. Самовар шипя влек ее за собой; и, наклонившись вперед под углом в сорок пять градусов, она шла вопреки всем физическим законам о центре тяжести. Она с треском поставила самовар на стол, поправила конфорку, вытерла нос пальцами, а пальцы о подол юбки, все это при полном и торжественном молчании окружающих, и затем, добродушно перекосив лицо в улыбку, прохрипела басом:
– Самовар поспев, можно чай пити.
Затем она подошла к лестнице, поглядела с интересом в сад, опять вытерла нос, потом попробовала, прочно ли стоит самовар, и наконец ушла, подняв с полу какую-то соринку.
Зловещее молчание проводило ее.
– Мне больше всего нравится, – проговорила Вера, – что Марья даже не раскаивается в своей лжи… Соврать для нее все равно, что для другого чихнуть… Совесть ее нисколько не мучит… Ей, например, и в голову никогда не придет попросить прощения… По-моему, мама, она просто не верует в бога.
– Ну, что ты, Верочка…
– Христиане, мама, не лгут, а если и лгут, то потом каются…
– И она раскается…
– Ну, полно об этом… Вы, Степа, лучше расскажи те про Москву.
Степан Андреевич рассмеялся.
– Подождите, дайте опомниться… Я чувствую себя здесь, ей-богу, марсианином… Последнее мое воспоминание о Москве, это пионеры, идущие с барабаном по улице. А когда я сегодня утром вылез из вагона, первое, что я увидел, это платок бабушки Анны Ефимовны.
– А ты узнал платок. Это я тебе прислала, чтоб тебя в степи не продуло. Тебе его передал Быковский… Он хотя и еврей, но отличный ямщик.
– Как же не узнать этого платка! Когда мне было еще семь лет, я, бывало, садился у кресла бабушки и делал из бахромы косички… Одна косичка так и осталась на платке, я ее сегодня нашел, когда ехал…
– А в степи не холодно было? Ведь ты ехал очень рано…
– Ну, что вы! Жара страшная.
– А фаэтон у Быковского тебе понравился?
– Отличный фаэтон!.. Вот едем мы, едем, и вдруг этот самый Быковский сворачивает с дороги и срывает фуражку. И навстречу нам в шарабане мчится какой-то монах с белой бородой и вот в эдаком клобуке… Красавец такой…
– А, это владыко, – сказала Вера, зарумянившись от удовольствия, – он, верно, к Демьянову поехал… святить мельницу.
– Да, мне Быковский сказал, что это владыко… У нас в Москве тоже есть всякие архиереи, но они стараются проскользнуть как-нибудь незаметно, а этот едет, и видно, что он тут первое лицо… Один посох чего стоит…
– Да, наш владыко строгий и очень чтимый…
– Отличный владыко… Да. Все, все здесь совершенно не похоже на Москву… Ну, взять хоть ваш дом… Какие комнаты. Все на своем месте, старинное, крепкое. Я люблю основательные вещи. Уж если старик, так чтоб лет ста, если кресло, чтоб свернуться в нем калачиком, выспаться, отлежаться… Например, вот эта комната… Да таких комнат в Москве просто нет… Их давно перегородили на десять частей, и в каждом закутке поселили семью в пять человек… Честное слово!
Он в припадке восторга встал и зашел в комнату. Это была в самом деле очень большая и уютная гостиная с трельяжами и мебелью красного дерева. В углу стоял старый палисандровый рояль. Стены были увешаны портретами и гравюрами, – наследие бабушки Анны Ефимовны. В самом темном углу мерцала лампадка, и золотые ризы бледно сверкали. Маленький огонек напрасно силился затмить яркий день, напиравший из окон и дверей, а святые с неудовольствием, казалось, прятали в золоте свои черные лица.
– А во что превратились люди, – продолжал Степан Андреевич, выхода на террасу, – до чего все изоврались.
– Ну, враньем вы нас, Степа; не удивите… Так, как лжет Марья, никто не может лгать.
– Ну, Марья – простой, необразованный человек, а у нас врут профессора… А женщины? Как себя ведут женщины! Вы читали Нана? Ну, так Нана перед ними святая… Хоть мощи, открывайте… Пьют, целуются с кем ни попало.
Говоря так, Степан Андреевич как-то невольно и нечаянно облизнулся и смутился, и тотчас продолжал с нарочитым негодованием. Он увлекся своей моральной, в этот миг, высотой:
– Молодых девушек в обществе иногда рвет.
– От отвращения? – спросила Вера.
– Какое от отвращения! От вина. Я, например, Вера, смотрю на вас и восхищаюсь. Вы ведете свою линию от тех русских женщин, которых воспевали старые поэты. У вас есть костяк.
– Да, Вера худеет, – сказала со вздохом Екатерина Сергеевна, разливавшая чай, – прежде ты бы у нее ни одной косточки не прощупал.
– Мама, вы уж дайте Степе рассказывать, замечания ваши не всегда бывают удачны.
– А семья? У нас нет семьи… Женщины не рожают детей, чтоб иметь возможность пить вино и кривляться в театральных студиях. Какая-нибудь девчонка, научившаяся произносить монолог, стоя на голове, уже считает себя второй Саррой Бернар… Одна мне сказала: «Я не могу иметь семьи – семья, это тенета на крыльях гения». Понимаете, никто не живет первыми интересами. Пошлейшая клоака… Потом, вот вы недовольны вашей Марьей. А знаете, какая у нас в Москве прислуга? Отработала свои восемь часов, и в кино или на какое-нибудь заседание. Честное слово! Хозяйка за ней, как за барыней, убирает.
– Я бы такую прислугу сразу вон выгнала, – сказала Вера, сверкнув глазами, – глупые хозяйки.
– Боятся. Профсоюз. Чуть что – в суд. Ну, просто безобразие! Вот вам: «мы наш, мы новый мир построим».
– Осторожнее при Петре Павловиче, – сказала Вера, – он спит и видит стать большевиком.
– Вера Александровна, уж это нехорошо.
– Конечно, вы вчера еще кричали: искусство устарело… Не надо нам ни Сурикова, ни Айвазовского, подавай нам футуристов.
– Вера Александровна, а не то говорил. Я говорил только, что когда я в четырнадцатом году был в Москве, то у Маяковского был талант и какая-то искорка.
– Петр Павлович и в бога не верует.
– Вера Александровна, вы на меня клевещете… Я пантеист вроде Спинозы…
– Ну, уж не знаю, в роде Спинозы или не в роде, а постов вы не соблюдаете.
– Я не могу по состоянию здоровья.
– Крепко же вы веруете… Ну, скажите, Степа, как у вас в Mоскве относятся к Петру?
– К какому Петру?
– К блюстителю патриаршего престола.
– А к нему… прекрасно относятся.
Наступило молчанье.
Степан Андреевич впервые услыхал, что Петр блюдет патриарший престол. Ему представился этот престол в виде огромного золотого с бархатом кресла, и как нарочно лезло в голову дурацкое: ходит вокруг кресла их бывший швейцар Петр в золотой рясе и ловит моль – блюдет престол патриарший…
Небо между тем становилось бледнее и на земле сгущалась зеленая тень – к шести часам шло дело.
– А что еще очень забавно после Москвы, так это украинский язык. Во-первых, от «и с точкой» я за эти семь лет вовсе отвык.
– Почему отвыкли?
– Да ведь теперь его не пишут…
– Не знаю, как другие, а я пишу.
– У нас нельзя… Все перешли на новое правописание, даже ученые. И это ведь, знаете, еще Мануйлов вводил. Но украинский язык пресмешной. На вокзале в Харькове, например, театральная афиша: «Ехидство и коханье». Как вы думаете, что это такое?
– «Коварство и любовь», – сказала Вера, даже не улыбнувшись, – если язык наш для вас смешон, так это потому, что вы его не знаете. А для украинцев смешон русский.
– Вы говорите «ваш», разве вы украинка?
– Я родилась в Украине и всю жизнь в ней прожила… И я знаю одно, Степа, – большевики к нам из Москвы пришли, заметьте это.
– Вера Александровна великая самостийница, – вставил, улыбаясь, Бороновский, – при Петлюре она все флаги вышивала – голубые с желтым.
– Да, конечно, если разобраться, то язык, как язык… но…
– Но заметьте, Вера Александровна, – проговорил ласково Бороновский, – что, например, богослужение на украинском языке не прививается. Вот моя соседка хуторянка прямо говорит: «Не гоже на храме, як на базаре, калякати».
– Это какая хуторянка? Дарья Дыменко?
– Ну да.
– Так она же дура. Вы, Петр Павлович, удивительно умеете хорошо подбирать примеры… Вы, должно быть…
И вдруг Вера умолкла и напряженно стала прислушиваться.
Словно шел кто-то по саду, бормоча, или хрюкая, или даже напевая тихо в нос.
– А ведь это Лукерья идет, – сказала Вера, изменившись в лице.
Екатерина Сергеевна вся как-то задрожала и поставила на стол недомытую чашку.
И тут все увидали у террасы медленно передвигавшуюся уродицу с перекошенным лицом – казалось, запихала она за щеку целое яблоко. Глаза смотрели бессмысленно, за плечами болтался баул. При каждом шаге нищенка опиралась на посох, который словно втыкала в землю, а потом подтягивалась. Сквозь изодранное платье желтели куски немытого тела. Уродица остановилась, вкопав в землю посох, и затянула гнусаво: «Подайте, мамуся, подайте, татуся».
Степан Андреевич не успел опомниться. В следующий миг Вера кинулась к куче камней и принялась швырять их в нищенку, отбиваясь от Петра Павловича, который хватал ее за руки, а уродица мчалась по саду быстро, как газель, размахивая посохом и подобрав юбку на пол-аршина выше колен. Один камень таки угодил ей в мешок.
– Пустите, я убью ее! – крикнула Вера и так рванулась от Петра Павловича, что тот налетел на стол, и самовар заплясал на нем вместе с чашками.
Екатерина Сергеевна стояла, сложив молитвенно руки. Степан Андреевич не знал, что делать.
Вера вдруг поглядела на него, и лицо ее покрылось пятнами.
– У меня с этой подлой счеты, – сказала она и захохотала и хохоча выкрикивала: – Вы видели, как она бежала, как бежала… Как бежала…
И все хохотала, и слезы градом текли у нее по щекам, и, наконец, вскочив с кресла, кинулась она в комнаты, а за нею Екатерина Сергеевна, споткнувшаяся о порог и подпрыгнувшая при этом чуть не на целый аршин.
– Что такое? – пробормотал Степан Андреевич. – Она с ума спятила!
Бороновский, бледный, как воск, хотел улыбнуться, но подбородок у него вместо этого запрыгал во все стороны и челюсть застучала, как при ознобе.
– Эту нищенку в прошлый раз Вера Александровна прогнала, а та ей издали показала дулю… Ну и вот… Вера Александровна очень вспыльчивый и самолюбивый человек.
– Что же, она эти камни для этого и припасла?
Бороновский ничего не ответил, а запахнулся в пиджак и все стучал челюстью.
– Простите, – сказан он, – я домой пойду… Мне что-то холодно… У меня к этому времени жар повышается… Немножко я пересидел свое время…
Он ушел на цыпочках, беспокойно оглядев окна белого домика. Степан Андреевич тоже ушел с террасы.
«Странные люди, – думал он, – какие-то бешеные темпераменты».
И опять ощупал в кармане чулочки.
На дворе, между двумя пустыми ведрами, сидел хорошенький хлопец и забавлялся тем, что засовывал себе в нос стебелек. При этом он чихал и хохотал от удовольствия.
Перед ним стояла старая Марья, словно, аист, на одной ноге и скребла рукою пятку другой ноги, обутой в грязь и мозоли. Два пса вертелись тут же и валялись в траве, рыча от восторга.
У хлопца были очень славные курчавые волосы.
Степан Андреевич подошел и хотел потрепать его по голове, но тот отскочил вдруг и схватился за уши.
– А вже ж вы его не бейте, – сказала Марья добродушным басом, – це хлопец добрий…
– Да я его не собираюсь бить… Хотел по голове потрепать… Больно кудрявый…
Хлопец улыбнулся и зарделся.
– Вот что, – сказал Степан Андреевич, – на тебе полтинник, сбегай за папиросами, тут на углу лавка… А то я что-то себе сандалией ногу стер… На пятачок можешь себе конфет купить, а остальное принеси.
– О, спасибо, – сказал хлопец, и у него даже видно дух захватило. Он побежал.
Марья между тем переменила ногу и принялась скрести другую пятку.
Степан Андреевич пошел в отведенную ему комнату.
Это была чистая, большая, выбеленная, с крашеными полами комната. Окна выходили прямо в сад, мебели было немного: кровать, кресло, стол и зеркало в простенке между окнами. Все это было прочное, старое, без обмана. Еще на стене висела странного содержания большая картина: дохлая крыса на талом снегу, придавленная кирпичом.
У Степана Андреевича вдруг сказалось дорожное утомление. Мысли спутались. Он скинул сандалии, лег на постель и заснул так сразу, словно провалился в какую-то яму.
Часть 3
Экстренная неудача
Он проснулся, не понимая, где находится.
Кто-то тихо тыкался вокруг него в темноте на фоне двух больших зеркал, где отражались какие-то серебряные снега.
– Проснулся, Степа, – послышался голос Екатерины Сергеевны, – неужто я таки тебя разбудила?
– Помилуйте… серого сна вполне довольно, – пробормотал Степан Андреевич, еще не вполне очухавшись. Слово «серый» резнуло его своею нелепостью, и он сразу проснулся. Он увидал, что за зеркала он принял окна, за которыми застыл облитый лунным сиянием сад.
Он зажег свечу и надел сандалии.
– А у нас сидит Пелагея Ивановна, – умиленно говорила Екатерина Сергеевна. – Ну и заспался же ты… Я ко всенощной ходила и уже вернулась… Завтра ведь Казанская.
– Да, да… правда.
– Пойдем ужинать… Пелагее Ивановне интересно будет с тобой познакомиться. У нее в Москве есть знакомая…
– А кто это Пелагея Ивановна?
– Матушка… нашего приходского батюшки, отца Владимира, жена.
– А что Вера успокоилась? – спросил Степан Андреевич, зевнув и равнодушно приглаживая рукою пробор.
– Помолилась и успокоилась. Господь ее не покидает… А то с ее нравом просто беда была бы… Но молитва сохраняет… Ты ей только уж не напоминай про Лукерью. И ведь какие наши собаки подлые. На заказчиц Вериных лают, а на нищих хоть бы разочек тявкнули, ну, словно пропали – не лают, и все тут.
Они вышли в сад и пошли к светлому пятну террасы, желтевшему среди лунного серебра. Где-то на реке пел громкий и стройный хор, словно в опере «Черевички».
Подходя к террасе и еще не вступая в полосу ее света, Степан Андреевич в изумлении остановился.
– Кто это? – спросил он тихо, кивая на внезапно явившееся, озаренное лампой виденье.
– А это и есть Пелагея Ивановна, – сказала тетушка, – ты погляди на нее, она очень миленькая.
Попадья что-то говорила, наставительно подняв пальчик. Вера, склонившись над работой, молча слушала и усмехалась. Степан Андреевич с нарочитым эффектом внезапно появился в полосе света. К его изумлению, увидав его, матушка мало проявила удивления. Она слегка поджала губки, протягивая ему свою прекрасную с родинками руку, словно хотела сказать: «За спасение благодарю, а целоваться было довольно нахально».
– Вот позвольте вас познакомить, это мой племянник Степан Андреевич, покойного Андрея Петровича сын… А вот это Пелагея Ивановна Горлинская, отца Владимира супруга… Вы ведь, кажется, Пелагея Ивановна, интересовались про свою подругу узнать, ну, так расспросите… Степа, я думаю, не откажется сообщить вам все, что знает…
– Боюсь, что я обману в данном случае ваши ожидания, – любезно проговорил Степан Андреевич, чувствуя, как слабеют его коленки от красоты попадьи. – Москва так велика и обширна, а порядка в ней нет.
– Моя подруга живет на Таганке, Дровяной переулок, двадцать второй дом.
– Дровяной переулок… гм. Я живу на Плющихе.
– Ее фамилия Свистулька… Татьяна Романовна.
– Свистулька? – переспросил Степан Андреевич.
Должно быть, Вера усмотрела в его тоне что-либо обидное, ибо, подняв голову, спокойно сказала:
– Покойный Свистулька, ее отец, был большой друг папы и здешний земский начальник. Мы его очень любили и уважали.
– Ну, я же не сомневаюсь, – поспешил сказать Степан Андреевич, ибо начинал Веры побаиваться, – к сожалению, – обратился он к Пелагее Ивановне, – я ничего не могу сказать про вашу свистульку.
Ну, конечно, Степан Андреевич хотел сказать «подругу». Язык, как говорится, подковырнул скверный оборотец, но тут помогла неожиданно тетушка.
– Наши здешние фамилии и впрямь странные, – сказала она, – ну, вот хоть пекарь здешний, огромный дядько, с эту дверь, а фамилия его Фимочка. Я раз зашла к водовозу насчет воды, а жена водовоза мне и говорит: он, говорит, на сеновале с Фимочкой.
– Мама, – сказала Вера, – я уже говорила вам, что ваши рассказы не всегда бывают удачны.
– Таганка очень далеко от Плющихи, – сказал Степан Андреевич, – да и потом в Москве столько народу. Разве всех можно знать… Вы в Москве изволили бывать?
– Нет, не приходилось. А в Харькове я бывала.
– Вы коренная баклажанка?
– Мы с Пелагеей Ивановной в Баклажанах родились, – сказала Вера, – и в Баклажанах умрем… Я, по крайней мере, непременно умру в Баклажанах.
– Верочка, ну, к чему это… на ночь.
– Да ведь я, мама, не вечный жид. Когда-нибудь умру. Вы, Cтепа, как относитесь к смерти?
– Не люблю. Сегодня на берегу реки…
– До свидания, – сказала вдруг Пелагея Ивановна, – я вспомнила про одно дело.
– Да полноте, дайте рассказать Степе, – с удивлением вскричала Вера, – какое у вас дело?
Пелагея Ивановна молча села, но глазки ее стали строги.
– Сегодня на берегу реки мы беседовали об этом с вашим приятелем и решили, что – да здравствует жизнь, но, конечно, жить надо умеючи. Между прочим, у вас тут русалки не водятся? У вас ведь тут Полтавщина… Русалочье гнездо. Сам Днепр недалеко.
Степан Андреевич вдруг почувствовал, что пьянеет, так сказать, на глазах у почтеннейшей публики, и хоть глупо было пьянеть без вина, и он это сознавал, а все признаки опьянения были налицо, и хотелось выкинуть что-нибудь и болтать без конца умиленную чепуху, хотя бы и при неодобрительном молчании собеседников.
– А скажите, – воскликнул он вдруг, неожиданно даже для себя громко, – у вас тут в Баклажанах фокстрот процветает?
– Фокстрот, – произнесла Вера удивленно, – это что такое?..
– Как, вы не знаете? Ну, я же говорил, что вы женщина, воспетая Некрасовым или Тургеневым… А вы, Пелагея Ивановна, тоже не знаете?
– Это танец такой, – конфузливо прошептала та.
– Ага! Вы таки знаете! Да, это танец… Но это не простой танец вроде какого-нибудь там па-де-труа или венгерки… О, это знаменитый танец… Этот танец танцует сейчас весь мир, его танцуют миллиардеры на крышах нью-йоркских небоскребов, танцуют до того, что валятся с небоскреба прямо на улицу и, не долетев вследствие высоты, разлетаются в порошок, которым потом пудрятся все их родные по женской линии… Думаете, преувеличиваю? Ей-богу… его танцуют убийцы в притонах Сан-Франциско, его танцуют парижские модистки и английские леди – правнучки Марии Стюарт… Это Danse macabre[2]2
Пляска смерти (фр.)
[Закрыть] великой европейской культуры, это грозный танец, его боятся даже те большевики, которые ничего не боятся… У нас в Москве танцующий фокстрот считается контрреволюционером.
– А какое в нем па? – спросила Екатерина Сергеевна. Ей, должно быть, при этом вспомнился институт, где когда-то стучала она ножкой, откидывая докучливую пелеринку, может быть, вспомнился и какой-нибудь старичок танцмейстер, который большую часть урока проводил, сидя на полу, рукою переставляя непокорные каблучки и восклицая: «Эх, дите, вам бы две телячьих ноги с боку привесить».
– О, па самое простое и в то же время очень трудное.
– А как держатся?..
– Я вам сейчас нарисую…
И он быстро набросал на Вериной папиросной бумаге пару, танцующую фокстрот, явив при этом всю свою рисовальную технику. По привычке даже поставил две буквы С. и К. Пожалел, что никто не уплатит гонорара… А может быть, и будет оплачен рисунок особой валютой?
– Да ведь они лежат? – сказала удивленно Екатерина Сергеевна.
– Нет, вы, тетя, смотрите сбоку… Вот отсюда надо смотреть на рисунок…
На секунду умолкли все, а Степан Андреевич пытливо смотрел на склоненную золотую головку. А там, в саду, совершалось загадочное таинство украинской ночи, и, должно быть, это она так пьянила.
– И красивая музыка? – спросила Вера, отстраняя рисунок.
– Хотите, сыграю…
– Сыграйте… Вот хорошо иметь двоюродного брата – и художника и музыканта… По крайней мере, просветит нас.
– Я еще и член общества спасанья на водах! – брякнул Степан Андреевич, идя в комнату.
Степан Андреевич прошел в гостиную, где теперь без всякой уже конкуренции мерцала неугасимая. И лики святых были спокойны, ибо молитва – ночное дело.
Свет падал на клавиатуру рояля. Террасы отсюда не было видно, но Степан Андреевич сквозь стену чуял – насторожилась. Он, все еще пьяный, тронул клавиши…
У большого святого был поднят палец, словно святой приготовился слушать и просил не мешать. Степан Андреевич подмигнул ему. Печальными и мерными синкопическими скачками помчались на террасу звуки, и должны они были по заданию поглощаться сердцем блондинки и таять на этом сердце, как снежинки на горячей ладони. А перед Степаном Андреевичем, вдохновленным и пьяным, развернулся огромный ночной мир, и казалось ему, что сидит он в какой-то таинственной калифорнийской таверне, где прислуживают нагие красавицы и улыбаются пунцовыми губами, а он плачет, отшвырнув в сторону соломинку и разлив пунш, плачет, как гимназист, о тихом баклажанском саде, о нежной блондинке, на любовь ему не ответившей. И уж слезы туманили его глаза, а он все играл, и уж сердце его замирало от тоски и непонятных желаний, а он все играл, и внимательно слушал его, подняв черный палец, святой в золотой ризе.
И, бросив в ночь три громоподобных аккорда, которыми полагал добить робкое баклажанское сердце, кинулся он на террасу.
И что же он увидал? На том стуле, где он только что сидел, теперь сидел худой священник с острым, как бритва, лицом, с большим шрамом над правой бровью и жидкой мефистофельской бородкой.
Атрибуты священства – соломенный полуцилиндр и длинная палка – лежали на столе.
Священник говорил, а три женщины внимательно его слушали.
– Степа, познакомьтесь, это отец Владимир, – сказала Вера, – вы только послушайте, что он рассказывает.
Священник встал и низко, но с достоинством поклонился, протягивая руку. Потом сел и продолжал прерванный рассказ:
– Тогда все…
– Простите, отец Владимир, – перебила Вера, – Степе будет интересно услыхать сначала… Не правда ли, Степа, да и мы выслушаем с удовольствием второй раз.
Степа молча и робко кивнул головой.
– Дело в том, что завелся тут у нас обновленческий епископ, некий Павсихий, – быстро и с украинским акцентом заговорил священник, – человек беспринципный и пронырливый. У него и брат коммунист, и в Москве связи. И он пожелал отслужить в прошлое воскресенье литургию в Щевельщине… у нас тут монастырь такой – Щевельщинский… Женский монастырь. Монахини встретили его с большим неудовольствием, но игуменья по слабости литургию ему служить разрешила, а сама, отговорившись болезнью, в храм не пошла. Однако щевельщинский благочинный, человек старый, прямой – спину не гнет ни перед кем – служить с ним не стал и храм покинул демонстративным образом. И весь народ тогда вышел за ним и все монахини, и Павсихий служил в пустом храме, а когда вышел из храма, то многие женщины принялись кидать в него молодой картошкой и даже сшибли с него клобук.
Вера радостно сверкала глазами, Пелагея Ивановна улыбалась довольно, Екатерина Сергеевна умиленно захватила губою губу – и все молчали. А в саду все совершалось и совершалось таинство ночи.
– Ну, Пелагея Ивановна, пойдем домой, – сказал священник. – Завтра большой храм.
– Владыко у вас служить будет?
– А як же. Дал свое согласие по примеру прошлых лет. Мое почтенье.
Степан Андреевич простился, но поцеловать руку Пелагее Ивановне не решился.
Вообще он чувствовал себя так, словно учинил некое безобразие, о котором все по вежливости умалчивают.
Вера пошла проводить до ворот, а Екатерина Сергеевна сказала тихо:
– Отец Владимир хоть и молодой человек, а не уступит иному старому: он после двенадцати евангелий до самой светлой заутрени ничего не вкушает… Постом Великим на него смотреть страшно… Говорят, на страстной седмице вериги носит…
Она смяла фокстротный рисунок и принялась им стирать со стола крошки.
Степан Андреевич машинально полез в карман за папиросами, но, нащупав чулки, отдернул руку. Тут он вспомнил:
– Что же хлопец-то мне папиросы не принес? – сказал он.
– Какой хлопец?
– Тут я дал одному мальчишке на дворе… который абрикосы собирал.
Екатерина Сергеевна молитвенно сложила руки.
– Да ведь это ж сам Ромашко Дьячко, – воскликнула она, – ну, я же тебя предупреждала… Украл он. Украл твой полтинник.
– Что такое? – спросила Вера, поднимаясь на террасу.
– Вообрази, Степа дал полтинник Ромашке Дьячко.
– Я послал его за папиросами.
– Ну, что же, Степа, одним полтинником будет у вас меньше.
– Нет, Степа, ты не беспокойся. Я это завтра же выясню…
– Да я не беспокоюсь; я думаю, что он еще принесет папиросы…
– Он?
Вера тихо рассмеялась.
– Ваша доверчивость, Степа, достойна похвалы, а полтинника вы все-таки не увидите.
– Ну, как-нибудь обойдусь.
– Вы, мама, должно быть, не предупредили Степу?
– Предупредила, Верочка, предупредила.
– Я спать пойду, – сказал Степан Андреевич, ибо надо было как-нибудь кончить беседу. – Покойной ночи.
– Покойной ночи… Не плачьте о полтиннике, а в другой раз будьте осторожнее… и еще Марье не верьте… Марье у нас только мама верит.
– Верочка! И не грех тебе? Ну, когда же я Марье верю?
Неподвижен был сад, весь серебряный, с черными тенями, а луна, яркая, как солнце, разогнала на самый край неба бледные звезды и, казалось, обижена была, что ей предпочитают полтинник.
Степан Андреевич после фокстрота испытывал жуть, знакомую музыканту, который соврал в самом важном месте на многолюдном концерте, или писателю, который в уже напечатанной книге обнаружил непоправимую нелепицу: герой, все время называвшийся жгучим брюнетом, под конец дарит возлюбленной свой золотистый локон.
И ведь бывают, и ведь бывают такие случаи.
Не найдя свечи, он разделся в темноте и лег спать с открытым окном. Лежа, он задумался, но мысли, его обуревавшие, не были привычными московскими мыслями. Он был в каком-то странном недоумении и никак не мог соотнести себя со всеми этими людьми. Конечно, думал он, это должно случиться со всяким, кто попадает в совершенно новую обстановку. Что бы было с ним, если бы он вдруг попал, скажем, в Париж? Париж и Баклажаны. Гм… И однако, было какое-то легкое и очень глухое раздражение, такое смутное и неопределенное, что Степан Андреевич отнес его к не совсем удобной кровати. Он поэтому даже встал и перебил сенник, заменявший матрац. Какого черта притащился этот поп! Впрочем, Степан Андреевич тут же сам на себя нахмурился за эту мысль. Это человек идейный и достойный уважения. Таких надо ценить и беречь. Да-с. Да-с.
– Ты еще не спишь, Степа? – проговорил тетушкин голос в окно. – А я нашла способ, как твой полтинник у Ромашки выудить. И Вера мой способ одобрила. Ну, спи. Христос с тобой. Но какой же это мошенник!
Она ушла, и теперь была за окном только та самая украинская ночь. Самая первая и самая непримиримая самостийница.








