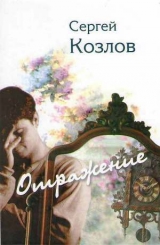
Текст книги "Отражение"
Автор книги: Сергей Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Казалось бы, «Отражение» – история взаимоотношений двух братьев-близнецов, судьбы которых мистическим образом переплетаются, сталкиваются и дополняют друг друга. Но это не просто семейная история... Действие книги разворачивается в России 1990-х годов, когда мало кто понимал, что вообще происходит в стране. «Отражение» – взгляд автора назад, взгляд, исполненный боли и переживания за свою Родину.
Сергей Сергеевич Козлов
ОТРАЖЕНИЕ
роман
Как будто в мнимом бытии,
В существовании условном,
Проистекают дни твои
И нет конца и края оным.
И ты, как собственный двойник,
Чумной, беспомощный, неправый,
Бредешь в повапленный тупик
Через развалины державы.
И чуешь – далее нельзя,
И шиты белым злые козни!
Но сам собой, юля, скользя,
Вползает в мир порядок косный...
Михаил Федосеенков
Глава первая
ТАЙНА РОЖДЕНИЯ. СЕМЁН
1
Путник замер на дороге, глядя в темную глубину неба. Медленно, будто тонула в стоялой воде, падала звезда и упала где-то за едва различимой грядой сосен и кедров на недалеком холме. В такую ночь даже звезды падают не на счастье, а от холода.
Еще некоторое время путник оставался недвижим. Прислушивался. В стылой лесной чаще сухими одиночными залпами отстреливались от мороза деревья, или, казалось, что кто-то сквозь бурелом, увязая по пояс в снегу, пробивается на дорогу. Да и дорога-то – петляющая просека: с обеих сторон, вспенивая на обочине сугробы, наступали на нее седые от мороза сосны и ели, а видна она была только потому, что текла по ней в эту ночь бледно-желтая лунная тоска.
Там, впереди, небо и ночь слились. Дорога будто бы и вела в раскрывшуюся между хвойными стенами пропасть космоса, куда-то в самую сердцевину мироздания, забытую Создателем в звездной пыли.
Ночь многозначительно вымалчивала свою великую тайну. А, может, вся тайна и заключалась в том, что этой ночью центр мироздания располагался здесь, совсем рядом, стоит только немного сойти с дороги и углубиться в ночную мглу, в настороженно замерший лес, и нет для него более спокойного, более укромного и более скрытого от любопытных глаз места, чем одетая снегом и припудренная инеем величавая сибирская тайга. Или, может, так кажется любому, кто остановился в звездную ночь на лесной дороге, где ни встречных, ни поперечных, ни догоняющих; когда время, крадучись, замирает, чтобы услышать над своим приземленным течением размеренное на сотни световых лет дыхание вечности.
Белая сова метнулась быстрой тенью по лунной дороге, путник оставался недвижим. Он напряженно смотрел вперед, пытаясь что-то различить и услышать там, где зимняя ночь спаяла небо с дорогой. И едва уловимый скрип снега под чьими-то ногами донесся до его слуха. Этот кто-то шел навстречу, уверенно и ровно отмеряя шагами стылую ночную тишину. Звуки эти ни с чем другим спутать было нельзя.
Прошло несколько минут, прежде чем на доступном взгляду, освещенном луной пригорке замаячила человеческая фигура. И чем ближе она приближалась к ожидавшему, тем больше между ними обнаруживалось сходство. Начиналось оно с одежды, детально совпадающей на обоих вплоть до складок и пятен на пуховых зимних куртках и царапин на одинаковой обуви. Но более всего поразило бы увидевшего эту встречу полное совпадение лиц – до мельчайших черт, словно кто-то из них встретился со своим зеркальным отражением. Да и заговорили они между собой одним голосом, с одинаковой интонацией, одновременно – слово в слово, задав друг другу один и тот же вопрос:
– Зачем ты пришел?
И только соприкосновение их взглядов могло навести на мысль, что на пустынной зимней ночной дороге встретились-таки две разные сущности. При одинаковом выражении лиц, чуть надменном прищуре глаз, излучаемые ими взгляды были разными, точно имели разнополярные заряды.
Некоторое время они стояли молча, словно пытались переглядеть друг друга, или заглянуть глубже. Ведь не зря толкуют, что глаза – это зеркало души. Никто из них взгляда не опустил, просто пришедший на это место вторым отступил на шаг, деловито приосанился и изменил изучающее выражение лица на покровительственно-недоступное.
– Ты все равно ничего не сможешь сделать, ничем не сможешь мне помешать или навредить, так что шел бы ты, Семен, восвояси да подобру-поздорову. Махать кулаками нам не имеет смысла – предсказываю боевую ничью. Ты пораскинь мозгами: я же тебе не мешаю, живи себе, наслаждайся... Вроде как – нам даже на этой дороге не тесно. Все в прошлом, не так ли?
Сказано это было в примирительном тоне настолько, насколько он может звучать из уст недоверчивого человека. Тот, кого он назвал Семеном, смотрел теперь на него без какого-либо выражения, кроме усталости от всего на свете. Он снял перчатки и совершенно незначительным движением достал из кармана куртки пистолет, направив его на своего двойника.
– А так? – только-то и спросил он.
Но двойник даже глазом не повел.
– Это, конечно, выход, но с той разницей, что, получается, стрелять ты будешь одновременно в самого себя. Этакое необычное самоубийство. Самый тяжелый смертный грех. Так что валяй, жми курок. Или желаешь перед этим исповедоваться?..
2
В длинной очереди на исповедь Семен никак не мог сосредоточиться, не мог отпечатать в уме стройную вереницу грехов, а надо было. Все путалось, одно наплывало на другое, и в результате он то рассеянно наблюдал за происходящим вокруг, то сосредотачивал взгляд на какой-нибудь из икон, то исподлобья следил, как отец Николай внимательно выслушивает многочисленных кающихся бабулек, чуть склонившись над Евангелием. Доносившиеся с амвона старушечьи грехи казались Семену наивными и даже смешными. Плохо подумала на соседку, в воскресенье в храм не пошла – стирку делала, недобрым словом помянула покойную золовку, в пятницу ела скоромное... А ведь каялись и плакали! И для каждой из них терпеливый отец Николай находил слова наставления и утешения, и каждая уходила с просветленным сердцем.
Очередь двигалась медленно. В правом приделе уже заканчивалась утренняя служба, и другой батюшка вошел в алтарь, дабы совершить все необходимое для причащения многочисленных мирян, получивших прощение у отца Николая. Семен посмотрел на часы и тут же устыдился своей суетности. Подумал о том, что и как он сам через несколько минут будет рассказывать отцу Николаю. Уж сколько ночей не спал, точно репетировал речь на Высшем Суде. И то раскаяние до слез, а слезы словно и не из глаз, а из самого сердца, которое нет-нет да и сожмется до боли и трепетания, а то и ропот от обиды на все вокруг, или зазвучит вдруг с пафосом и всей подобающей помпезностью оправдательная речь невидимого и гордого защитника перед такими же невидимыми присяжными. А разум и сердце, меж тем, вступают в спор – кому быть главным судией в раздираемом противоречиями внутреннем мире Семена Рогозина. Страсти покипят и улягутся, но облегчение не приходит. В душе, как после шторма, этакая мертвая зыбь, и темно-серые тучи – мысли проносятся над мутной водой, что поднялась с самых глубин. А покоится на дне этого моря горькое рогозинское одиночество. И уж если представлять его, то представлять огромным монстром-осьминогом, время от времени выбрасывающим свои липкие и сильные щупальца на поверхность, чтобы утопить в морских пучинах то одно, то другое – то потянуть за душу, то резануть по сердцу, то перемешать все напрочь в буйной рогозинской голове. Давно ли буйная-то стала?
С чего начать-то? Родился, учился, женился, пора умирать?.. Долгая история получится, если подробно. Подойти бы к отцу Николаю и сказать тихо, что нуждаюсь, мол, в частной и долгой исповеди, но Семен с детства стеснялся хоть о чем-то просить людей, даже если он имел на это право или острую необходимость. И если все же просить приходилось... И даже если исполнение его просьбы не составляло большого труда, пустяк какой-нибудь, у Семена непременно возникало навязчивое и месяцами не оставляющее его чувство обязанности по отношению к человеку, который ему помог. Больше всего он не любил просить у друзей.
Другое дело – Степан. Тому если надо – он выпросит, не выпросит, так выцарапает, не дадут – возьмет силой или украдет. И назовется Семеном...
3
Уже перед смертью мать рассказывала: когда была беременна, простудилась сильно. А лечиться как? Восьмой месяц. Ни тебе антибиотиков, ни тебе аспиринов. Короче, никакой химии. Вот и привела к ней соседка Алевтина деда-знахаря. Для городов да и во время развитого социализма это была большая редкость. Узнай об этом кто-нибудь на работе, засмеять не засмеяли бы, но на каком-нибудь очередном собрании могли выговорить. У них в городской библиотеке, где работала Татьяна Васильевна, такое любили. Мол, как же это так, Татьяна Васильевна, вы же должны нести свет просвещения советскому народу, знакомить его с лучшими произведениями классиков социалистического реализма, а сами до чего дошли? Это ж средневековье какое-то! в самой-то читающей стране! Вам доверили руководить читальным залом, вот и последние партийные решения у вас на стенде... Пожалуй, при хорошем разгоне да под горячую руку, да для идеологического воспитания коллектива могли и в должности понизить и выговор в трудовую впаять.
Врачи неотложки предложили срочную госпитализацию, но Татьяна Васильевна отказалась, о чем пришлось давать специальную расписку. Боялась больниц, в жизни не лежала. Была уверена – попадешь хоть раз на больничную койку, так и будешь там до самой смерти частым гостем. А больничных запахов и бледно-голубых стен на дух не переносила. «Скорая» уехала, и Алевтина, причитая, помчалась звонить знакомым, которые знали нужный адресок. Татьяна попыталась, было, возражать, но та отмахнулась: да не трясись ты за свою работу, что тебе беременной сделают?
Дед Андрей (сам так велел себя называть) в дом вошел так, будто каждый день здесь бывал, да и с Татьяной Васильевной заговорил, словно она ему близкая родственница.
– Что, прихворнула, Танюшка? – были первые его слова, при этом он как-то необычно ласково потянул ее имя на первом слоге. А как глянул на ее огромный живот, так и похмурел. Сел и долго молча покряхтывал, теребил бородку да позевывал. И Татьяна Васильевьвна совсем притихла, поняла, что скажет ей сейчас этот дед нечто важное, а, может, и не очень приятное. Дед же закрыл глаза и протянул над ней руки. Пошептал, позевал, даже, показалось, заснул совсем. Но потом вдруг встрепенулся, откашлялся громко и посмотрел на нее приветливо.
– За весь век ничего такого не видел. Два человека в тебе, Танюшка, это точно. Два младенчика... Но душа у них одна на двоих.
– Да как же это? – всплеснула руками за его спиной Алевтина.
– Откуда же мне знать? Я ж не ведаю, а просто вижу.
– И что? – тихо спросила Татьяна Васильевна.
– Если б все как в математике было, сказал бы я, что один из близнецов при родах умрет. Но этого-то я как раз и не вижу. А уж как одно на двоих поделят – одному Богу ведомо...
Татьяна Васильевна облегченно вздохнула. Будет у нее двое сынишек, а уж кому души не хватит – она свою отдаст. Да и правда ли все это?
Пришел полоумный дед, наговорил всякостей, нагнал тумана, а ты верь.
Дед Андрей улыбнулся:
– Оно, конечно, рентгену больше верят, – будто мысли прочитал, – но душу рентгеном не высветишь, не увидишь. А вот простуду твою мы быстро прогоним. – Потеребил бороду и ушел на кухню, где стал кипятить воду, чтобы заварить-запарить травы.
Как бы там ни было, а уже на следующее утро после отвара, приготовленного дедом Андреем, Татьяне Васильевне враз полегчало. Только-то и осталась от болезни слабость после жара. Дед навестил ее и на другой день. Принес клюквы на морс и еще пошептал над ней, позевал, порассказывал байки. А когда пришла Алевтина, засобирался уходить.
– Ну, далее не моя компетенция, а если понадоблюсь – адрес знаете.
Денег не взял. И ушел, пошаркивая, позевывая да плечами пожимая.
А ровно через месяц Татьяна Васильевна оказалась в роддоме. И все было, как полагается, и боли никакой сначала не почувствовала... Сначала. Это когда Семен на этот свет пробивался, да и не то слово – пробивался, легко шел, как по маслу. Никто ей не орал на ухо, мол, тужься. Так себе: разговоры вполголоса, даже слышно было как ходит туда-сюда под окном муж – совершающийся отец Андрей Георгиевич. И вдруг началось: резкая боль и первые крики врачей:
– Да как же это?!
– Он же обратно!
– Не может быть...
Понимала, что происходит что-то неладное, но что она могла? Только терпеть и ждать. А потом от боли и вовсе сознание помутилось. Когда стала приходить в себя, рядом с ней была только улыбчивая пожилая акушерка. Ее еще «наседочкой» в роддоме звали. Для таких, как она, рождение каждого младенца не работа, а праздник, оттого и была счастливее всех на свете. И, казалось, что скрыта в ее лучистых глазах вечная тайна рождения. Добрая тайна. И нашептывала она эту тайну обессиленным роженицам. Вот и над Татьяной Васильевной шептала ласково:
– Все у тебя хорошо, милая... Два малыша-крепыша. Но один – забияка немножко. Старшего, видать, отпихнул, обязательно захотелось ему первым быть. Да у нас тут пока что места всем хватает. Врач-то наш за двадцать лет практики ничего такого и не видела! Во как. Он-то тебе, неуемыш этот, больно и сделал.
– Значит, оба живые? – прошептала Татьяна Васильевна.
– А как же еще могло быть? – подчеркнуто удивилась «наседочка». – Лучше подумай, как звать их будешь. Щас-то не спутаешь, номерки у обоих, а потом?
Считать это обычаем, пожалуй, нельзя. Манера что ли какая-то – называть младенцев именами старших, прославленных хоть и на уровне семьи родственников? Голову они с Андреем ломать не стали, дали дедовские имена. У обоих на букву «С», да и имена, слава Богу, русские, без всяких там современных выкрутасов. Научных трудов о влиянии имен на судьбу человека они с Андреем не читали, святцев не знали. А деды их были вполне достойными людьми: оба войну прошли, трудились честно, награды имели, всю жизнь дружили и даже похоронены рядом.
Близнецы были довольны, сладко чмокали грудь и против дедовских имен не возражали. Андрей им даже свидетельства показал – вот, мол, полюбуйтесь, это вам не пустышку грызть, Семен Андреевич и Степан Андреевич!
Уж когда выходила Татьяна Васильевна из роддома с двумя попискивающими кулечками, подошла к ней «наседочка». Подошла без улыбки, вроде как маялась, сказать – не сказать, но все же сказала:
– Знаешь, Танечка, а Семен-то, когда родился, не дышал. Доктор наш – руки и голова золотые...
Наверное, Татьяна Васильевна очень побледнела, где-то в сердце оборвалось, в голову ухнуло.
– Да ты не пугайся, бывает ведь, будет, зато, потом о чем рассказать, подрастут когда, – и заулыбалась опять «наседка».
Знала она или тоже чувствовала? Да и действительно, чего тут бояться – малыши живы, здоровы, и муж счастливый с цветами встречает.
4
Росли одинаково. Все делали одновременно: ели, пили, писались... А над тем, что Степан с младенчества требовал себе одежду как у Семена, Татьяна Васильевна сначала смеялась. Ну где еще такое увидишь: если на одном близнеце ползунки красные, то и второй себе ревом неуемным такие же требует. Всю ночь будет орать, если что-нибудь у него не так, как у брата. С тех пор и повелось в семье Рогозиных покупать для сыновей все до мельчайших подробностей одинаковое. Накладно, конечно, но что поделаешь? А различать их не составляло труда: Степка свой характер вредный поминутно выказывал. Одну игрушку на двоих они никогда поделить не могли. Степка у Семы обязательно отберет или выревет, а тот сидит потом обиженный, но не плачет и к брату не лезет. Посидит-посидит, найдет себе другое занятие, но Степка и тут как тут. И друзья, и знакомые потом всегда им одинаковые игрушки дарили. На разные подарки в семье Рогозиных было наложено табу. Хочешь им неприятности доставить – подари мальцам разные игрушки.
В школу пошли не в один день. Степка вдруг приболел перед самым первым сентября, а Семена, на удивление, болезнь миновала, и первую неделю он ходил в школу один. Но стоило Степану войти в класс, как разразился первый школьный скандал: он непременно хотел сидеть на том месте, где посадили Семена. Никакие уговоры учительницы на него не действовали, а от громкого рева в кабинет прибежал напуганный директор. Думал – убился первоклашка.
Дальше – хуже: спросят на уроке Семена, Степан в слезы, мол, почему не меня, что я – хуже брата своего? И пришлось учителям волей-неволей принять рогозинские правила игры: к доске – так оба, если ставить оценки – одинаковые, если давать поручения – обоим, если наказывать...
А бывало чаще всего так: Степан напакостит, а назовется Семеном. Тому в дневник замечание пишут, он молчит, брата не выдает, но через минуту Степан сам свой дневник учителю приносит: напишите и мне, это мы вместе набедокурили.
А у учителя ни желания, ни времени нет разбираться, кто насколько в каждой мелкой шалости виноват, но оставлять ее без внимания из профессиональных соображений он не может. Вот и пишет замечания обоим, а там уж пусть родители разбираются. Правда, года через три такие номера уже не проходили, учителя научились их различать. Да и Степан посерьезнел. Даже захотел от своего брата отличаться: уж если не стандартной школьной формой, то хотя бы ботинками. И учиться пытался сам. Раньше все списывал у брата. Не потому, что сам не мог выполнить задание, а потому, что хотел, чтобы все у них одинаково было. Учителя могли себя не утруждать проверкой обеих рогозинских тетрадей. А тут вдруг вздумал Степан все делать по-своему. Не получалось – злился, замыкался в себе, уходил на улицу один, без брата, но упрямо добивался признания собственного «я», которое должно быть уж если и не лучше, то, по крайней мере, не хуже, чем Семино. Но в итоге все равно получалось, что ему оставалось только повторять достижения Семена. Обгонял он его только в уличных драках и прочих хулиганских выходках, потому что от природы был наглее и настырнее. Да и там, бывало, влезет в драку один против двух-трех, и Семен, сломя голову, бежит на помощь.
Между собой они дрались редко. Знали, что обречены на ничью. Хотя и здесь Степан иногда подличал. Уже помирятся, страсти улягутся, а он извернется – стукнет Семена и отскочит, лишь бы последний удар за ним остался. Этакая символическая победа. А Семен махнет на это рукой, отчего Степану только обиднее – нахохлится и уйдет на улицу, хлопнув дверьми.
Порой Татьяна Васильевна меж ними разрывалась, но старалась больше времени и ласки уделять Степану, пыталась помогать, учила с ним уроки, но тот принимал ее любовь за жалость к слабому и еще больше злился. Исходя из каких-то собственных, а то и дворовых соображений, он зачастую называл Семена «маменькиным сыночком». И все же до поры до времени в трудную минуту они были вместе.
5
– Мужчина, Ваша очередь на исповедь.
Семен встрепенулся. За плечо его слегка тронула стоявшая за ним девушка. Он даже не заметил, как очередь подвела его к амвону. Затуманенным взором посмотрел на девушку и сбивчиво то ли поблагодарил, то ли извинился:
– Ах да... Спасибо... Извините... Забылся... – шагнул на амвон. – Простите, батюшка, я не готов еще. Мог ли бы я прийти в другое время? Мне нужно многое рассказать...
Отец Николай пытливо посмотрел на мирянина. А Семен хотел прочитать в глазах отца Николая так нужное ему понимание. Священник был одного с ним возраста, может, лишь чуточку постарше. Пожалуй, каждый верующий в городе знал этого иерея, да и с ближних и дальних деревень съезжались к нему за советом и благословлением. Самая длинная очередь на исповедь всегда была к нему. И Семен встал именно в эту очередь.
Говорили, что у отца Николая есть дар прозорливости, но внешне это никак не выражалось, разве что – печать одухотворенности на лице. Он всегда находил нужные слова для своих духовных чад, умел поддержать в минуты сомнений, и на исповеди самые скрытные и легкоранимые души безбоязненно раскрывались перед его внимательным и немного печальным взглядом. Но главное – вокруг него не чувствовалось, не сквозило ощущение рутинной работы, доведенной до автоматизма, что нередко сопутствует многим священникам в переполненных ныне храмах. Он не работал, он жил этим. Божья благодать есть в каждом священнике, но Божий дар быть русским батюшкой, видимо, не во всех. У отца Николая этот дар был. Именно к нему ехал Семен в город своего детства, куда приезжал в последние годы только в отпуск или в командировки. И теперь, что-то остановило его в двух шагах от аналоя, на котором лежали Евангелие и крест.
– Придите после вечерней службы в понедельник... Если сможете. – И взгляд отца Николая уже устремился к девушке, стоявшей за спиной Семена.
– Хорошо... Я обязательно приду.
Выйдя из храма, Семен облегченно вздохнул. Утренний апрельский воздух и с детства знакомые улицы оживили воспоминания. На сердце было и радостно, и грустно, и легко, и тревожно, сердце звало... Куда?
Ах, город-город!.. Родной город. Как и десять, как и двадцать лет назад в конце апреля, пусть и не после коммунистического субботника, улицы и газоны чисты и опрятны. Стволы кленов и тополей окрашены у корня белой известью. Той же белизной сияют бордюры. И нет уже нигде грязных куч умирающего снега, в которых этикетками, пробками, окурками и прочей шелухой цивилизации оттаяло чрево прошедшей зимы. Газоны еще без травы и больше похожи на пограничную контрольную полосу, вдоль которой неровно волнятся следы метел. А небо над золочеными куполами немного пасмурное, будто весна с напускной суровостью вглядывается сверху – все ли готово к ее приходу. А не успевают, как всегда, грачи и галки, шумно суетящиеся в обнаженных скелетах старых тополей. Все остальные уже ждут. Ожиданием этим наполнен воздух, и как бы весна не пряталась за частые серые облака, за окна неумытых троллейбусов, не ускользала прохладным ветром в переулки, люди уже вдохнули ее неизменный, но по-своему тревожащий каждый год вкус новизны.
Семен бесцельно брел по старой улочке, ведущей на набережную. Там с обрыва можно увидеть проснувшуюся, но еще мутную, чуть помятую после зимней спячки реку. По этой улице они бродили, взявшись за руки, с Ольгой, и улица не кончалась.
Тогда казалось, что вообще ничто не имеет конца, а движение времени больше похожее на рывки, несет в себе добрую загадку бурного и многообещающего будущего. Именно добрую... И вот, кажется – еще рывок – и ты там!.. Теперь же можно лишь сесть на неокрашенную с тех пор лавочку близ наступающего обрывистого берега и попытаться увидеть, что еще, кроме несбывшихся надежд, унесла в себе тихая неторопливая река.
Снова, как в храме, кто-то дотронулся до рогозинского плеча.
– Простите, Вы обронили... – та же самая девушка, что стояла за ним в очередь на исповедь, протягивала ему платок.
Точно! Он мял его в руках и поминутно вытирал пот со лба – в храме было многолюдно и жарко. Видно, обронил.
– Спасибо, но не стоило. – Семен теперь уже внимательно посмотрел на девушку.
Она была младше его, наверное, на целый курс средней школы. Легкий плащ скрывал худенькую девичью фигуру. Дунет ветер с реки сильнее и унесет ее. Длинные белые волосы с каким-то небесно-голубым отливом, точеное, как у греческой богини, лицо, и серые, очень внимательные глаза. Красивая, стройная, молодая, и таких сейчас много – так отогнал от себя мысль о том, что она ему нравится, Семен Рогозин.
– Вы в порядке? – как-то по-голливудски поинтересовалась она, но тут же обрусела, – Что-то с Вами не так...
– Со мной – никак, – согласился Рогозин.
Из-за облака выглянуло солнце, и глаза ее из светло-серых стали вдруг пронзительно голубыми, а по распущенным волосам скользнули золотые искры. Почему он не заметил этого раньше? Ах да, в храме она была в косынке... Рогозин вновь поймал себя на мысли, что ему очень не хочется, чтобы она ушла в тоже «никуда», откуда так неожиданно уже во второй раз явилась.
– Мне кажется, я Вас уже видела раньше... Банально, но, может быть, правда.
– Может быть. Я жил в этом городе. Долго и, наверное, счастливо.
– Да нет, мне кажется, я видела Вас по телевизору. В город я приехала два года назад, учусь в университете, на психолога.
– Лженаука, но зато модная, – сказал и тут же сморщился от своей занудно-циничной категоричности. Нужно было прогнать с ее лица тень обиды и недоверия, и он прогнал: – Психологам нельзя быть такими красивыми. При общении с любым мужчиной Вы будете находить в нем массу комплексов и прочих объектов для своих исследований, а полученные результаты не будут соответствовать действительности.
– Из-за меня?!
– Разумеется. Так что к окончанию вуза Вам необходимо превратиться в малопривлекательную среднестатистическую даму в модных очках и строгом костюме.
– У меня хорошее зрение, – улыбнулась она.
– Психолог без очков, как футболист без мяча. А зовут меня – Семен.
– А мне почему-то подумалось – Сергей. Бывает так, смотришь на человека, и кажется, будто доподлинно знаешь его имя. Будто на лице написано...
– Издержки постижения психологических дисциплин.
– А меня зовут Наташа.
– А мне почему-то поверилось, что Оля...
Еще минута, и она ушла бы, и Рогозин, возомнивший, было, что сам Бог послал эту девушку в его жизнь совсем не для того, чтобы вернуть скомканный платок, уже мусолил стандартную мысль о приятном, но малозначимом эпизоде ее появления. И все же очень не хотелось, чтобы она исчезла вдруг навсегда в уличной суете. Но она и не уходила, хотя уже давно нарушила допустимые рамки общения с незнакомым человеком. Да кто их устанавливал – эти рамки?
– А Вы, если не секрет, чем занимаетесь?
– Не секрет, но долгая история, – сердце забилось только после ее вопроса. – В данный момент брожу по городу и питаюсь воспоминаниями. Но именно сейчас испытал жуткий приступ настоящего голода. Я три дня добросовестно постился. Даже курить бросил. Поэтому я предлагаю Вам составить мне компанию и отобедать в каком-нибудь жутко дорогом ресторане. Повод? Повод простой: я очень не хочу, чтобы Вы ушли сейчас в свое никуда, сославшись на массу причин, не позволяющих Вам продолжать наше знакомство, а в душе просто опасаясь немного странного и нагловатого незнакомца.
Лобовая атака. Ничего лучшего Семен не придумал. Слишком долго готовился в эти дни к искренности. Да и то не обошелся без витиеватого самолюбования в своей тираде.
– Вы похожи на благородного бандита...
– А Вы мне нравитесь. Очень...
Она смутилась. Также честно, как сказанная Рогозиным последняя фраза. Теперь она сможет уйти, и не будет ни малейшей зацепки, чтобы удержать ее.
– Ресторан? Как-то нелепо... После храма... Да уж, ресторан... Ничего лучшего в голову не пришло.
Слово «ресторан», как и «гастроном», и без того с детства вызывало у Семена малообъяснимое отвращение. Из-за своего утробного, чрево-рычательного «р», что ли? Теперь смутился Рогозин. Но Наташа пришла на выручку своему новому знакомому:
– Может быть, просто погуляем, а перекусим в каком-нибудь кафе по пути?
– Кто будет гидом? – обрадовался Семен.
– Попеременке...
6
Ольга. Она тоже ворвалась в жизнь Семена с весенним солнцем и распущенными по ветру волосами.
Это было еще в школе. Старшеклассники обычно курили на больших переменах в углу школьного двора, где размещались всяческие вспомогательные постройки: гараж, хозяйственный склад, трансформаторная будка... Подальше от суровых глаз военрука, берущих на заметку физкультурников и укоризненных речей директора. Там же проходили школьные разборки и драки, туда приносили последние новости и анекдоты, там, во время школьных вечеров, потихоньку приобщались к спиртному.
От всего остального мира школу отделяла литая чугунная ограда, через которую можно было легко перемахнуть, чтобы добежать до ближайшего гастронома за пирожками и сигаретами.
Именно сквозь витое литье этой ограды Семен впервые увидел Ольгу. Она бежала по залитой майским солнцем улице Володарского со стороны главной городской площади и бежала как-то смешно и неуклюже, отчего кто-то из десятиклассников показал на нее пальцем, а остальные дружно гоготнули. Смеялся и Семен. Откуда они могли знать, что минуту назад она во весь рост растянулась прямо возле памятника Ленину и здорово ободрала колени и руки. И уж тем более, они не знали, что девочка по имени Оля из соседней школы бежит в больницу к брату, который сломал ногу. Наверное, она так и убежала бы по своим неотложным делам, и память мгновенно упрятала бы ее развевающиеся волосы и чуть приоткрытый от сбитого дыхания рот под толщу других впечатлений, взглядов, выкуренных у этого забора сигарет, но провожавший ее взглядом Семен увидел, как что-то выпало из кармана ее плаща. Выкрикнутое вслед «эй, девушка» никакого результата не принесло, и ему ничего не оставалось, как перемахнуть через забор, чтобы подобрать потерянное. А потерянным оказался комсомольский билет. За утерю подобных документов в те времена хоть и не записывали во враги народа, но и по головке тоже не гладили. Взглянув мельком на фотографию, фамилию и имя, Семен положил корочки во внутренний карман пиджака, хотя кто-то из парней предложил его тут же торжественно сжечь или хотя бы разрисовать фотографию. Но в школе прозвенел звонок, и ватага тут же устремилась на очередной урок, сразу забыв об этом маленьком происшествии. Не забыл только Степан.
Семен позволил себе еще раз заглянуть в подобранный комсомольский билет, только оставшись с ним наедине. После уроков он примостился на скамейке в дальнем углу городского парка и стал внимательно его изучать. Девушке, как и ему, было шестнадцать. Никитина Ольга Максимовна, член ВЛКСМ с... Он рассматривал ее фотографию, и ему показалось вдруг, что он знает ее уже сто лет, точнее – знал всегда. А вот сейчас как будто заглядывает в ее жизнь с черного входа. Может быть, кто-нибудь и посчитал бы это недостойным занятием – сверлить взглядом чужую фотографию, желая через нее проникнуть во внутренний мир человека, но кто этого хоть раз в жизни не делал? Между «оплаченных» и неоплаченных взносами страниц была вложена типовая памятка, на которой аккуратным почерком был написан адрес владелицы. Будто знала, что потеряет.
К Ольге Семен пришел лишь через два дня. Все это время он собирался с духом и мыслями, а, говоря проще, искал повод, чтобы завязать знакомство. Он очень боялся прийти в ее дом и после возвращения утерянного документа получить дежурную благодарность, остаться ни с чем у закрытой перед носом двери.
Чего он хотел? Пожалуй, точно определить он не мог, но взгляд девушки на фотографии пробуждал в нем совершенно новое, еще незнакомое чувство, вкус которого он еще не понял. Ему и раньше нравились некоторые девчонки, но относился он к ним именно как к девчонкам. Не было, что ли, тайны, в которую, как в этот взгляд на фотографии, хотелось бы проникнуть. Наверное, это даже можно сравнить с открытием другого мира, загадочного и манящего, в котором пока что живет всего один человек. Никитина Ольга.








