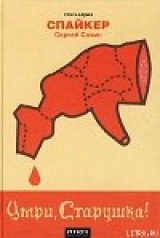
Текст книги "Умри, старушка!"
Автор книги: Сергей Сакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Додумался я только до того, что слишком часто стал задавать себе вопросы, на которые заранее никому не суждено ответить. Я, по-прежнему повинуясь не разуму, но рефлексам, подошел к витрине маленького магазина и провел ревизию карманов. Нашлась маленькая зеленоватая бумажка с цифрой десять. Память снова заработала: так, в этот момент я отчетливо вспомнил, что уходил из дома без денег. Во рту появился коньячный привкус – и откуда было пойло, спрашивается. Не давая мыслям достичь критической массы, я быстро купил бутылку пива и залпом опрокинул половину. Подошел к обочине и быстро поймал машину, согласившись на немыслимую сумму, названную бом-билой. Суммы в данной ситуации роли не играли, сколько бы ни запрашивали – все равно денег нет. Я развалился в кресле, задымил сигарету и впервые за день ощутил хоть какое-то подобие спокойствия. Потом я, кажется, задремал на несколько минут. Сон пошел мне на пользу, во всяком случае, на подъездах к родным краям я проснулся относительно бодрым и свежим. Происшествия дня сегодняшнего ни куда не исчезли, но я ощутил прилив сил и какой-то мстительной детской злобы. «Ну, я им покажу!» Что и кому я собирался показывать, было пока неясно. Я посмотрел на водителя и только сейчас отметил, что меня вез хач. Сразу пришла в голову светлая мысль, как расплатиться с водителем.
Я попросил его остановиться чуть не доезжая до дома. На всякий пожарный, люди разные бывают. Припрется еще с друзьями меня искать. Я сердечно поблагодарил невезучего таксиста и вышел из машины. Дальнейшие действия происходили гораздо быстрее, чем это можно описать. Водила заглушил мотор. Обойти машину вокруг я бы не успел и, запрыгнув на капот, перескочил на его сторону. Он в этот момент уже открывал дверь, и это было самое удобное положение для нападения. Дядька был довольно внушительный, и в иной ситуации я бы еще подумал, прежде чем с таким связываться. Но сейчас у меня был шанс, и я им воспользовался – сильно, весом всего тела я ударил ногой по двери, даже образовалась внушительная вмятина. Нога у хача, придавленная дверцей хрустнула. Он заскулил и не вышел, а выпал из машины, схватившись за поврежденную конечность. Теперь передвигаться на своих двух он не сможет. Он весь мой. Несколько секунд, в которые он выползал, как желе, из машины, мне хватило, чтобы спланировать свои ближайшие действия. Сначала я обрублю – ботинком по колену – ему вторую ногу, потом дам несколько раз по башке, а когда он упадет, я стукну – сверху вниз, всей подошвой, ему по затылку, так, чтобы его вонючую рожу размазало по асфальту. Высоко подпрыгну и приземлюсь ему на поясницу. И еще раз. И еще. Я почувствовал у себя на теле чью-то теплую ладонь. Поднял голову и (как тогда) ее зеленые глаза закрыли (заняли) весь мой мир.
– Что ты здесь делаешь?
Она молчала, и я увидел, что по щекам у нее, смешиваясь с висящей в воздухе влагой, бегут слезы. Она молча смотрела на меня, и я почему-то смешался, почувствовав себя неуютно, как нашкодивший школьник. Я обнял ее за плечи и быстро повел через дворы к нашему дому.
– Пойдем домой скорее.
– Кто это? – спросила она через некоторое время.
– Кто?
– Этот, из машины.
– Ааа. Не знаю.
– Не знаешь? А почему ты с ним дрался?
– Да, знаешь мы повздорили чего-то, пока ехали. Бля, ну не буду же я от какого-то чурки матюги выслушивать. – И самому стало неприятно от неубедительности своего голоса.
– Ты… У тебя такое лицо было…
– Какое?
– Ты., ты по-настоящему злой.
– А ты не знала? – я засмеялся флибустьерским смехом.
– Зачем?
– Что зачем? Я же сказал, я этих мразей всегда буду давить при первой возможности. Я…
– Зачем ты такой жестокий? У тебя глаза пустые были.
– Пустые?
– И сейчас тоже.
Пустые… она опять увидела то, что я и сам до конца не видел и не ощущал. Мы пришли к дому и зашли в подъезд. В лифте я посмотрел в ее заплаканные глаза, в них была смертная грусть, и я неожиданно для самого себя испытал прилив нежности. Я нажал на кнопку стоп и прижал ее к себе, ткнувшись лицом в мокрые волосы. Мы простояли так довольно долго, я целовал влажные пряди и слушал ее никак не желающее успокоиться сердце (а лед все не таял).
– Ты где был? – наконец оторвавшись от меня, спросила она.
– Пиво пил. Я гулял. Знаешь, я с друзьями плотно поссорился сегодня, мне чего-то так хреново стало… Я просто по городу шлялся.
– Почему же ты не приехал, не позвонил даже! Я ведь чувствовала, что тебе плохо! Правда, чувствовала!
– Да я верю… – сказал я, открывая квартиру и заходя в прихожую.
– Почему ты не приехал? – опять спросила она, обнимая меня.
– Не знаю… Не хотелось, чтобы ты видела, как мне хреново.
– Господи, но я же всегда-всегда хочу с тобой быть, в любой беде, только с тобой! И чтобы глаза у тебя такими страшными не были.
– Такими пустыми.
– Хм… знаешь, а я и правда какой-то выпотрошенный сегодня, как шарик сдутый.
– Из-за друзей?
– Из-за друзей, – в груди опять кольнуло.
– И ты поэтому дрался?
– Ну… да, – мне стало еще больнее.
– Ты же обещал, помнишь, обещал, что не будешь драться! Ты такой страшный, когда дерешься!
– Я?!! Обещал?!! Не драться?!!
– Зачем ты? Ты стал совсем чужой…
Наконец она вышла вместе с какой-то старой, переваливающейся из стороны в сторону каргой. Скорее всего, все школьные учительницы теперь такие – старые и разваливающиеся. Кто пойдет на эту каторгу, кроме тех, кому некуда идти? Ее я, честно говоря, так и не смог понять, и оставил свои увещевания при себе с мыслью «чем бы дитя ни тешилось». Я сделал последний глоток, бросил бутылку и вышел на свет. Свет, конечно, сильно сказано, но одна лампочка на непомерно высоком для нее фонаре старалась, как могла. Уже по повороту ее головы я понял, что она ждала меня. Я приблизился и вежливо, как только мог, поздоровался с каргой. Потом посмотрел на нее. Карга благосклонно осмотрела меня, улыбнулась и, попрощавшись, судя по ее взгляду, с кем-то невидимым в пространстве между ее и моим лицом, поковыляла в темень одна.
– Привет, как дела?
– Хорошо.
– Устала? – можно было не спрашивать, ее вид был достаточным ответом.
– Устала…
– Пойдем, машину возьмем.
Я расценил молчание как знак согласия и, взяв ее за руку, повел ее к дороге. Мы ехали в такси, сидя на заднем сиденье, и я крепко прижимал ее к себе. Ведь если прижаться крепко-крепко, то можно вытопить весь лед, наросший не по сезону между нами. На поворотах нас клонило друг на друга, и иногда мы прикасались щеками. Тогда я чувствовал влажную дорожку на ее коже. Эх, страсти-мордасти… Всю дорогу мы провели молча, только один раз, когда я судорожно глотнув, подавил в себе икоту, она спросила: «Ты не пьяный?» – «Нет», – ответил я. В этот момент машину опять заносило, и я не знаю, прижалась ли сильнее она ко мне, или это было действие внешних сил.
Лифт, кажется, стал третьей, мобильной комнатой нашей халупы. Что-то вроде исповедальни. Магический квадрат. Когда мы в него зашли, я еще почти физически чувствовал сопротивление ее обиды, когда вышли и наперегонки искали в темноте ключи, я уже знал, что она меня простила. Готовить было лень, и мы просто пили чай из нового чайника, закусывая его печеньем и прочими сластями. Я еще подливал в свою кружку коньяк {она при этом брезгливо морщилась), и вообще мы выглядели до ужаса благопристойно. Только было заметно, что каждый раз, кроме комичной брезгливости, в ее глазах метались искорки тревоги. И каждый раз меня это слегка бесило, как бывает, если пенопластом водить по стеклу. Но я каждый раз благоразумно давил эти всплески, вызванные, скорее всего, просто невыветрившимся похмельем.
Когда я прижимал ее к себе, ощущая голыми руками холодки ночных сквозняков, и веки были уже налиты легкой тяжестью сна, по телу пробежал будоражащий электрический разряд. Так бывает, когда уронишь бутылку, купленную на последние деньги, и снова поймаешь уже перед самым асфальтом. Это и есть счастье – иметь человека, которого всегда можно к себе прижать. Быть с тем, кто никогда не бросит. И будь я проклят, если попытаюсь растянуть это еще хоть на одну строчку.
ГЛАВА 40-6
Зазвонил телефон. Я чуть не выругался вслух – вылезать из этого уютного гнезда абсолютно не хотелось. Скорее всего, это звонила матушка – кто еще может трезвонить спозаранку. С тех пор, как мы обосновались в этом логове, здешний телефон узнали считанные единицы. Если меня спросят, почему я ушел в шифры и скрываю наши цифры я, пожалуй не смогу ответить на этот вопрос. Может, это было желание обезопасить нашу жизнь сверх всяких пределов, оградить ее от посягательств любого сорта, пусть если даже это будут друзья, возжелавшие угостить меня (нас) полуночным пивом. Счастье, свалившееся на меня быстрее и сильнее (и неожиданнее), чем способны переваривать мои печенки, в своем неправдоподобии казалось хрустально-ранимым, ненадежным. Один взгляд, разговор, звонок – и разрушится этот карточный домик.
Короче, телефон звонил. Трезвонил, не переставая. Любопытство пересилило лень. Кряхтя и матерясь себе под нос, я выполз из кровати и подошел к телефону. Но когда снял трубку, раздался один длинный гудок – не успел. Я снова выругался и вернулся в спальню.
Я нырнул под одеяло и прижал ее к себе. Я до сих пор не мог привыкнуть к ее телу, каждый раз, обнимая, чувствовал какую-то недоверчивую оторопь. Но теперь… теперь между нами была еще и пропасть не желающего таять льда. Как будто я обнимал принесенное с холода полено. Она встала и, быстро одевшись (она по-прежнему все делала быстро), поехала к своим предкам, которых я называл тестем/тещей, испытывая при этом оттенок мрачного удовлетворения, мазохистски признавая свою от нее зависимость. Я дремал еще около часа, потом поднялся и, отжавшись полсотни раз от пола, для бодрости, пошел на кухню, прикидывая, чем набить желудок.
Я сел за стол и подвинул плоскую коробку телефона, в голове зашевелилось какое-то смутное воспоминание, он, кажется, звонил еще несколько раз, пока я спал. Интересно, кто бы это мог быть? Словно отвечая на вопрос, телефон зазвонил. Прям Смольный какой-то, – подумал я, беря трубку. Звонил Стеке, мой давнишний приятель, один из немногих обладателей знания о моем номере. Стеке уезжал вместе со всей бандой на запад, но растафариан-ская медитативная лень, текущая в его жилах вместо крови, заставила Стекса остаться зависать в Польше, вместе с новоприобретенными дружками-травокоурами. Проламывать границу ему было лень. Вернулся он тем не менее в числе последних.
– Привет, Спайк!
– О! Хохо, здорово, братец, тыщщу лет, тыщщу зим! Как щщи?
– Бессипа щщи! Ты в курсе?
– В курсе чего?
– Главного события сезона! Сегодня Пес приезжает!
– Да ну?!
– Гну! он звонил уже из Бреста, уже едет. Поехали, встретим его?!
– Да что за вопрос, в обязат поедем!
Мы приехали неожиданно раньше предполагаемого, или, наоборот, поезд задерживался – мы довольно долго стояли на перроне, покуривая сигареты и обсуждая необходимость оркестра и ковровой дорожки для встречи друга, а также относительный процент телок, едущих подработать на Тверской, к общему проценту пассажирок. Стекса я, как и Пса, не видел с начала лета, и сейчас мне было радостно смотреть на его веселое лицо с вечно обкуренными глазами. Оттого что я сейчас увижу брата, я испытывал какое-то незнакомое ранее волнение. Честно говоря, последнее время я редко вспоминал его, как и всю свою предыдущую жизнь. Может быть, я где-то как-то чувствовал, что такая жизнь в розовых соплях не может быть вечной, и отдавался любви на всю катушку, а может – я просто сам изменился. Да, изменился. И я без всяких эмоций замечал, что у меня все реже и реже возникает желание звонить своим друзьям-приятелям. Мне было очень больно тогда, когда она плакала, и я больше не проверял ее отношение к уличным приключениям. Стексу я рассказал о том, что в этом сезоне ни разу не был на мячике, и он одобрительно поднял брови. Он недолюбливал фанатов и не уставал проповедовать пацифизм. Когда-то давно мы договорились с ним не касаться скользких тем – что можно делить двум выросшим вместе друзьям.
Поезд показался вдалеке, и я узнал полузабытое чувство – в детстве я бегал на железную дорогу и смотрел на проезжающие поезда. Мог смотреть часами, терпеливо ожидая следующего. Считал вагоны, издалека «по морде» различал пассажирские, электрички и товарняки. Любимыми были пассажирские. Я мечтал, став большим и серьезным, так же ездить по делам в разные города. Читал быстро пролетающие таблички с названиями «Москва-Ленинград», «Москва-Киев», всегда свежевыкрашенные и умытые «Москва-Варшава» и «Москва-Прага»…
Я до сих пор люблю поезда и терпкие запахи вокзала, хотя теперь это вызывает у меня саавсем другие ассоциации. (Да и уважаемые читатели на словах «терпкие запахи» наверняка подумают о смраде чурецких беженцев, обитающих по вокзалам. А я о другом.) Поезд натужно засвистел и замедлил ход, издавая тормозящий звук, вызвавший кратковременную зубную боль. Вагоны еще двигались, и перрон пока не заполнился (каловой:)) массой людей с огромными баулами и забавным бульбашским выговором, когда на асфальт московской земли спрыгнула высокая фигура и, сильно мренясь, пробежала несколько шагов, гася инерцию. Мы со Стексом наперегонки бросились к Псу. Он, заметно прихрамывая, шел по перрону, и лицо его было удивленным – он не ожидал, что его кто-то встретит. Подбежав к нему, мы притормозили. Пес смотрел мне в глаза, кажется, даже не замечая Стекса. Чего это он? Я вскинул руку вверх и выкрикнул: «Зига-Зага!», улыбаясь до ушей. «Знаешь, я даже скучал по тебе, уродец!». Его лицо оставалось напряженно-серьезным, и когда он сделал полшага назад и молниеносно занеся руку далеко за ухо, ударил меня длинным тяжелым прямым ударом, только губы сжались чуть сильнее. На какой-то отрезок времени перед глазами была только темнота с фейерверками разноцветных искр, а в ушах – только шум. Когда ко мне вернулось сознание, я обнаружил себя лежащим на асфальте. Вокруг раздавалось шарканье множества ног, приближаясь ко мне, ноги выписывали небольшую циркуляцию. Ну да, как всегда, все предпочитают не вмешиваться.
– Блин, Пес, ты охренел?!!
– Пусть думает в другой раз, заебал со своим фашизмом.
– Да ты чего?!! Он же всю дорогу такой, всегда все нормально было!
– Ага, нормально. Я из-за этих лидеров два месяце в больнице лежал, твари, налетели, все с битами, с арматурой какой-то…
– Так ты с бритыми махался?! А Спайк бегал, орал, что теперь ниггерам в Москве не жить – он типа вендетту за тебя учинит.
– Они-то тут причем?
– Да, честно говоря, мы все думали, что ты на черных налетел.
На этих словах я поднял голову. Пес смотрел на меня все таким же серьезным взглядом, Стеке – с сочувствием. Пес грязно выругался, поправил за спиной маленький рюкзак и ушел из поля зрения. Стеке проводил его взглядом и сел на корточки.
– Да, ну вы даете…
– Ублюдок. На перо его посажу!
– Эй, ты чего говоришь такое! Вы ж братья! – Иди на хуй!
Я подобрался и встал. Пока только на четыре точки. Перрон угрожающе накренился, но мне удалось сохранить равновесие. Я смотрел вниз. Глубоко вздохнул, и с выдохом на асфальт упала багровая капля. Багровая клякса. Точка. Конец предложения.
Еще через несколько секунд я, наконец, окончательно пришел в себя и встал на задние конечности. Стеке с всепонимаюгдей грустью в глазах протянул мне не первой свежести носовой платок. Я взял его и совершенно машинально стал водить им по лицу. Потом посмотрел – платок покрылся размазанными запятыми моей крови. Я побрел к зданию вокзала.
– Проводить? – вдогонку спрашивал Стеке, идущий за спиной.
– Дружище, очень тебя прошу, иди сейчас на хуй.
– Спайк, давай посидим где-нибудь, пивка попьем, откиснешь. Не бычься, помиритесь еще.
– Отвали!
…Я обнаружил себя сидящим в каком-то подъезде. Задница успела замерзнуть, ступенька была холодная. В руке у меня была почти пустая стеклянная фляжка с пойлом, на этикетке обозначенном как «коньяк». Я оглянулся и с облегчением увидел, что подъезд – мой собственный. Но как я здесь очутился? Посмотрел в окно – день уже закатывался, было почти темно. Наморщив лоб, я попытался восстановить последовательность событий дня сегодняшнего. Но где я был и чем я там занимался, узнать было невозможно. В голове мелькали лишь какие-то мутные кадры. По всему получалось, что весь день я провел на автопилоте.
Я встал, конечности захрустели, в ногах приятно закололо. Я потянулся, крутанул несколько раз головой, от чего подъезд несколько раз провернулся вокруг меня. Кажется, я был в нахуи-ну пьян. Как сапожник.
Я поднялся на два этажа вверх и зашел в квартиру. Было совсем темно – она еще не вернулась. Раздевшись, я зашел в ванную. Зеркало послушно отразило мое лицо. Посередине кра– совалась огромная слива, в которую превратился мой нос. Да, удружил братец. Пес… За последние годы мы столько всего пережили вместе, деля по-братски одну биографию на двоих. Я все смотрел и смотрел в зеркало, меня чуть заметно качало. Я вспоминал. Точнее, не вспоминал, перед глазами сами появлялись картинки прошлого: вот мы отбиваемся от чурок в Осетии (он же всегда соглашался со мной! Чурки бесили его не меньше моего!), вот мы являем собой оживший кадр из фильма «Трэйнспоттинг» – несемся со скоростью света по улице, в руках у Пса музыкальный процессор, трофей из музыкального магазина, вот…
Горло сильно сдавило, я даже не мог несколько секунд продохнуть. Я вышел из ванной, прошел по темной квартире на кухню. В морозилке холодильника лежала бутылка белой, оставшаяся еще с новоселья. Так и не включая свет, я на ощупь нашел пепельницу, вытащил полбуханки черного хлеба, луковицу – и свернул бутылке голову.
ГЛАВА 41
Дикую головную боль я почувствовал еще до пробуждения. Я, собственно, от нее и проснулся: наверно, пошевелил во сне головой и в ней громыхнуло так, что меня разбудил болевой рефлекс. Я попытался открыть глаза – это получилось не сразу, а когда я все-таки разодрал веки, то сразу пожалел об этих титанических усилиях – свет резанул так, как если в глаза воткнули две спицы и они прошили голову насквозь. Я опять их закрыл и не открывал еще долго, балансируя на грани забытья, приступы тошноты, накатывающие каждые пять минут.
– Сережа!
– Мммм. Ох, бля!
– Сережа, посмотри, как ты спишь!
Смотреть не было никакого желания, тем более не было и возможности – если бы я сейчас оторвал голову от подушки, то умер бы сразу от кровоизлияния в мозг. Тем не менее во мне затеплилась искорка интереса, уж больно странно звучал ее голос. В нем было и возмущение, и удивление, и сдерживаемый смех, и еще что-то, что в моем состоянии различить было невозможно. Да и тело испытывало какой-то необычный дискомфорт. Я, стараясь не шевелить головой, протянул руку и ощупал свою грудь и живот. Кажется, я лежал в одежде. Наконец, я продрал глаза и даже чуть приподнялся на кровати: я лежал поверх одеяла, в джинсах (на коленях было два темных пятна), в свитере, на котором запеклись капли крови и в ботинках. От подошв на постели остались грязные пятна и крошки земли.
– Оох, охохох, бля!
– Сережа, как же ты на работу пойдешь??!
– На хуй!
– Что? Работу?
– Все на хуй! – я неосторожно махнул рукой, и в голове немедленно взорвался новый снаряд боли, снесший мне полчерепа и снова уложивший меня на подушки.
– Ладно, милый! Ты поспи еще, я позвоню, скажу, что ты заболел.
– Мммм…
– Сережка! Ты вчера так напился! Ты так напился!
– Ммм. АО я ох! Мм бля! ме за. ох! юуу.
– Что? – судя по звукам, она нагнулась ко мне.
– А то я не знаю, – повторил я.
Она засмеялась и поцеловала меня в лоб: «Пьяница-алкоголик!». Снова я пришел в себя от еще одного поцелуя. Голова по-прежнему трещала, но глаза я смог приоткрыть сразу. От нее пахнуло свежим запахом, который подарил я.
– Я побежала! Я тебе сок налила, и там бульончик горячий на кухне стоит, вставай скорее, пока не остыл!
– Эээ. Лучше бы пэа!
– Перебьешься! Я на работу позвонила, сказала, что у тебя зуб заболел и ты к стоматологу поехал.
– Спасибо, – сказал я, не чувствуя при этом никакой серьезной благодарности. Да и вообще ничего не чувствуя, кроме оформляющегося желания опохмелиться. Она поцеловала меня еще раз («я тебя все равно люблю»), раздался звук шагов, «хлоп» входной двери и скрежет ключа. И тишина. Помогая себе матюгами, я сполз с кровати и побрел на кухню, по дороге поправляя съехавшие за ночь на бок джинсы. В глазах было мутно. Добравшись до кухни, я взял непослушными руками сок и опрокинул его в себя. На пару минут полегчало, и я, сев на табуретку, вытащил из лежащей на столе пачки сигарету. Я знал, что сейчас первая же затяжка вывернет меня наизнанку, но почему-то все равно закурил. Горький дым чуть перекрыл вонь и помоечное ощущение во рту (как кошки наорали), но, конечно, затошнило. Я вскочил {в голове тюкнуло) и, насколько возможно быстро, отправился в ванную. Включил холодную воду и долго плескал ее на лицо, потом выдавил прямо в рот большой ком пасты и вяло помешал его зубной щеткой. Выплюнул, еще несколько раз ополоснулся. Высморкался – из носа на ладонь вылетели кровавые сгустки. Я выключил воду, выпрямился и увидел свою опухшую физиономию со сливой посередине. И вчерашний день стремительным ударом вошел в сердце. Я словно еще раз получил сокрушительную плюху в переносицу, прилетевшую от моего стокилограммового брата. Опять побежали картинки: вот мы спим на лавочке в городе туманов, вот пьем виски и портвейн, сидя у камина. Голова тут же загудела от плохо выносимой боли. Хуже было то, что боль отдалась в грудь, и сердце заболело так, что нельзя было продохнуть. Я плюхнулся на прохладный пол. Через несколько минут голова успокоилась, словно отвалившись. Черт знает почему (может, просто я разучился за последние месяцы пить), но я поднял вверх голову и завыл. И выл очень долго, пока не почувствовал какое-то облегчение. Тогда я встал, накинул в прихожей куртку и вышел из дома. Через несколько минут я вернулся. В руках у меня были четыре бутылки пива, в карманах – две пачки сигарет, кусок колбасы. За пазухой – бутылка водки. Пройдя на кухню, я первым делом выпил бутылку пива. Кошмарная муть перед глазами посветлела. Через пять минут я чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы запихнуть в себя пару бутербродов, не вышвырнув их тут же обратно. После этого я взял тяжелый стакан для виски и налил в него водки. Я постарался проглотить хань одним глотком, чтобы вкус водки не осел на языке. Запил водой, отдышался. Закурил сигарету, потом почти сразу еще одну и еще. Я все не мог накуриться и высаживал сиги одну за другой, иногда открывая окно, чтобы выпустить висевший пластами дым из кухни.
Когда я выпил почти половину бутылки и залакировал все двойным пивом, я, впервые за день, улыбнулся. И сразу задумался – с чего это я. Голова была прозрачно ясная и легкая, думалось легко. Наверно, поэтому я и улыбался – тяжелое похмельное отравление прошло. Я решил пройтись, погулять. Как-то последнее время я подолгу торчал на работе, а потом спешил на другой конец города. Ее школа, точнее, колледж находился в самом настоящем Задрищенске (Митино), и, представляя, как она раньше возвращалась с работы одна, я покрывался холодным потом. Она всегда очень уставала, я обычно ловил машину, и мы, обнявшись, молча сидели на заднем сиденье, иногда она даже засыпала. Потом мы валялись на диване, смотря какой-нибудь фильмец, или, причудливо переплетясь наподобие тяни-толкая, читали книжки, откинувшись на разные спинки дивана. В общем, даже не помню, когда я последний раз гулял днем.
Я выпил на посошок, потом стременную и, прихватив с собой бутылку пива, вышел на улицу. Я не особо хорошо знал этот район и потопал к единственному известному мне чахлому бульвару. В голове проскочила мысль, показавшаяся мне самому какой-то подленькой. Это из-за ее вечной усталости я до сих пор не изучил местность, на которой теперь обитаю.
Бульвар был засыпан коричневыми листьями, золотая пора уже прошла, и деревья стояли голые, вытянув к небу мосластые ветки. В воздухе сильно пахло прелой листвой, и сам воздух был зыбко-нежный, прозрачный. Он бывает таким только в последние недели осени, до первого снега. Я сошел с асфальта и побрел между деревьев, специально шаркая и загребая ногами листья. Запах тлена усилился. Несмотря на середину дня, было очень тихо (только где-то далеко-далеко работала машинная сигнализация), и шорох листвы под ногами был отчетливо слышен. Я закурил, ощутив вкус сигареты – вкуснее, чем всегда, все из-за этой осени. Вдруг я почувствовал себя очень одиноким. Это было так больно, что я чуть не заплакал, как кляйне кин-дер. Летом, какие-то несколько месяцев назад, я часто гулял один, одиночество меня не тяготило. А теперь. Теперь я как будто избаловался общением, имея рядом человека, понимавшего меня всегда и без слов. А, может, летом я и не был по-настоящему один? Я вспомнил карту на стене офиса, это постоянно сидевшее в подкорке тревожное ожидание звонков, вспомнил глумливые рожи ребят из бригады… А сейчас? Сейчас я один, совсем один, и человек, который делал меня неприлично счастливым, куда-то делся, она не со мной. Я запрокинул голову вверх и выпустил в мягко-серое небо струйку дыма. Деревья как будто наклонились, вытягивая свои руки надо мной. И от этого стало еще хуже. И, по закону какой-то подлой гармонии, в воздухе расплылась мерзкая вонь.
Я (чего и следовало ожидать) наступил в собачье дерьмо. Злобно ругаясь, я выполз на асфальт и, оставляя коричневые полосы, попытался очистить подошву. Я елозил ногой по дорожке, и проходящий со своей бабушкой мимо ребенок радостно засмеялся. Кое-как почистившись, я плюхнулся на скамейку. Гулять по листве мне совсем расхотелось, но от этого мелкого происшествия сразу прошла вся тоска. Я даже разозлился на себя – разнюнился, как баба! Вдруг вспомнилось далекое-далекое: «Если стелешься перед бабой, значит сам ты – слизь». Да ведь так оно и было!! Так и есть!! Я представил себе ее лицо, ее пальцы в моей руке – и неожиданно закипевшая злость исчезла. И опять стало тихо и пусто.
Я сделал глоток пива из бутылки, открытой еще в подъезде, но в рот полилась только пена. Я отшвырнул бутылку и пошел по бульвару, выискивая какой-нибудь магазинчик. Так я прошлялся до самого вечера. По дороге домой я отметил, что, хоть меня и чуть покачивает и дикция при последнем заходе в магазин слегка сбилась, мозги по-прежнему кристально чисты. Капающий дождик освежал мое горящее лицо. Как там это пелось: «I’m singin’in the rain, Eyah, I’m singin’in the rain…»
Она открыла дверь и с тихой улыбкой прильнула ко мне, потом отодвинулась:
– Ой, а ты что такое пил?!
– Да, в общем, ничего. Так, пивка немного.
– А где ты был? Я весь день звонила, уже волноваться начала.
– Да гулял я, тут, по району шатался.
– Без меня… – в воздухе завибрировала обида, и мне захотелось отмахнуться от нее, как от мухи. – А я тоже так давно хотела погулять, тыщщу лет с тобой не гуляли, а летом ты меня все выгуливал, а теперь… – она в полушутку {и вполусерьез) сдвинула обиженно брови, выпуклый лоб покрылся морщинками.
– Слушай, понимаешь, вчера…
–:(
– Солнце, перестань!
Эти морщинки всегда хотелось поцеловать (я так и делал), но сейчас испытал глухое, терпеливо прячущееся раздражение. Меня добила это обида из-за какой-то хуйни, просто захотелось, чтобы я ее понянчил. Она почувствовала это и молча отправилась на кухню, ставить чайник. Она знала про мою страсть к чифирной крепости, черному чаю и всегда готовила его, когда я приходил (точнее, мы приходили) домой. Я скинул куртку и нагнулся, расслабляя высокую шнуровку ботинок. Один узел никак не хотел развязываться, затягиваясь все туже. Раздражение усилилось, и я просто сильно дернул непослушного гада, разорвав его. Стянул обувь и прошел на кухню. Совсем недавно я (когда?) стоял так же. Лицом в темное стекло, плечи бессильно опущены. Ее волосы рассыпаны по чуть сутулой спине. Я впервые увидел, что с тех пор, как я впервые увидел ее, они заметно отросли. Раздражение не пропало, но изменило свое направление – теперь (есть маза, для разнообразия:)) я злился на самого себя. Она ничем не заслужила, чтобы ее обижали. Я подошел сзади и взял ее за плечи, выпрямляя спину. – Опять сутулишься? Зачем ты мне горбатая? – она едва ощутимо вздрогнула, шутка не удалась.
– Ты опять злишься на меня, ты стал на меня злиться!
– Милая, ну ты что? Что ты?
– Я же чувствую все! Ты чужой становишься!
– Но… чт. ДА пАчему???!!!!!!!!!
– Ты пил вчера где-то, сегодня без меня гулять ушел, – она вздрогнула еще сильнее. – Оххх. Ну что ты городишь?! Блин, ну перепил я с ребятами, что за похороны-то теперь! С тобой, кстати, жил – вот и пить разучился!
– Воот… – она вздрагивала все крупнее.
– Да что «воот»?!! Ты хоть нормально объяснить можешь?!!
– Ты и сейчас на меня опять злишься:{…
БЛЯШ!!! ДА ТЫ СЕРАФИМА РАЗОЗЛИШЬ!!
– ?:(
– САРОВСКОГО, БАЯ!
Она опять ссутулилась, резко подняв руки и закрыв уши (голову). И сразу оказалась в прозрачном коконе. За тысячу миль от меня. На другом берегу каньона.
– Солнце?! Милая, ну прости меня, пожалуйста, прости! Блин, я сорвался что-то… – и лепетал еще какой-то бред.
Она словно оглохла и лишь чуть подняла выше плечи. Так делают боксеры, желая защитить уязвимый подбородок. И вот тогда я разозлился по-настоящему. Схватил что-то удобно-круглое и ударил, не целясь, изо всех сил. Так, что еще долго потом болело плечо.
Раздался звонкий «дзззынь!», через мгновение «дзынъ! дзынь!» помельче. На стене расплылась огромная карта неведомой страны, по кухне разлетелись, ударяясь о мебель, осколки. Я переступил, и один из них впился мне в ногу.
Хана чайнику. Его подарили те самые тесть с тещей. Я представил себе, КАК она им это преподнесет, и разозлился от этого еще больше. Она уже плакала в голос. Я понял: еще секунда – разрушения примут характер необратимых, и выскочил из квартиры, на ходу впрыгнув в ботинки и схватив куртку. Выскочив на лестничную клетку, я шарахнул дверью так, что зазвенело в ушах. Лампочка мигнула и погасла, лестничный пролет погрузился в темноту. Сделав шаг в сторону, я немедленно сверзился с лестницы, прогремев костями по каждой ступеньке. И, стукнувшись в довесок локтем, распластался звездой на пол-этажа ниже. Сориентировавшись в пространстве, перевалился на бок, потом сел, притянув к себе колени и нащупал в руке мертво прихваченную пачку сигарет. С трудом разжав пальцы я разворотил пачку, на ощупь нашел окурок подлиннее и закурил. Ну и денек… Через затяжку, когда я понял, что курю фильтр, сил выругаться уже не оставалось. Ну и денек…







